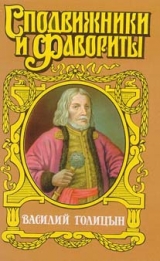
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Ясное дело, – отвечал князь Василий. – Протопоп – пешка. Наверняка есть и другие фигуры – посильней да повыше, которые таковые грамотки получили. Но мы сделаем вид, что ничего не ведаем, однако же будем настороже. А вечный мир нам дороже любой ссоры, – заключил князь Василий.
Глава третья
Пять и одна
Не грело, не горело, да вдруг осветило.
Хороша сестра, коли востра.
В своей-то семье всяк набольший.
Хороша семья, коли в ней семь я.
Народные присловья
Свидетели
И потом она, царевна София Алексеевна, учинила судей: в Расправную палату князя Никиту Ивановича Одоевского, в Посольский приказ – князя Василья Васильевича Голицына, в Разряде – дьяка думного Василья Семенова. Для того из знатных не посадила, чтобы подлежал к ней и к князю Голицыну. Также в Стрелецкой приказ – дьяка думнаго, в Поместной приказ – князя Ивана Троекурова и ему товарища своей же партии. Во дворец, после смерти дворецкаго князя Василья Феодоровича Одоевскаго, посадила окольничего Алексея Ржевскаго, в Казанской дворец – кравчаго князя Бориса Алексеевича Голицына, которой был всегда партий главным царя Петра Алексеевича, и его одного употребили в дело для потешения той партии. В разбойной приказ – думнаго дворянина Викулу Извольскаго. Иноземной приказ и Иушкарской – Венедикта змеева, а под ведением князя Василья Васильевича Голицына. В судной Московской и Володимерской кого – того не упомню… А другие все вышеупомянутые были партии царевны Софии Алексеевны.
И тогда ж, в бытность в Воздвиженском дворец сгорел, где царь Петр Алексеевич был болен огневою. И едва в ночи от того пожару могли унести из хором, и причитали, что тот пожар нарочно учинен от царевны Софии Алексеевны, дабы брата своего, царя Петра Алексеевича, умертвить и сесть ей на царство.
Князь Борис Иванович Куракин. «Гистория…»
– Пора мне, сестрицы, от вас съехать да самой жить, – объявила царевна Софья пятерым своим сестрам-царевнам.
Нет, не старшей средь них она была, а средней. Но Господь по неизреченной своей милости умудрил ее, так что стала она главной правительницей.
– Скушно да тошно тебе будет, сестрица, – стала было увещевать ее царевна Марья. Была она бойка, бойчей остальных, да только уступала средней в ловкости да быстроте соображения.
Когда царь Федор покоился на смертном ложе и уж доктора отчаялись вызволить его, одна Софья сообразила, что надобно от него не отходить. Косились на нее бояре, промеж себя говорили, что-де не по чину ей в таковой момент быть при государе, что-де только после того, как смерть смежит ему очи, надлежит ей и другим членам царской фамилии оплакать его. Однако Софья делала вид, что не замечает боярского недовольства и не отходила от братнина ложа. И пришлось боярам примириться. Привыкли. Скорей, приучила она их.
А когда царь Федор отошел в вечность, голосила она, не жалея глотки. Так, что баб-плакальщиц перекричала. И за гробом тащилась, голося, что вовсе не пристало. И опять пришлось боярам да патриарху смириться – царская дочь. А что остальные сестры покойного и оставшийся его наследник царевич Иванушка чинно следовали за процессией и слезы лили, не роняя достоинства, то было само собою.
Так вот она и выделилась. И всегда прежде других подавала голос. И смело держалась меж бояр. Приучала их – тучных и важных. Долго; Меж них шел разговор: всяк сверчок знай свой шесток. Ну и что, что она царевна. И царевна должна свое место знать. Баба – в Думе. Такого николи не бывало! Тут и духу бабского не должно быть. Хоть бы и царица – того тож не случалось.
Всё – стрельцы. Надежда и опора. По первости великий страх объял, когда они кололи да рубили самых почтенных да знатных. А пьяные и вовсе озверели. Так, зверьми, и шастали по Кремлю, по хоромам кремлевским, по Москве. Никто и ничто не ставало поперек. Сбрасывали на копья, рубили в мелкие куски тех, кто перечил; Все в крови, в кровавых ошметках, в человечине.
Такого ужаса никто не ведал. Что война? На войне не случалось бойни. А тут 15 мая 1882 года была бойня хуже скотской. Облик человеческий стрельцы потеряли и начальников своих распинали. Ревели ревмя, в сотни глоток. Волокли исколотых, порубленных, вовсе не узнаваемых бояр и вопили:
– А вот князь Долгоруков собственной персоной шествует!
– А вот боярин князь Ромодановский едет!
– А вот думный дьяк Ларивон Иванов по кускам!
Грохотали барабаны, не умолкал набат, над Москвою носились тучи переполошенных галок и ворон. Все, кто мог, прятались в погреба, в овины. Сам патриарх Иоаким дрожмя дрожал: наступали на него пьяные стрельцы, вопили:
– Не мешайся, не твое это дело, и попов своих не мешай, не то мы и их порубим.
Патриарх было молвил:
– Бога побойтесь, ведь христиан безвинных губите.
– Бога не боимся! Бог за нас, Господь нашей веры – старой, отеческой!
Стрелецкий голова князь Иван Хованский по прозвищу Тараруй, тож за раскольников, оттого и любим стрельцами, шествовал меж орущих. Они внимали каждому его слову. А он, как бы между прочим, наказывал:
– Нарышкиных ищите. Нарышкины ваши главные губители.
Бросились искать Нарышкиных. Выволокли Афанасия, брата царицы Натальи, зарубили его, убили Ивана Фомича Нарышкина, хотели было сбросить на копья отца царицы Кириллу Нарышкина, старца почтенного, царица со слезами умолила пощадить его.
– Пущай идет в монастырь. В Кириллов – его имени! – ревели стрельцы. А Хованский продолжал нашептывать:
– Ивана, царицыного брата, ищите, он царские регалии примерял.
Долго искали Ивана, рыскали по закоулкам, по чуланам, в церкви без опаски заглядывали. Нашли-таки.
Царевна Софья смекнула: настал ее час. Коли стрельцы побивают Нарышкиных, может наступить черед и ненавистной мачехи и ее отродья – Петрушки. Подозвала князя Хованского, отвела в сторонку и вполголоса молвила:
– Князь, ждут тебя награды ото всех Милославских. Наш род – истинно царский, тебе то ведомо. Нарышкины – великие наши недруги. Вам бы начать с царицы. А за нею и…
Не договорила: и без слов понял Тараруй, кого имела в виду царевна.
– С тобой я, государыня царевна, – только и сказал. – Ступай к себе – сделаем.
И когда царевна исчезла, обратился к толпе:
– А не выгнать ли, дети мои, царицу Наталью из дворца? Она ведь тож нарышкинского роду.
– Любо, любо! – завопили из толпы. Но чей-то голос выкрикнул:
– Нельзя царицу! Мать она царевича Петра. Он же законный наследник.
– Не трожь царицу! Мы не с бабами воюем! – поддержал его другой.
Зато младшего брата царицы Ивана, хоть вышел он с иконою к убийцам, поволокли, терзали зверски и тоже в куски изрубили.
Три дня длилась кровавая оргия. То были Софьины дни. Она и вовсе осмелела, приказала выкатить стрельцам бочки, выдать по десять рублев на душу – громадные деньги. Хованский был ее, стало быть, и стрельцы были все ее. Она чувствовала себя хозяйкой положения. Призывала Хованского, толковала:
– Весь бы корень нарышкинский вывесть. С царицею оплошали – в первый день следовало. Когда угар был. А теперь бы в монастырь ее спровадить.
– Замах пропал, государыня царевна. Ноне ее от царевича Петра никак не отделить. Дума соберется на избрание царя – его выкликнут.
Понимала Софья – так тому и быть. Оставался братец Иванушка. Один у него козырь был – старшой. А так главою скорбен, полуслеп, тих – всем то ведомо. Подговорить бы кого, когда земские люди да бояре станут царя выбирать, чтобы выкрикнули Ивана: он-де старший. Главное – крик чтоб был.
Была она во все эти дни необыкновенно деятельна. Трясла князя Василия, чтоб своих людей вербовал. Всех, кого можно было, к себе призывала, дабы горою стояли за Милославских: они-де на царстве первые, законные, им власть и посты.
Более всего полагалась на князя Хованского. Видела и убедилась: стрельцы во всем ему повинуются. Он их своими детьми кликал, а они его батюшкою. Но уж кровавая буря отбушевала, стрельцы являлись в Кремль вроде бы притихшие, без оружия. Правда, требовали, чтоб имение побитых бояр им было роздано, чтобы все их приверженцы были сосланы в дальние города, в Сибирь, но уж с этим сладить было можно.
Прав был, однако, Хованский: замах пропал. Царевича Петра назвали царем. За него стояло большинство. Про Ивана поминали меж собою. Однако Софьины конфиденты не дремали: вели речь, что Иван-де старшой, что грех оставить его в стороне, что надобно и его посадить на царство вместе с Петром.
Двоецарствие? Николи такого не бывало. Стали было противиться, но крикуны загалдели, что он-де первый и законный и быть братьям на царстве вместе. А покамест пусть их старшая сестра Софья, как самая разумная, правит государством.
Так и сделалось. Тут уж дала царевна полную мочь своему голландцу – князю Василию Голицыну, ибо был у него ум истинно государственный. И стал он ее устами. И все были в согласии, и пошли дела в гору.
И вот после всего этого интерес ее требовал жить в особицу от сестер.
– Такое нынче у меня положение, сестрицы, что надобно мне жить в своем терему, а вам, даст Бог, я каждой свои хоромы исхлопочу, была бы только моя власть. Разве ж я не вижу, что у вас своя жизнь пошла.
– Верно, Софьюшка, – поддержала ее говорливая Марья. – Нам всем стеснительно стало. Чего там скрывать – у всех свои галанты.
– Меж нас скрывать нечего, мы свои, – возразила Софья, – однако же от мира да духовных таиться надо. Ибо коли разговор меж народа пойдет, всему нашему царскому роду Милославских великое осуждение и срам.
Завздыхали царевны, потупились. На каждый роток не накинешь платок: разговор о срамном поведении сестер выкатился уж из хором и пошел себе гулять по Москве, а может, и подалее. Обидно. Неужто сидеть им в девках до седых волос, до кончины, когда окрест сладостному греху почитай все предаются? Принцев-то на них не припасено, а за своих замуж обычай не дозволяет. Так как же быть? Вот сестрица Софья ловко устроилась, однако хоть она и правительница, а за князя замуж и ей нельзя.
– А ты, Софьюшка, о коронованье бы помыслила, – обмолвилась как-то та же бойкая Марья. – А что? Эвон у англичан бабу короновали, королевой Елизаветой поименовали. А та что – плоше?
– То у англичан, – задумчиво протянула Софья. – У них все в особицу, а на Руси никогда такого не случалось.
– Что ж с того, что не случалось. Положь начало – и случится, – продолжала свое Марья. – Ты вон в правительницы вышла, государством ведаешь, правишь. Такого у нас тоже не случалось. А вот случилось.
– Говорить-то легко. А как сделать?
– На что тебе князь Василий даден? У него голова – три короба. Ты с ним совет-то держи…
Ах ты, Господи, искус-то какой. Запала эта мысль в голову Софье, стала неотвязной. А как начать? С чего? Со своим князинькой она не робела. Могла ему все сказать. Коли добьется и ее и вправду коронуют, тогда она вольна избрать себе супруга. Но вольна ли? Та же англичанская королева Елизавета не в супружестве жила.
Искушение великое! Отправиться что ли к князю, сказать ему напрямик и пусть думает. Ведь его в том выгода. Он тогда смело встанет у кормила. Будет править ее именем безбранно.
Долгонько колебалась. Не поднял бы ее князинька на смех. При двух то царевичах, наследниках законных, освященных. В самом деле, как к сему подойти? Ну, скажем, братец Иванушка, хоть и во всем ей покорен и ничего не стоит заставить его отказаться от трона в ее пользу – откажется. Да и по всему видно – не жилец он на белом свете. Но Петрушка! Этот крепок да разумен, это враг. Особливо, когда в возраст войдет. Давно она это поняла. Извести его и мачеху всяко тщилась. И с нечистой силой связывалась, и отраву подсыпала, и заговоры разные испробовала. Ничего не действовало. Сторожила мачеха свое дитя яко цербер. Никого к чаду своему не подпускала, глаз с него не сводила, поваров своих держала да прежде чем кормить Петрушку, велела мамкам ту еду пробовать.
Уж Софья с князем своим советовалась, и в магические книги глядели, потому как дело потаенное и посвящать в него никого нельзя было. И как там прописано было, все сполняли. Ну ништо, ништо Петрушку не брало. И мачеху ненавистную.
А сейчас самое время. Стрельцы горячи, пока не остыли, за нее. Изменщики, конечно, и средь них есть, которые Нарышкиными подкуплены и их сторону держать готовы. Но князь Хованский уверяет, что его войско ее более всех почитает и за нее стоять будет горою.
Задумалась крепко. У Петрушки свое войско – потешным зовется. Верные люди сказывали, что Петрушка иноземцев привлек на выучку. То опасно. Стрельцы, те все по старинке действуют, выучки у них никакой, ровно татары кучею воюют. А ту кучу разбить ничего не стоит – она уж стала разбираться, князь выучил.
Робела отчего-то к своему князиньке с этим делом приступить. Мысль в ней крепко засела, покою не знала. Не то что днем – ночью о том думала. Сна вовсе лишилась. Негоже это. Доктора Матеуса призвала, чтоб он ей снотворное снадобье приготовил. Все едино – сон не брал.
Сказать князю – не сказать? Кабы на смех не поднял. А что, ежели и подымет, убудет от нее, что ли. Она – первая, она – главная, ее именем Вася все творит, хоть он и многими приказами ведает. А все от ее имени. Но ведь есть еще великие государи, она у них как бы сбоку…
Совсем запуталась Софья. Ходила вся не своя от тех дум. Уж ближние стали замечать: с государыней царевной неладно что-то. Помрачнела, с лица спала, отвечает невпопад, нечто про себя бормочет, будто бес в ней поселился и ответа требует.
Вроде бы сильно умалились Нарышкины. Побили многих, осталось совсем мало. И хоть в церквах поминали царя Петра Алексеевича за здравие, и царицу Наталью тож, однако безропотно повелели они постричь отца и деда царского в монахи под именем Киприана и сослать его подале – в Кирилло-Белозерский монастырь безсходно, потому как стрельцы того потребовали. Такого они страху на всю Москву навели, что им ни в чем отказу не было.
Главный заводчик стрелецкий был раскольник Алексейка Юдин – правая рука, можно сказать, князя Хованского, батюшки. Подали они великим государям челобитную:
«Бьют челом стрельцы московских приказов, солдаты всех полков, пушкари, зачинщики, гости и разных сотен торговые люди, всех слобод посадские люди и ямщики. 15 мая, изволением всемогущего Бога и Пречистая Богоматери, в Московском государстве случилось побитье, за дом Пречистая Богородицы и за вас, Великих Государей, за мирное порабощение и неистовство к вам, и от великих к нам налог, обид и неправды боярам князь Юрью и князь Михайле Долгоруким, за многия их неправды и за похвальная слова; без указу многих нашу братью били кнутом, ссылали в дальныя городы, да князь же Юрья Долгоруков учинил нам денежную и хлебную не додачу. Думного дьяка Ларивона Иванова убили за то, что он к ним же, Долгоруким, причислен; да он же похвалялся, хотел нами безвинно обвесить весь Земляной город, да у него же взяты гадины змеиным подобием. Князя Григорья Ромодановского убили за его измену и не раденье, что Чигирин турским и крымским людям отдал, и с ними письмами ссылался. А Ивана Языкова убили за то, что он, стакавшись с нашими полковниками, налоги нам великия чинил и взятки брал. Боярина Матвеева убили и с ним доктора Данилу за то, что они на ваше Царское Величество отравное зелие составляли, и с пытки Данила в том винился. Ивана и Афанасья Нарышкиных побили за то, что они примеряли к себе вашу Царскую порфиру и умы слили всякое зло на Государя Царя Иоанна Алексеевича, да и прежде они мыслили зло всякое на Государя Царя Феодора Алексеевича и были за то сосланы. И мы, побив их, ныне просим милости – учинить на Красной площади столп, и написать на нем имена всех этих злодеев и вины их, за что побиты; и дать нам, во все стрелецкие приказы, в солдатския полки и посадским людям во все слободы жалованный грамоты за красными печатями, чтоб нас нигде бояры, окольничий, думные люди и весь ваш синклит и никто никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками не называл, никого бы в ссылки занапрасно не ссылали, не били и не казнили, потому что мы служим вам со всякою верностию. А что ныне боярския люди к нам приобщаются в совет, чтоб им быть свободными, то у нас с ними никакого приобщения и думы нет».
Чла царевна челобитье не раз и не два – ей оно было подано – потом князя Василья призвала, а уж после него государям. И было с общего согласия решено дозволить такой столп соорудить, дабы наступило полное умиротворение. И воздвигли его на лобном месте.
Столп этот облегчил ей душу. Стала она молить Пресвятую Богородицу и угодников Божиих, дабы укрепили ее в таковом дерзании. И прежде совета с князем решила зазвать к себе Алексейку Юдина, Стрельцова заводчика. Глянулся он ей человеком верным, ежели посулить ему короб денег да чин, вовсе предан ей будет до гроба. И приказала она его к ней зазвать?
Явился не залупился. Покланялся ей низко, но робости не обнаружил. Собою не видный, ростом не вышел, борода сединою пронизана, глаза черные, пронзительные.
– Готов служить тебе, государыня царевна. За каковою нуждою призвала?
– Глянулся ты мне, Алексей Митриевич. Пытала я князя Ивана Хованского, каков ты есть, отвечал он – верный да праведный. И решила я тебе доверить думку свою, на тебя положиться. Но прежде слово дай на кресте восьмиконечном, что ни одна душа, кроме нас с тобою, о том, что тут говорено будет, не узнает.
– Христом Богом клянусь, государыня царевна, что сказанное меж нас со мною умрет! – торжественно произнес Юдин.
– Знаешь ты, каково распростираю я милость к надворной пехоте. Она есть мой щит, меч и заступление. С вами я готова государством править, вам – все мои заботы, вам и казна открыта.
– Знаю, государыня царевна. И мы за тебя горою стоим, ты – наша единая заступница.
– Ну вот, а коли так, начни со товарищи говорить, что надобно и на меня корону царскую возложить. Что я за то радеть о вас буду, яко за собственных сестриц царевен и в том на сем же кресте даю клятву.
Замялся Юдин. Не ждал он, видно, такого оборота. Молчал, собираясь с мыслями. Наконец сказал:
– Ты ноне правишь, так отчего ж не возложить на тебя венец царский. Потолкую я с товарищами. Мы все за тебя стоим, государыня, – уже решительней прибавил он. – Согласны будем.
– От себя действовать будешь.
– Знамо дело от себя, – и, помявшись, решительно произнес: – А коли станешь за старую веру, мы все за тебя пойдем.
– Не могу я, – развела руками Софья, – не женское это дело в церковные дела мешаться. Коли меж нами было бы – я не прочь: пущай всяк молится, как сердце велит. А так, перед патриархом да государями, того быть не может.
– Пожалуй, – согласился Юдин. – Так я почну за твой венец толковать с братьей.
– Ступай же, я на тебя надеюсь, – и Софья размашисто перекрестила его.
Теперь она решила поговорить об этом с князем Васильем. Поехала к нему. Князь тотчас отпустил приказного дьяка, с которым толковал о деле, непритворно обрадовался.
– Софьюшка! А я о тебе думал. Давно мы с тобою не любились.
– Давно, – согласилась Софья. – Зовешь в мыльню?
– Как не звать. Ровно ты не хочешь?
– Да я завсегда тебя хочу, князинька, – проворковала Софья. – Сладко мне с тобою.
– Ну, коли так, то разболокнись. Больно много на тебе всего.
Долго лежали потом – отдыхивались. Князь наконец промолвил:
– Ну ты севодни, голубица моя, все превзошла. Откуда в тебе столь великая женская мочь?
– От тебя, Васенька. Как гляну на тебя, так все во мне воздымается. Ты меня пробудил к таковой сладости. Без тебя оставалась бы кукольной девой. Жаром великим ты пышешь и меня поджигаешь.
Довольная улыбка разлилась по лицу князя. Софья же, рассудив, что настал подходящий момент, медленно заговорила:
– Зазвала я, Васенька, Алексейку Юдина, он тебе ведом. И повела с ним разговор, чтоб он меж стрельцов обо мне речь молвил. Что-де я ихняя радетельница и не худо бы меня венчать царским венцом…
– Что-о-о?! – князь Василий был явно ошеломлен. Он некоторое время сидел с открытым ртом, и, наконец, придя в себя, выдавил:
– Бог с тобою, Софьюшка! В своем ли ты уме? Ты и так высоко поднялась, выше некуда. Кабы не сбросили, когда Петрушка в возраст войдет. Иванушка твой, сама знаешь, гнил, долго не протянет, иной же опоры у нас нету.
– А вот я что задумала. По-быстрому оженить Ваню, и коли семя у него сгодное, родит ему царица наследника. Мы с тобой и с бояры сего младенца законным царем возгласим, истинно царского корня Милославских. Петрушку-то и задвинем.
– Нет-нет-нет! – воскинулся князь Василий. – Сего неможно, да и не пойдут бояре за нами.
– Я бы правительницею осталась, – плела свое Софья, хотя по ее виду можно было предположить, что она потеряла уверенность в успехе своих предприятий.
– Выкинь дурь-то из головы, – бесцеремонно произнес князь Василий. – Истинно дурь это в тебя втемяшилась. Да все как вскинутся противу нас с тобой, рухнем мы в грязь. Воистину из князи в грязи.
Софья была натурой упрямой и своевольной. Она была уверена в Юдине, в Хованском, в стрельцах, коих она облагодетельствовала, открыла им погреба и казну, поименовала надворной пехотой, то есть своею опорой. Они не выдадут, они, как уверил ее Юдин да и сам стрелецкий голова, батюшка Князь Иван и Хованский, будут стоять за нее горой.
Опять же женитьба царя Ивана была делом решенным – до поры до времени скрываемым ею ото всех и даже от самого братца. Она и невесту ему приглядела – ладную, крепкую, собою миловидную – Прасковью Салтыкову. Род знаменитый, старинный, прославленный. Сама девка с виду рожать будет безотказно, лишь бы семя у Иванушки было доброе. Уж она братца просветила по части мужеских радостей, уж бабу ему опытную подсунула, и та его всему обучила. Сказывала царевне, что уж Иванушка во вкус вошел и семени у него много и на запах оно сгодное. Молодка та была гулящая, опытная по части плотских утех, и Софья на нее понадеялась.
– Нет, князинька, ты как хочешь, а я к сему делу приступилась и уж от него не отойду, – сказала она, тряхнув головой. – Юдин станет стараться – ему я чин посулила и награжденье.
– Ну и что? Да николи на Руси не бывало, что баба царским венцом была венчана. На смех тебя подымут, помяни мое слово. Греха не оберемся…
– Погодим, Васенька, как оно обернется. А то и отступимся, коли, как ты говоришь, на смех подымут. – При этих словах сердце в ней взыграло, и она дала ему выход:
– Худо ты обо мне думаешь, князинька мой. А я все наперед расклала, и вышло, что удача будет. Мне и бабка Агафья, ведунья известная, гадала и на воске, и на картах, и фасоль раскидывала. И всякий раз выходил выигрыш.
– Хрен цена твоей бабке и ее гаданью, – сердито буркнул князь. – Коли ты меня слушать станешь, как прежде слушалась, то все ладом пойдет.
– В этом деле, Васенька, я сама себе госпожа, – самолюбиво бросила Софья.
– Ну, как знаешь. Живи своим умом и на меня не пеняй, ежели что.
– Не серчай, князинька, – примирительно заговорила царевна. – Разве же я могу без тебя, разве не отдалась я тебе вся, и свою девью честь, и все желанья безоглядно? Нету мне без тебя жизни. Но уж коли начала я таковое рисковое дело, дозволь мне его и закончить. Молилась я Пресвятой Богородице и святым угодникам, просила заступленья и покровительства. Глядишь, и дойдут мои молитвы. И ты помолись.
– Я-то помолюсь, – все еще недовольным тоном произнес князь. – Да только впредь, коли задумаешь что, прежде совет со мною держи. Чтобы промашки не дать. Высоко мы с тобою вознеслись, Софьюшка, тут каждый шажок соразмерять надобно.
– Разве ж я не понимаю? Разве я тебя когда-либо ослушалась? Да только тут сам Алексейка Юдин набился да князь Хованский его подвиг, – нашлась она. – А тебя в те поры близ меня не было, вот я и решилась, – все это она выговорила с легким сердцем, дабы ни малейшей тени не легло на их отношения. Она и в самом деле уже начинала раскаиваться, что затеяла столь рискованное дело без совета с князем Василием. Все-таки он оставался главным в их отношениях, несмотря на ее звание правительницы, несмотря на то, что имя ее поминают в церквах рядом с именами молодых царей Петра и Ивана.
Но женитьба Ивана была все-таки делом решенным. Впрочем, и князь Василий сей проект одобрил. Коли Иван в самом деле мужчина годный к супружеству, отчего ж не испытать его. Может, и в самом деле произведет наследника, и тогда все можно будет повернуть по-другому. Впрочем, он еще не придумал, как оно обернется в этом случае, но ему одно было ясно: расклад сил изменится. В пользу ли Милославских, он еще не знал. Но, несомненно, изменится.
Следовало соблюсти старинный обычай: смотрины невест. Как водится, свезли в Москву, в Грановитую палату, девиц с ближних городов и из самой столицы – боярских и дворянских дочерей родовитых фамилий. Самых что ни есть пригожих. Лестно было: а вдруг молодой царь остановит выбор на дочери – стало быть, коронуют ее царицей.
Молодой же царь братец Иванушка был с изъяном. Тяжелы были у него веки, сами собою закрывались, будто оберегая очи. А они у Ивана царя были подслеповаты. И все невесты из острильного оконца казались ему на одно лицо. Все-все, должно быть, хороши собою. Так что он целиком доверил выбор сестрице Софье. Уж та не даст промашки, выберет девицу ядреную да пригожую. Чтобы не зазорно было короновать ее. Ведь каковую честь оказывают!
Но обычай есть обычай. Собрали девиц близ полусотни. Царевна сама отбирала, сестер своих привлекла. По секрету им, правда, открыла, которую сама избрала. Да вышел у них спор. Царевна Катерина стала не согласна. Ей более приглянулась дочь боярина Шереметева. И перекорливая царевна Марья тоже была против Прасковьи. Но голос Софьи все иные перевешивал.
Начались приготовления к свадьбе. Ох и долгими они были да основательными! С обеих сторон – со стороны жениха и невесты – полнились сундуки разным добром: сукнами да жемчугами, мехами собольими да лисьими, посудою золотою да ценинною.
Готовились и столы пиршественные. На сколь персон – не счесть.
Не простая ведь свадьба, не боярская даже, а царская, где молодых венчать станет сам патриарх, а в дружках и подружках – другой царь, Петр, да тетки царские, да царицы вдовые, да первые бояре, да царевны.
Хлопот – полон рот. Поваров нагнали отовсюду, меж них царские стольники да кравчие, окольничие да спальники – всем дело есть. Одним его делать, а другим – приглядывать, чтоб все было чинно, благородно. Поднялась такая суета, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Салтыковы вовсе ополоумели. Такая честь, такая честь на долю дочери выпала, хоть жених с великим изъяном – а все ж царь. Царь! Все тут сказано. Они свою Прасковью чуть ли не в молоке купали. Начали было сурьмить да румянить, а тут отец взвился.
– Вы что мне девку портите, она кровь с молоком в натуре, а вы из нее чучело огородное норовите сделать.
– Да ведь так принято, папаша, – пробовала было урезонить его сестрица. – И на смотринах все были набелены да насурьмлены.
– Плевать я хотел на ваши смотрины! – ярился Федор Салтыков, – не дам портить дочь! Смойте все.
Не смели ослушаться! Грозен был палаша и на руку, тяжел. Отвесил оплеух комнатным девкам, кои под присмотром супруги украшали невесту к венцу. Те мигом сгинули. Отмыли-таки, Федор сам командовал, глядел, чтобы лик очистился. И в самом деле, гляделась Прасковья без притираний свежей да приманчивей.
А что ж жених, царь Иван? Он тоже готовился. В моленной. Клал поклоны перед чтимыми иконами, ставал на колени и бил лбом о пол, прикладывался к ликам. Великий был молебщик. Иным занятиям не предавался: книг, как братец Петр, не читывал, на бранные потехи не хаживал, чревоугодию не предавался – постничал. Одно слово – монашек.
Однако сестрица Софья, коей он беспрекословно повиновался, ввела-таки его в плотский грех. Подложила ему блудницу девку Варьку, предвари ее чистою, отмытою да доктором освидетельствованную. И та царя-девственника приохотила к плотский забавам. Мало-помалу вошел он во вкус. Но каждый раз девка Варька его руководствовала, и он к этому привык. Не то, чтобы очень часто, но дважды на неделе призывал он ту девку, и она его услаждала весьма искусно, потому что в ее обычае было никому в своем теле не отказывать, коли кто позарится – окольничий либо рында.
Правда, на то время, когда она Ивана ублаготворяла, запретила ей Софья строго-настрого с кем-либо соититься. И приставила к ней двух мамок строгих, чтобы за ней следили. Но Варька, как говорилось, была слаба на передок и ухитрялась из-под их глаза уходить, выскальзывала. И в постановленные дни как ни в чем не бывало являлась ко двору исполнять свои почетные обязанности.
И хоть взяла с нее царевна Софья страшную клятву никому о том не обмолвиться, да ведь как удержаться, коли, сам царь на ней ездить изволит, равно как и она на нем.
Болтнула подружке своей, а та другой. И пошло-поехало. Мужики дворовые стали на Варьку заглядываться, ее всяко ублажать да заманивать. Решили: видно сладка девка, раз самого царя пользует. И отбою у нее не стало от домогателей. Благодаренье Всевышнему: до ушей царевны Софьи то не дошло. А то бы пришлось Варьке худо.
Тем временем день бракосочетания приближался. И женихова сторона да невестина вовсе с ног сбились, известно: перед свадьбою не надышишься. Обряд венчания постановил патриарх Иоаким провести в Богоявленском соборе. А пиршественные столы расставила частью в Грановитой палате, частью же – для народа и убогих людей – на Ивановской площади.
И вот настал день торжества. С утра вся Москва благовестила. Карета за каретой, одна другой краше да пышней, въезжали в Спасские ворота. Столь же великое множество нищих да убогих собралось на папертях со всей Москвы. Притекли, заслышав о дармовом угощении да раздаче денег.
Набилось полно народу и в Богоявленский собор. Рынд поставили на паперти оттеснять нищебродов, тут же была и надворная пехота, дабы порядок блюсти и благочиние меж кремлевских соборов да Чудова монастыря, куда молодые должны были допрежь всего для родительского благословения явиться.
Наконец жених и невеста в окружении близких явились в собор, где уже поджидал патриарх с причтом. Все – со свечами воженными. Кадильный дым облачками возносился к куполу. Хор грянул величальную.
– Блаженны все, боящиеся Бога, – возгласил патриарх. – Слава тебе, Боже наш, слава тебе, – подхватил хор.
Храм гудел от возгласов и пения. Под куполом метались голуби.
– Жена твоя, яко лоза плодовита, – продолжал патриарх. – Во странах дому твоего. И сынове твои яко новосаждения масличная, окрест трапезы твоея.
Обряд длился долго, и патриарх подустал: глаза набрякли, лицо сморщилось – всю силу своего не очень-то звучного голоса вкладывал он в оглашение.
– Благословен еси, Господи Боже наш, иже тайнаго и чистаго брака священнодействителю, и телеснаго законоположителю, не тления хранителю, житейских благий строителю: сам и ныне владыка в начале создавый человека и положивый его, яко царя твари…








