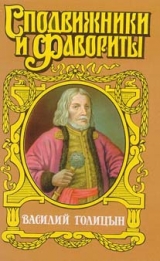
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Но сила ненависти к Петру, к Нарышкиным ослепила ее. Ослепили ее и семь лет правления, прозвание великой государыни, монета с титулованием, царский выезд, земные поклоны. Ослепила власть. Власть стала величайшим искушением. Ради власти она готова была терпеть все напасти. На пути к ней стоял Петрушка. Его следовало уничтожить. Как? Поначалу изводом.
Софья стала помаленьку искушать преданного ей Федора Шакловитого. Того же ослепила страсть к ней, и он уловил ее сокровенное желание. И с мужицкой прямотою взялся его исполнить.
Федор сколотил возле себя кружок преданных ему стрельцов.
Тут надо сказать, что стрельцы, а потом надворная пехота исстари пользовались многими привилегиями и отличиями. Явленные еще в 1552 году во времена Ивана Грозного при взятии Казани, они вскоре стали привилегированным войском. На Москве обычно бывало до двух десятков стрелецких полков по 880–1000 человек в каждом. Один из них именовался Стремянным и составлял почетную стражу царя. За свою службу они наделялись деньгами, хлебом, солью и сукном на платье. На вооружении у стрельца была пищаль, сабля и бердыши, одеты они были однообразно – в длиннополый нарядный подпоясанный кафтан, бархатную шапку с собольей опушкой и сафьянные сапоги. Особенно жаловал их царь Алексей Михайлович – при нем наряд стрельцов стал еще пышней, а вольности еще свободней: они могли держать лавки, заниматься ремеслами и торговлей.
И вот Шакловитый стал наущать своих верных: коли царь Петр с Нарышкиным возьмет силу, придет конец стрельцам и их вольностям, их заменят потешные, а стрельцы будут сосланы в окраинные города, в Сибирь, а то и подалее.
– Судите сами, братия, хорошо ли нам будет? Всем: и мне, и некоторым боярам, которые за нас стоят.
– А что делать-то? – спросил Михайла Петров.
– Смекайте сами, – отвечал Шакловитый. – У нас с вами одна радетельница и защитница – благоверная царевна Софья Алексеевна. Коли она заняла бы престол, жить бы нам – не тужить. А царь Петр устроит нам перевод. Мотайте на ус…
Мотали. Тем временем к Спасским воротам Кремля было прибито подметное письмо. В нем объявлялось:
«Злоумышлением некиих людей из потешных полков решено близкою ночью напасть на царя Иоанна Алексеевича и его супругу царицу Прасковью, казнить их смертию, равно извести весь корень Милославских, дабы им более на Москве не быть, а допреже всех царевну Софию Алексеевну, яко противницу царя Петра… Православные, коли услышите набат, бегите спасать благоверного царя и царевен, а мы тож поспешим вам в помощь…»
Царевне Софье немедля принесли извет. Она велела призвать князя Василия и начальника Стрелецкого приказа Федора Шакловитого.
– Ну что делать-то будем? – вопросила она, стараясь придать своему лицу выражение озабоченности.
– Как что? Велю караулы усилить. Четыре сотни верных поставлю в Кремле с заряженными пищалями, да еще три сотни на Лубянке.
– Пустое, – отозвался князь Василий. – А впрочем, твое дело. Кабы только они, твои люди, не учинили каких-либо бесчинств. Только ты, Федор, не переусердствуй.
– Какое там! – отвечал с раздражением Шакловитый. – Мне эти потешные, как кость в горле.
– И мне, – сказала царевна. – От них опасность исходит. Особливо нам, Милославским.
– Опасаюсь я другого, – сказал, поджав губы, князь Василий. – Не повторилось бы кровавое побоище. Как почуют стрельцы, что они снова опорою служат, так и размахаются.
– Больно ты опаслив, – усмехнулся Федор. – Я при них стоять стану. А потом и мы свои меры примем…
– Какие это меры? – полюбопытствовал князь.
– А вот такие, – загадочно отвечал Шакловитый. И со значением глянул на Софью. Она наклонила голову.
Глава десятая
Набат!
Не верь чужим речам, верь своим очам!
Берегися бед, пока их нет.
Лев хоть и спит, а одним глазом бдит.
Море, что горе, – и берегов не видать.
Народные присловья
Свидетели
Царь имеет прекрасное место для постройки кораблей в получасе от Архангельска… Все корабли, приходящие в город и выходящие из него, проходят через него. Тут находилось много кораблей на якорях, поджидавших другие корабли, возвращавшиеся на родину… На реке у оконечности берега можно видеть корабль совершенно готовый, но палуба которого еще не окончена. Селение в стороне называется Соломбаль.
Что до города Архангельска, то он лежит на северо-запад от Московии, на северо-восток от р. Двины, впадающей в Белое море, в шести часах от него. Город расположен вдоль берега реки на три или на четыре часа ходьбы, а в ширину не свыше четверти часа. Главное здание в нем есть палата или двор, построенный из тесаного камня и разделяющийся на три части. Иностранные купцы помещают свои товары, и сами имеют для помещения несколько комнат в первое отделении… Входя в эти палаты, проходишь большими воротами в четырехугольный двор, где по правую и левую стороны расположены магазины. Наверху длинная галерея, на которую ведут с обеих сторон лестницы… Несколькими ступенями восходишь на длинную галерею, где на левой руке помещается приказ или суд, а внизу его дверь, выходящая на улицу. Судебные приговоры исполняются в этой же палате…
Кремль, в котором живет правитель (воевода), содержит в себе лавки, в которых русские во время ярмарки выставляют свои товары. Кремль окружен бревенчатою стеною, простирающейся одной частью до самой реки. Что до зданий, все дома этого города построены из дерева, или, лучше сказать, из бревен, необыкновенно на вид толстых, что кажется чрезвычайно странным снаружи для зрителя… Улицы здесь покрыты ломаными бревнами и так опасны для проходящих по ним, что постоянно находишься в опасности упасть, вдобавок в городе находятся беспорядочно разбросанные развалины домов и бревна после пожара. Но снег, выпадающий зимою, уравнивает и сглаживает все…
Корнелиус де Бруин. «Путешествия в Московию»
Чем-то тяжелым заколотили в дубовые ворота. Колотили долго: стража спала мертвым сном.
– О черт! – выругался сержант Чирков, с трудом разлепив глаза. Накануне они изрядно выпили, а потому сон был тяжел. Он приподнялся на своем ложе и прислушался. Грохот повторился.
– Побудят царя и царицу, лешаки! – пробурчал он, вставая, и стал тормошить остальных, спавших вповалку на ворохах сена. – Сенька, Васька, Митька, подымайтесь. Кого-то черт принес! – Подымались тяжело, с бранью. Тем временем сержант, привалясь к воротам, гудел:
– Чево надоть, лешаки? Государей разбудите!
– Буди, буди, благоверного! – глухо отозвались снаружи. – Беда грядет!
– Погодь. Сейчас отопру, – сон мигом слетел. Сержант запалил факел и распахнул тяжелые ворота. – Кто такие? Сказывай, что за беда?
– Пятисотый Стремянного государева полка Ларивон Елизарьев я. Со мною товарищи мои Мельнов и Ладогин. Федька Шакловитый задумал нынче ночью извести государя нашего и государыню царевну Наталью Кирилловну. Собрал душегубов своих в поход на Преображенское! Мы верхами гнали – упредить злодейство.
– Эге ж! Стой тут – побужу государя.
Сон Петра был чуток. При первом же стуке в дверь он вскочил и прислушался.
– Эй вы! Слышите? Стучат. – Денщики, спавшие у порога, поднялись. – А ну, откройте. Что там?
При неверном свете факела показался сержант Чирков, за ним – побуженный капитан Люден, голландец.
– Государь великий, вели бить в набат, – выговорил сержант.
– Что? Что такое?
– Вот, – и Чирков вытолкнул вперед Елизарьева. – Доложь!
Петр всмотрелся. Протер глаза и снова уставился на пятисотного:
– Елизарьев? Ларион? Ты? Что стряслось?
– Я, великий государь. Открыл я с товарищи злодейский умысел Федьки Шакловитого. Собрал он давеча людей верных, Цыклера и других, и почал подговаривать. Нынче, говорил, ночью поведу полк на Преображенское, на гадючье, сказывал, гнездо. Истребим Нарышкиных, медведицу с медвежонком, да провозгласим царицею радетельницу нашу, царевну Софью Алексеевну. И наступит для нас благодатное житье. Вот мы и подхватились – упредить.
Петр переменился в лице.
– Мельгунов, беги на конюшню, выводи моего гнедого. А ты, Чирков, ступай разбуди Гаврилу Головкина.
Как был, в исподнем, Петр выкатился во двор, успев крикнуть:
– Да побудите матушку, пущай мигом соберется со своими девицами, сестрицу Наташу прихватите! Заложите две кареты и гоните за мною. В Троицу! Подымите людей да готовьтесь к обороне! Елизарьев, Ларион, ты со своими возвращайся, подыми полк да веди его к Троице тож.
К нему подвели коня. Петр закинул длинную ногу, не попал в стремя и так с одною ногой, вздетой в стремя, а с другой болтавшейся вынесся за ворота. Напоследок крикнул:
– Гаврилу Головкина за мною в лесок сопроводите. Да пусть захватит одёжу! Босой я…
И исчез в ночи.
В усадьбе поднялась тревога. Заполыхали десятки факелов, заметались люди. Все происходило в молчании, словно ночь и тревога замкнули рты. Призрачные фигуры метались по двору – кто с поклажей, а кто с пищалью, кто с бердышом. Порою слышались приглушенные восклицания, женские голоса, звавшие кого-то. На конюшне затопотали кони, со стуком распахивались полотнища ворот, конюхи выкатывали экипажи – один, другой, третий. Вскоре двор был загроможден ими.
Гаврила Головкин, выпуча глаза, выскочил из хором с охапкою одежды.
– Эй, кто-нибудь! – крикнул он. – Коня мне! Да пособите сесть.
Он не очень ловко поместился в седле. Один из денщиков подал ему тючок с одеждой для Петра. И Гаврила, ударив пятками коня, выехал за ворота.
Он застал Петра сидевшим на карачках под вековым дубом. На обугленном суку висело исподнее. Царь был совершенно гол, прикрыв колена листьями лопуха.
– Вот, схватило! – сказал он, подымаясь. И вдруг захохотал громко, неудержимо. Он весь трясся от хохота, затем снял исподнее с сука и повод, и оба отошли в глубь рощи. Плечи Петра все еще тряслись от беззвучного смеха: – Я ведь сюда как бы сном прискакал – очумел, глаза открылись, а разум спал еще. Токмо потом в соображенье вошел. Забыл допросить Елизарьева. Не напорол он паники, как думаешь? Таковой аларм сделался.
– Елизарьев мужик степенный, верный. Коли поднял он аларм, стало быть, запалило.
– Федька Шакловитый давно мне глаза застит, – сказал Петр. И после паузы прибавил: – Стрельцы – неверная сила, их перевести надобно. Есть ныне у нас другое войско, заведу регулярство, как на ноги стану. Мне давно Франц о сем толкует. Да и Патрик.
– Сестрицы твоей, Софьи, все это задумки.
– Вот погоди, дай морскую силу завести, тогда я и с сестрицей разберусь. Давно колет она мне глаза.
– У нее два галанта: князь Василий и Федька. Они за нее стеной станут.
– Ну, мы эту стену сокрушим, – сердито произнес Петр, – Федька – что?.. С ним разговор короткий: плаха его ждет. Жаль князя Василия, иметь бы его в союзниках, да ведь далеконько от меня ушел, не догнать, не воротить. Вот дядька Борис за него просил. А я миру искать не намерен. Поздно уж…
– Миру искать никогда не поздно, – философски заметил Гаврила Головкин, будущий канцлер Российской империи, трясясь на своем буланом.
Они неторопливо выехали из рощи. Остановили коней, прислушиваясь. Гаврила приложил ладони к ушам. Все было тихо. Даже отзвуки аларма в Преображенском затихли.
Всадники пустили коней неторопливой рысью. Молочно-белый рассвет растекался подобно туману. Все казалось причудливым и призрачным в этом зыбком полумраке-полусвете. Слова замерзли на губах.
Чуткий слух ловил каждый звук. И сами звуки казались загадочными, сознание стремилось их разгадать. Но это не всегда удавалось. Вот послышался тонкий свист. Кто это – зверь ли, птица? Вот кто-то с треском вырвался прямо из-под копыт, и конь взбрыкнул и беспокойно заржал. Конь Гаврилы тож взвился было на дыбки, но всадник его осадил.
Они продолжали ехать в молчании, пока на горизонте не всплыл багровый серп встающего солнца. И все окрест открылось в своей обыкновенности.
– Экое осмысленное животное конь! – неожиданно восхитился Петр. – Ночь кромешная, а он сам дорогу чует, понукать не надо. Отпустил поводья и знай себе подремывай, коли можешь.
С этими словами он похлопал своего коня по крутой шее. Тот, словно почуя похвалу, ответил коротким ржанием.
Они проехали первую деревеньку. По дороге вдоль плетней шел пастух, закинув на плечо длинное кнутовище. Он наигрывал на бузинной дудке, и калитки по обеим сторонам деревенской улочки со скрипом открывались, пропуская коров. Все было мирно и домовито, и ночной аларм показался им привидевшимся.
– Пужанул нас Елизарьев, – хохотнул Петр. – Не дал сна досмотреть. А такой затейливый сон был…
– Ну? Сказывай! – загорелся Гаврила.
– Будто я на палубе большого корабля. Один я, понимаешь. Он плывет себе в море, неведомо куда, а мне все едино. Ан управить им не могу, больно велик корабль. И берега не видать, а он все плывет да плывет. Куда ни гляну – ни одной живой души. Только паруса хлопают да волны шумят. А это, небось, Елизарьев со товарищи в ворота барабанили. – И, помолчав, прибавил: – Уж больно охота на море побывать, на большом корабле, пушек эдак на сорок-пятьдесят, поплавать. Кабы матушку уговорить, – закончил он с детской непосредственностью. – Дак теперь скоро не вырвешься, баталия предстоит с сестрицею.
– Да, дело нешутейное, – подтвердил Гаврила. – Она так легко не поддастся. Упрямая баба. Ну просто ведьма.
– Ведьма и есть, – охотно поддакнул Петр. – Федьке я запросто голову откручу, с Софьей повозиться придется.
– Постричь бы ее в монахини…
– Замыслил. Братца Ивана жаль. Добрый он добротою немощности, со всем соглашается, а Софье меж тем в рот смотрит. Плох он, вовсе плох, еле-еле ноги таскает. А веки ровно свинцом налиты – поднять не может. Господь его жалеет.
– Но все до поры, глядишь – и приберет ненароком.
– Вот дождусь, когда братца не станет, тогда и за сестрицу примусь. Дорога ей – в Девичий монастырь.
– Не в Покровский, что в Суздале?
– Лучше, конечно, – с глаз долой. Да там к ней наезжать станут; от паломников, ходатаев да смутьянов отбою не будет. А на Москве все под глазом, все на виду. Я уж размыслил…
– Да, ты, пожалуй, прав. Там, в Суздале, не будет на нее угомону.
– То-то и оно.
Кони шли шагом – поводья были опущены. День сиял всем своим великолепием.
– Есть охота, – протянул неожиданно Петр. – Самое время пофрыштикать.
– А до Троицы не дотерпишь? Часа через три достигнем.
– Нет, брат, надобно к кому-нибудь попроситься. Есть при тебе монетки?
Гаврила пошарил в портах.
– Набрел. Кажися две либо три деньга завалялось. А может, и алтын.
– Запируем! – обрадовался Петр.
– Царь ведь ты, – со смехом напомнил Гаврила. – Нешто пристало харчиться у смердов?
– Все ж люди. Их трудами кормимся, отчего же не пристало? Я люблю по-простому, ты о том ведаешь, без чванства. Не вздумай брякнуть, что я царь. Простой проезжий – и вся недолга.
Завернули в избу поисправней, повидней. Вышла старуха в поневе, поклонилась в пояс.
– Нам бы, бабушка, чего-нибудь поснедать, – сказал Головкин, – молочка, яиц – яишенку бы изжарить… Мы заплатим.
– Заходьте, люди добрые.
И старуха завела их в избу. Посередке стоял чисто выскобленный стол, по бокам – лавки, беленая печь делила избу на две половины.
– Одна я, одна, милостивцы, все в поле да с ребятками. А вы чьи будете?
– Бояр Нарышкиных, – представился Петр.
– Слыхала, слыхала. Ровно и царь у нас из Нарышкиных будет?
– Верно, бабушка. Великий государь Петр Алексеевич как есть из Нарышкиных, – ответил Головкин, – Наталья Кирилловна, матушка его, супруга благоверного царя Алексея Михайловича, царствие ему небесное, сама Нарышкина.
– Теперя знаю, за чье здравие Господа молить, спаси тя Христос, касатик. А то все вразброд – кто за благоверную государыню царевну Софию Алексеевну, кто за государя Иоанна, за другого государя Феодора Алексича… Совсем с панталыку сбили, старую, – бормотала она, возясь у печи. – Стану пред иконою Заступницы, а имен-то не произношу. Одно толкую: за здравие великих государей, на земле Российской воссиявших.
– Так пристойно молить святых угодников да мучеников, – поправил ее Гаврила.
– Теперича буду поминать царя Петра да царицу Наталью. А царь-то наш женат ли?
И Петр, и Головкин смутились. Наконец Гаврила нашелся:
– Ты, бабушка, своего благочинного спроси. Кого он из царствующей династии поминает за здравие, того и ты поминай.
– Ох, касатик. Таковой он важный – не доступишься. А я в церкву нечасто хожу по теплому-то времени. Мои-то с зарею все в поле, а меня на хозяйство приспособили. И скотину-де поить-кормить, и щи варить да кашу… Одна я, старик-то помер, вот и кручуся-верчуся.
Запах жареной яичницы дразнил ноздри. Старуха слазила в погреб, достала крынку молока и поставила оловянный стакан.
– Один стакашек у нас, есть еще берестяные, коли не брезгуете. Почернелые они, давно служат.
– Давай, бабушка, все давай, – пробасил Петр, жуя ломоть хлеба и запивая его молоком. – Мы люди простые, – и он подмигнул Головкину. – Что есть в печи, то на стол мечи!
– Ешьте, касатики, ешьте, – приговаривала старуха, доставая из печи скворчавшую сковороду. – Чать были долго в дороге…
– Да, бабушка, и сами проголодались, и кони наши. Да и притомились, – кое-как протолкнул Гаврила сквозь набитый рот. – Ночь-полночь выехали и все едем. Попасли коней – конь-то не человек, не пожалуется…
Встали из-за стола, поклонились старухе. Гаврила достал из портов монетки. Среди них оказался серебряный гривенник. Радость хозяйки была неописуемой.
– Экое богатство привалило. Дак ведь не за что, – забормотала она. – Такие денежки!
– Мы еще заработаем, – уверил ее Петр. – Пользуйся, бабушка.
Вскоре путники достигли ворот Троице-Сергиева монастыря. Они не охранялись, и оба беспрепятственно подъехали к настоятельским палатам, спешились и, привязавши лошадей к коновязи, отправились первым делом в Троицкий собор – благодарить Господа за благополучное окончание пути.
Под хладными сводами собора обоих охватил благостный покой. Умиротворенно горели лампады, со всех сторон глядели святые лики, чем-то похожие друг на друга, словно вышли из одной семьи, одни испытующе, словно вопрошая: грешен ли, другие равнодушно, надмирно. Запахи ладана и елея слились в один, возвышающий, молитвенный.
Петр и Головкин покланялись Николе Чудотворцу, потом Пресвятой Богородице, постояли у Троицы ветхозаветной и посозерцали небесные образы.
Отец настоятель всплеснул руками, когда перед ним явились царь Петр собственной персоной и Головкин.
– Да как же это, великий государь, – растерянно повторял он, – без шуму, без стражи? Как можно? Упредить бы братию… Почести оказать… Царь пожаловал…
– Ты лучше, святой отец, прикажи покормить коней, да задай им полные хребтуги овса. Да и нам не мешало бы мясца отведать, бражки монастырской, – Петр был настроен благодушно, и его забавляла суетливость монаха, его оторопь. Как же – великий государь, да без свиты пристойной, без шуму, не предуведомив, как полагалось по обычаю святой обители.
– Сейчас, сейчас, государь батюшка! – встрепенулся игумен и кинулся вон из кельи.
– Какой я им батюшка, – проворчал вслед Петр. – Ну да ладно. Теперя надобно дожидаться обоза с матушкой и прочими. Не думаю, что Федька сюда явится. Небось до него дошло, что я утек. И он доискивается изменников в своем стане.
– Надо полагать, – качнул головой Головкин. – На всякой случай прикажи запереть ворота да поставить возле стражников с пищалями.
– То дело, – согласился Петр. – Всякая предосторожность не лишняя.
Когда вернулся игумен, Петр велел главные ворота запереть накрепко и поставить стражу.
– Слушаюся, государь батюшка. Однако же, кого пропускать велишь?
– Матушки царицы обоз подоспеет. Да потом мои потешные, два полка – Преображенский и Семеновский. Ты, Гаврюша, постой-ка возле ворот, дабы своих высмотреть, а чужих, коли явятся, отогнать.
– Погодим еще, – заикнулся было Головкин, которому совсем не хотелось торчать возле ворот в роли соглядатая.
– А чего годить? Время приспело. Вот-вот должны появиться, – возразил Петр.
И действительно: вскоре в ворота монастыря въехал царицын обоз – четыре кареты и несколько возков. Петр пошел навстречу, распахнув руки.
– Матушка, голубушка, здрава ли?
– Здрава, мой ненаглядный, здрава. Знать, молился за меня, овевало благостью.
– Не было ль погони какой?
– Не было. Все было покойно. Опосля как ты уехал заперли мы ворота, изготовились, истомились ожидавши. Но все было тихо. Преображенцы твои аж пять пушек подкатили к воротам, чаяли приступа. Обошлось.
– А где Натальюшка, сестрица?
– Да вот она – бежит-торопится с любимым братиком обняться.
Подоспела Наталья, красна девица. Петр ухватил ее за талию, поднял, поцеловал. Она как кукла болтала ногами, обутыми в алые сафьяновые сапожки.
– Пусти, Петруша, пусти же, боюся, уронишь, – раскрасневшись, молила она. – Экой ты сильный. А все ж боюся.
– Отпусти Натальюшку, – забеспокоилась и царица. – Не ровен час оскользнешься. Не люблю я таковых забав.
– Нет, матушка, николи я сестрицу не уроню. Обе вы мои ненаглядные, обеих оберегать буду. А что полки? – неожиданно спросил он.
– Сказывал полковник Патрик Гордон, что поспеют к Троице вскоре, как выправят обоз. Велел спросить: везти ли пушки?
– Для обороны тут своих достанет. Велю окольничего послать с наказом: пушек сюды не возить. А когда обещался поспеть?
– Завтрева к обеду, не прежде.
– Что так?
– Сказывал: нет нужды. Послал-де лазутчиков на Москву вызнать, не готовятся ли к походу. Воротились и доложили: переполох есть, а в поход не сбираются.
– Строю не видать?
– Кучкуются, промеж себя балакают, тревожно.
Вот если бы к Федьке Шакловитому проникнуть да выведать его намерения доподлинно? Петр более всего озаботился этим. Держал совет с ближними, решили дождаться стрельцов Сухарева полка, верных Петру.
Дождались. Вместе с полком явились Елизарьев со товарищи и ко всеобщему удивлению полковник Цыклер, известный приверженец царевны Софьи.
– А ты пошто не на своем месте? – ухмыльнулся Петр.
– Великий государь, дозволь тебе послужить, – виновато произнес Цыклер, отводя глаза. – Понял я: не туда затесался. Федька, ведомо тебе, злодейский замысел готовил, подбивал царицу и весь нарышкинский корень истребить. Ну а я против…
– Объявил о том Федьке?
– Не, утек с Елизарьевым. Давно уж он, Федька, сии свои злоумышления строил и нас на то подбивал. Говорил: всех бояр, кто Нарышкиным служит, тож надобно перевести. Не на ту дорогу я сбился, теперь вот решил путь переменить.
– Что ж, поглядим, – неопределенно протянул Петр. – Какова будет твоя истинная дорога.
Позвал верного Гаврилу и приказал:
– Ступай в приказную избу да созови дьяков и подьячих. Грамоты надобно отправить ко всем стрелецким полковникам, чтобы сюды явились немешкотно с десятком выборных стрельцов от каждого полка для важного государева дела. Ослушники понесут суровую кару.
Гаврила сочинил грамоту, дьяки и подьячие принялись ее переписывать и по всем полкам рассылать. Разослали и стали ждать, не ведая, что царевна приказала все бумаги, что от имени царя Петра будут присланы, первым делом подавать ей. Она-де распорядится, как поступать далее.
Нет, не проста была царевна. Как только ей донесли, что ненавистный Петрушка бежал из Преображенского к Троице, смекнула она, что планы Федора были ему открыты и что теперь пошла крутая игра. Втайне пожалела она, что вовремя не вмешалась. Надо было все замыслы держать в сугубой секретности, опираясь только на верных людей. Она сказала об этом Шакловитому.
– А кто они, верные? – раздраженно спросил он. – Вон Иван Цыклер дочитался вернейшим, а переметнулся к Петрушке. Переметчиков из верных все более. Ни на кого нельзя положиться.
– Худо ты готовился, Федор. Ежели бы поменее языком болтал на всех углах, толку более было бы, – в тон ему проговорила Софья. – Вывел бы два полка ночью да самолично повел на Преображенское. А ты ночь-полночь бражничал да с бабами вожжался.
– С тобою, Софьюшка, а не с бабами, – отрезал Федор.
– Нешто я не баба? То-то!
– Теперь не поворотить, – уныло протянул Шакловитый. – Он оборону занял, его не достанешь. Больно крепка Троица, не взять ее ни в лоб, ни обходом.
– О чем ты говоришь? – зло бросила Софья. – Где твоя сила? Что ты можешь? Тут теперь Васина голова надобна.
– Обнимайся со своим Васею! – гаркнул Федор и, топая сапожищами, пошел к двери.
– И обнимуся! – кинула ему вдогон Софья. И, нимало не мешкая, приказала закладывать карету: – Без скороходов и большой свиты. Со мною – стряпчий Афоня.
Князь Василий был хмур. То, что происходило, не нравилось ему. Все, что делал Федор и поддавшаяся ему царевна, было торопливо, легковесно, без головы. С ним не посоветовались, а теперь изволь расхлебывать скороспешное варево. А как исправить? Возможно ли? На Москве – переполох. Почти тотчас же стало известно, что царь Петр бежал из Преобраясенского, потому что Федька Шакловитый с благоверной царевною Софией Алексеевной умыслили на него и на царицу Наталью Кирилловну зло. И на всю нарышкинскую родню их. Уже не одно, а целых три подметных письма извещали о том православных.
Царевна ворвалась в кабинет князя словно фурия, кинулась ему на шею и заголосила:
– Ох, князинька, попала я как кур в ощип! Един ты можешь меня спасти. Спаси же, спаси!
– Полно, госпожа, – холодно сказал князь, отстраняясь. – Заварили вы с Федором кашу, я ж сему не причинен. Допрежь следовало бы мне ведать о ваших планах. А теперь что ж? Теперь ничего иного не остается, как бить царю Петру челом, дабы он воротился в Москву.
Софья отшатнулась.
– Бить челом? Да ни за что! Как это я, правительница, сему молодчику, у коего молоко на губах не обсохло, стану бить челом? Да статочное ли это дело?
– Весьма статочное. Неразумие твое слишком простерлось, госпожа. Во время оно толковал я тебе: примирись с Петром, придет время, когда мир тебя сохранить поможет. Не токмо тебя – нас всех, – поправился он. – А теперь что ж? Теперь ступай к Троице да бей ему челом, чтобы воротился он да утишил Москву.
– Как же это, как же? – обливалась слезами Софья.
– А вот так же! Не хотела по-хорошему, ступай по-плохому.
– Нешто нельзя по-иному? – все еще всхлипывая, выдавила царевна.
– А как по-иному, посуди сама! Как?! Нагородили вы с Федором городьбы, а мне разбирать? Как бы я ни старался, а ни сил, ни уменья у меня нету. И ни у кого не отыщется. Ход только один: ехать на поклон. Смилуется – твое счастие, не захочет – всех нас погубишь. Игра наша сыграна, государыня. Теперя Петр-царь починает свою. И всем нам не поздоровится.
Софья топнула ногой. Глаза ее были сухи, рот перекосила усмешка.
– Приму-ка я свои меры! Запру все ворота, поставлю караулы, велю никого не выпущать и не впущать.
– Ну и что будет? – поджав губы, спросил князь.
– А то будет, что власть моя пребудет! Приговорят бояре: быть мне на Руси главною.
– Только то у них и на уме, как же…
– А вот так же. Им все эти семь лет моего правления жилося сытно да покойно. Многим я жизнь облегчила…
– С моею помощью…
– А хоть и с твоею, а моим именем. Кто разбирать станет?
– Верно говоришь, госпожа, – неожиданно согласился князь. – С пылу да с жару кто возьмется. Правнуки наши разберутся!
– А до них мне и дела нет, – отрезала Софья. – Ноне моя власть!
– Власть-то твоя, а сила Петрова.
– Э, да как знать, – задорно приговорила царевна и с тем вышла. Приказала везти себя в Стрелецкий приказ. Застала Шакловитого в окружении верных ему стрельцов за штофом водки. Все были пьяны и веселы, словно ничего особого не случилось. Кланялись ей не низко, глядели дерзко.
Софья была зла. Рявкнула:
– Подите все! А ты, Федор, принимай, как должно, хозяйку!
Шакловитый глянул на нее остро, и хмель тотчас оставил его.
– Аль стряслось что?
– С луны ты свалился? Будто не ведаешь, что неуменьем своим натряс! Ахти мне, бедной, сироте, – запричитала она. – Али ты не заступник мой? Беда грядет, беда! Петрушка с потешными норовит осадить Москву, а ты тут бражничаешь!
– Велю караулы расставить по всему Земляному городу, – торопливо произнес Федор.
– Велишь? Проснулся! Я уж без тебя в полки людей разослала, всюду заставы ставлены.
– Еще что? – с вызовом молвил Шакловитый.
– Наказала боярину Троекурову ехать к Троице да просить царя Петра воротиться в Преображенское, дабы волнение унять.
– Как же! Захочет он! – зло бросил Федор. – Он теперича в выигрыше, он король козырный, а то и туз. Выкурить его оттоль надо.
– Возьмись да выкури, – в тон ему проговорила Софья, – ты его туда зазвал, тебе и карты в руки. Да только слаб ты, Феденька. Князь наш велит мне ехать к Троице да просить Петрушку воротиться. По мне рано еще. По мне надобно пождать, покуда боярин Троекуров с ответом не прибудет.
– А ежели Петрушка откажет?
– Боярина Прозоровского пошлю. Он краснобай, авось уговорит. А все ты заварил! – неожиданно выпалила она.
– Нешто я сам собою? С твоего благословения. Ты попустила, государыня.
– Я? Да, но с умом, со страховкою. А не так: вперед слово пущал, а за ним дело творил. Да и творил ли?
– Тебе легко говорить, – только и нашелся Федор. – Поди распознай изменщика! Я что ль спугнул Петрушку? Дело было задумано надежно, два полка были готовы ночною порою осадить Преображенское и зажечь его с трех сторон… Да что тебе сказывать – сама все одобрила.
– Одобрить-то я одобрила, да не взяла в расчет, что не остережешься. Пустил слово на ветер, вот его и подхватили, прибилось оно к Петрушкиным доброхотам. А они у него всюду ставлены. Ты о том должен был знать.
– Э, да что опосля драки кулаками махать! – в сердцах выкрикнул Шакловитый. – Ни кулакам махать, ни языком колоть я не намерен.
С тем и вышел, хлопнув дверью.
С тяжелым сердцем отправилась царевна к патриарху в надежде на его посредничество. Уж он-то понимать должен, к чему может привести распря в государстве.
Патриарх стоял на молитве, и Софья не посмела отзывать его. Пришлось дожидаться. С час прошел, а патриарха все не было. Царевна стала закипать, не привыкла она ждать да кланяться. Семь лет правления приучили ее к самовластности. Хотела было повернуться, а он и вышел.
– Знать, грехи одолели, – попыталась она съязвить, – заждалася я, святейший отче.
– Грехов на мне нет и быть не может, – отрезал Иоаким, и уж царевна пожалела, что поддела его. – Я первенствующий меж монахов и, стало быть, пример благочестия.
– Прости, святейший отче, уж больно я раздосадована.
– Бог простит, – отвечал Иоаким, поджав губы, что было признаком нерасположения.
– Токмо ты, святейший, можешь забрить нас с государем Петром, – льстивым тоном произнесла Софья. – Раздор наш поведет к смуте. Начнет литься кровь, много невинных душ погибнет. Ежели бы ты поехал к Троице да уговорил братца Петрушу воротиться, я бы в ножки тебе поклонилася.








