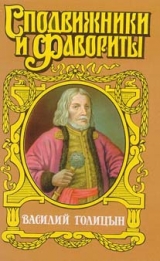
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Так, в томительном ожидании, прошло несколько дней. Наконец из Троицы пришла грамота. Ее сочинил князь Василий, а подписала правительница Софья от имени великих государей. В ней говорилось:
«Вы бы их, князей Хованских, явную измену ведали, и никаким прелестным и лукавым словам и письмам не ведали, на себя же нашей опалы и никакого гнева не опасались и никакого сомнения в том не имели, потому что нашего гнева на вас нет».
В грамоте говорилось не о стрельцах, а о надворной пехоте. Но страсти не улеглись. С кремлевского Пушечного двора вывезли все пушки, побрали ядра, порох, свинец. Горлопаны требовали разграбить и зажечь все боярские дворы, да, вооружившись, идти на Троицу походом.
В Троице об этих речах заводчиков немедля прознали. Кинули клич к земским людям, заперлись и стали готовиться к осаде. Разумеется, главное начальство над ополчением было поручено самому разумному да распорядительному: князю Василию Голицыну. Он, впрочем, вел успокоительные речи: как бы стрельцы да солдаты ни ярились, Троицу им не взять. И дело не во многом ополчении – это при осаде лишние едоки, а в крепости и несокрушимости ее стен. Пушки на стенах ощерились жерлами, картечи да ядер было запасено в достатке, запасен и провиант – живой скот да зерно вволю, равно и овес и сено для коней.
– Припас костей не ломит, – говаривал князь Василий, – а предосторожность не мешает. А уверен я в том, что сии приготовления без надобности: не пойдут стрельцы походом на Троицу, ведают, что она неприступна – раз, сила наша их пересилит – два. Они безначальны, головы у них нет. А голова в воинском деле едва ли не главное.
По его слову и вышло. Попаниковали стрельцы да солдаты, а с ними и посадские люди, а потом напал на них такой страх, что стали они бить челом патриарху Иоакиму, чтоб замолвил за них слово, что покорны они и просят великих государей и весь двор воротиться в Москву.
– Коли покорны, так пусть пришлют от каждого полка по двадцать выборных, и мы их тут рассудим, – распорядилась Софья.
Пошел с выборными суздальский митрополит Илларион, как страховщик, что им-де зла не будет. Софья самолично вышла к ним и стала их распекать. А выборные подали ей сказку, в которой было писано: «Деды, отцы, дядья и братья наши и мы сами великим государям служили и ныне служим и работаем всякие их государские службы безызменно, и впредь работать безо всякой шалости рады; услышим от кого-нибудь из нас или от иных чинов людей злоумышленные слова на государское величество, на бояр думных и ближних людей, таких будем хватать и держать до указу, как будут государи в Москву из похода, а у нас никакого злоумышления нет и вперед не будет; ратная казна, кою мы взяли, пушки, порох и свинец теперь в полках в целости, полки, коим велено идти в Киев на службу, все готовы».
Напряжение, которое владело всеми, с таковым покаянием спало. Пришла весть и от боярина Михаилы Петровича Головина, назначенного управлять Москвой, что все смирны и покорны и ждут не дождутся прихода великих государей со всем двором и боярами.
От такого известия легко стало на сердце у Софьи. Хованских более нет – стало быть, и свидетелей ее соумышления со злодеями нет, Алексейка Юдин тоже головы лишился.
Легко, да не надолго. Не давал ей покоя царь Петрушка. Входит он в возраст, а как войдет – не станет с нею церемониться.
– Как же мне быть, Васенька? Ведь он меня, злодей, со свету сживет. Он уже сейчас ходу не дает, во всем перечит.
Князь Василий был в затруднении. У царя Петрушки норов крутой, хоть и молод он, но самовит. Если против него пойти – сомнет, успеха не будет. И сила за ним не малая, хорошо выученная иноземцами да им самим. Какие они потешные – не потешные вовсе, а регулярное войско. Нет, не взять его в лоб, и обходом его не взять.
– А как? – спросила царевна, хотя знала – никак.
– Говорил я не раз, – сердито отвечал князь Василий. Оттого сердито, что упрямилась Софья. – Только замирением, только в полной дружбе и покорстве.
– Нет, – мотнула головой Софья. – Не будет этого! Не пойду на поклон! Ни за что!
Глава пятая
Куда весы качнутся…
Грозен враг за горами, а грозней – за плечами.
Двум саблям в одних ножнах не ужиться.
Стрелец стрельца зрит издалека.
С медведем дружись, а за топор держись.
Народные присловья
Свидетели
По вступлений в правление, царевна София для своих плезиров завела певчих из поляков, из черкас, также и сестры ея по комнатам, как царевны: Екатерина, Марфа и другия, между которыми певчими избирали своих галантов и оных набогащали, которыя явно от всех признаны были.
…что принадлежит до женитьбы ея с князем Васильем Голицыным, то понимали все для того, что оной князь Голицын был ее весьма галант, и все то государство ведало и потому чаяло, что прямое супружество будет учиено…
В 1689-м царица Наталья Кирилловна, видя сына своего в возрасте лет полных, взяла резолюцию женить царя Петра Алексеевича. И к тому выбору многия были из знатных персон привожены девицы, а особливо княжна Трубецкая, которой был свойственник князь Борис Алексеевич Голицын, и всячески старался, чтоб на оной женить. Но противная ему, князю Голицыну, партия Нарышкиных и Тихон Стрешнев не допустили того, опасался, что чрез тот марьяж (брак) оной князь Голицын с Трубецкими и другими своими свойственниками великих фамилий возьмут повоир (силу – фр.) и всех других затеснят…
А именовалась царица Евдокия Федоровна и была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего, нравом несходная своему супругу, отчего все свое счастие потеряла и весь род свой сгубила… Род же их, Лопухиных, был из шляхетства средняго, токмо на площади знатного, для того, что у делах непрестанно обращалися до своей квалиты ( фр. – положения в обществе) знатных, а особливо по старому обыкновению были причтены за умных людей их роду, понеже были знающие в приказных делах, или, просто на звать, ябедники. Род же их был весьма людной, так что через ту притчину супружества, ко двору царскаго величества было ведено мужескаго полу и женскаго более тридцати персон. И так оной род с начала самого своего времени так несчастлив, что того ж часу все возненавидели и почали рассуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и воем государством завладеют. И коротко оказать, от всех были возненавидимы, и все им зла искали или опасность от них имели.
О характере принципиальных их персон (то есть главных) описать, что были люди злые, скупые, ябедники, умов самых низких и не знающие нимало во обхождении дворовом, ниже политики б оной знали. И чем выступали ко двору, всех уничтожили, и Тихона Стрешнева в краткое время дружбу потеряли, и первым злодеем себе учинили.
Князь Борис Иванович Куракин. «Гистория…»
Ох, женила мачеха царя Петрушку. Стало быть, подала знак, что вошел он в возраст и отныне станет царствовать самостоятельно, и в правительнице царевне Софье нужды не будет. Братец-де ее старший царь Иван давно в возрасте, женат, так что куда ни кинь, а правлению ее конец пришел.
Что делать-то? Как быть? Извести бы Петрушку с матерью-мачехой наговором, отравою, колдовством. Стала Софья сама не своя, мечется туда-сюда, места себе не находит.
Как же так? Неужто с властью придется расстаться? Ввергла себя в великое искушение, вырвалась из теремного узилища, познала вкус свободы, вкус власти. Вкус-искус.
Да-да, вкус-искус! О, Господи, помоги! Научи! Научи, как быть, что делать, к чему припасть.
Молила князя Василия – надоумь. Хмыкает. А ведь это и его интерес. Власть его через нее. Не станет она правительницей – не станет и он Царственные большие печати Сберегателем. Не оставят его во главе приказов. Петрушка его терпеть не может, сживет.
– Помоги, князинька, дай совет, – стала его молить.
– Давал я тебе совет, Софьюшка, – отвечает холодно. – Замириться надо было с Петром-царем. Вовремя замириться. Может, пошел бы он тогда на согласность. Как-нибудь поделили бы власть.
– Пошел бы он на замиренье? – неуверенно спросила царевна. – Разве? Ты так мыслишь?
– Сказать по правде – не пошел бы. Властолюбив очень. Сильный умом и характером. Волею своею.
– Сжить его со свету надо, вот что! – выкрикнула Софья. – Ничего другого не остается. Думай, Вася, как к сему приступить.
– Думали ужо. Да занапрасно.
– Ищи выход! – зло бросила Софья. – Тебе же не поздоровится.
– Я вот что тебе скажу: упустили мы время. Поздно теперь руками-то размахивать. Теперь он нас и близко к себе не подпустит. Чует в нас врагов своих. – И, помедлив, спросил: – Пошто Прасковья не родит? Уж более года прошло.
– Что? Иваново семя несгодно.
– Мы с тобой толковали, дабы завела она галанта с добрым семенем. Ты ей намекала?
– Как не намекать. Не понимает, туповата.
– Коли не понимает, режь впрямую.
– Пожалуй.
Поняла Софья – тупик. Оборониться надо со всех сторон. Загородиться верными людьми. Давно положила глаз на Федора Шакловитого. Статен, силен, умен. Расторопен. Свой, одним словом. Глаз с нее не сводит и охотки своей не прячет. С князинькой дружбу завел, чтоб чаще с ней видаться. Она-то чует.
Запала царевне в голову одна мысль. Не стала она пока делиться с князем Василием. А призвала Шакловитого и напрямки спросила:
– Ты, Федор, был бы не прочь, коли я бы тебя стрелецким головою сделала?
Упал на колена, стал ловить ее руку, приложился – еле оторвала.
– Благодетельница! Госпожа ты наша премудрая! Да я тебе как пес верный служить буду. Что прикажешь – все сделаю.
– Смотри же. Я верных ценю. Жди указа.
Поехала в Измайлово, наставить братца Иванушку.
Он, само собой, в церкви бил поклоны. Потянула его за рукав.
– А? Что? – обернулся, глаз мутный, безумный. – Ах, это ты, сестрица?
– Пойдем, братец, потолковать надо.
– Зачем? Здесь и потолкуем.
– О мирских делах в храме Божием не толкуют, – рассудительно сказала Софья.
Пошли в покои. Отчего-то все окна закупорены, пахнет ладаном и деревянным маслом. Душно. Сдвинула раму волокового оконца, стало легче дышать.
– Остудно, сестрица, – вякнул Иван.
– Ништо. Эвон, и мухи дохнут.
– Это они от ладанного духа. Не выносят, – заметил Иван. – Воскуряем, дабы очиститься. Все нечистое он уносит.
– Дело меня привело к тебе, братец, – начала Софья, – важное – усеки.
– Что ж, я готов. Как ты скажешь.
– Ты думного дьяка Федора Шакловитого помнишь?
– Ну?
– Что читал указ о винах князей Хованских в Воздвиженском?
– Ну? Я при сем не был.
– Все равно – был, не был. Я тебе толкую. Он верный нам слуга. Нам с тобою, понял?
– Ну? Понял.
– Я указ заготовила. Поименован он в нем, яко глава Стрелецкого приказа. Ты сей указ брату Петру дай подписать, а сам подпиши прежде. Тогда он не откажет. Вот он, указ. При мне подпиши. Когда у вас сиденье?
– Завтрева.
– Федор в Думе будет. К руке твоей подойдет. Ты указ и огласишь, либо пусть боярин Стрешнев зачтет. У него голос громкой.
– Стрешнев не зван. Да он и дерзок на язык.
– Ну пусть кто иной. Только не забудь. Вот, подписывай, – Иван наклонился над пергаментом, обмакнул лебяжье перо в чернильницу…
– Чернила высохли, сестрица, – сокрушенно сказал Иван. – Тута мне писанье без надобности.
– Зови постельничего да пусть принесет чернил.
– Да где ж ему взять. Чернила – они у дьяков да подьячих, те пишут. А в сей чернильнице, думаю, чернил-то сроду не бывало.
– Так зачем же она тут! – в сердцах выкрикнула Софья. – Эй, кто тут!
На зов явился стольник Макарьев.
– Сей же час скачи в Посольский приказ да привези чернила. Уразумел? Скажешь – я велела. Да не помедли.
– Слушаюсь, государыня царевна. Лошадь под седлом.
Прошло два часа в нетерпеливом ожиданье. Наконец явился Макарьев с чернильницею. Он нес ее на вытянутой руке.
– Вот, государыня царевна, с береженьем вез. Ни капли не пролилось.
– Ловко. Ступай себе. А ты, царь-государь, изволь подписать.
Ивану, видно, не часто приходилось прибегать к письму. Он долго пыхтел, высунув язык, и наконец вывел свою подпись, а лучше сказать, нарисовал ее.
– Не умудрил Господь, – признался он. – Все письменное за меня дьяки учиняют.
– Ладно уж. Так ты не забудь, братец, дать Петруше на подпись.
– Как можно, коли ты просишь.
– То-то же. Нужный нам это человек – Федор Шакловитый.
И с этими словами отправилась на половину царицы Прасковьи.
В просторной горнице с киотом в красном углу мерцал, отражаясь в глади иконных ликов, красновато-желтый огонек негасимой лампады. Прасковья сидела на возвышении, как подобало царице. Вокруг нее теснились мамушки, комнатные дёвушки. Все были заняты рукоделием. Неназойливо жужжала прялка. Старуха Агафья, травница и гадалка, плела какую-то историю.
Завидя царевну, все вскочили и согнулись в поклоне. Встала и царица, поклонилась и она. Не так низко и раболепно, как все прочие.
– Добро пожаловать, государыня сестрица.
– Бог помочь, – отозвалась Софья. И, обратившись к остальным, властно произнесла: – Изыдьте! Свой разговор у меня. – И когда все выкатились из горницы, продолжила: – Открыто говорить с тобою буду. Не понесла небось?
Царица залилась краской:
– Не понесла, сестрица. Не виноватая я.
– Не стараешься. Кабы постаралась, забрюхатела бы.
– Стараюсь я, стараюсь, матушка сестрица. Молю Богородицу-заступницу о даровании плода.
– О добром семени молишь ли?
Запунцовела Прасковья, сделалась как огонек лампады.
– И о добром семени молилась, – вполголоса призналась она. – Не посылает. Видно, гневна Матерь Божья, ума не приложу, чем могла не угодить.
– Чиста ли ты духом?
– Чиста, – еле слышно отвечала Прасковья.
– Вот и худо, что чиста, – неожиданно произнесла Софья. – Много ль семени изливает царь-государь?
– Откуль я знаю, – прошелестела Прасковья. – Кажись, много.
– Невсходное оно, по всему видать. Сколь времени уж вы в супружестве, а толку нету. Искать надобно семя всходное. Нет ли у тебя на примете красна молодца, к коему сердце млеет?
Царица закрыла лик ладонями.
– Ну, отвечай как на духу!
– Есть, государыня царевна.
– Ну вот и хорошо, – как можно ласковей произнесла Софья. – Тут греха нет. И коли приблизишь ты его, греха не будет. Сердце, оно питания требует, а женско тело плодного семени. Ровно как цветок воды. Без воды он засохнет. И лоно твое без плоднего семени засохнет и сама ты увянешь. Приблизь его, приблизь. Да не робей – коли я сказала, греха не будет, стало быть, и не будет. Да я тебя прикрою, коли нужда приспеет. Все мы ждем, когда ты обрюхатеешь да младенца принесешь.
– Как же ему сказать, сестрица? – снова прошелестела Прасковья, не отнимая ладоней от лица. – Не можно мне…
– А ты наставь бабку Агафью. Все едино в таком деле верный человек нужен. Пущай на кресте клятву даст, что меж вас до гроба все пребудет. Она ведь, кажись, и сваха, так что в таком деле толк ведает.
– Само собою, – произнесла царица, отняв ладони от лица, по-прежнему розовевшего. Но уж краска постепенно отливала от него.
– А кто избранник-то твой? – напрямки спросила Софья.
– Стольник он мой, государыня царевна, – уже открыто отвечала Прасковья.
– Вот и хорошо, что стольник. Стало быть, благородных кровей, – поощрила ее Софья. – Стало быть, и плод любви твоей тож пребудет благороден. Хорошо это. Помни: дело это как бы государственное и посему приступай к нему безо всякого сумления. Поняла?
– Как не понять, – со вздохом отвечала царица. И уж была в ее тоне и надежда, было и облегчение.
– Отчет будешь мне давать, – напоследок сказала царевна. – Спрашивать с тебя стану. Так что не помедли. Вот завтрева и приступай.
– Благодарствую, государыня сестрица, – неожиданно произнесла Прасковья. – По слову твоему и приступлю. – Глаза при этом глядели ясно, а кожа лица приняла тот нежно-матовый оттенок, которому откровенно завидовала царевна.
Странное дело: Софья почувствовала необычное облегчение, словно с ее плеч: свалился некий груз. Царица Прасковья, казавшаяся ей слишком благочестивой и упрямой, в общем-то легко согласилась на блуд, прекрасно зная при этом, как велика опасность, если все откроется. В лучшем случае ее ждет монастырская келья где-нибудь на берегах Белого моря, а в худшем – смерть под топором палача.
Оставалось только ее погонять. Ну, погонять-то она будет, а вот как скоро дело сделается при том, что надобно идти к нему малыми шажками, поминутно осматриваясь. Вся надежда была на бабку Агафью, сваху и сводницу, с ее опытом и практикой. Надо было ее задобрить, и Софья послала к ней своего доверенного окольничего Тихона с мешочком червонных.
– Скажешь ей: по царицыному, мол, делу, дабы как можно сокровенней старалась. А коли все сделает как должно, будет ей еще награжденье от меня.
Всех следовало погонять, за всеми следить. Вот и братца Ивана по делу Шакловитого. Промедлил он, не подал грамоту царю Петрушке на подписанье. Кабы кто должность эту не перехватил из Петрушкиных-то людишек. Должность важная – начальник Стрелецкого приказа. Феденька Шакловитый с надворной пехотой поладит, у него меж начальных стрельцов – пятидесятников, сотников и пятисотенных – были дружки.
«А с ним и у меня все они будут в горсти, – думала Софья. – Они – сила несумненная».
Ох, как надобна была сейчас эта сила, дабы удержаться на той высоте, которой она достигла. Достигла с великим трудом. Ведь николи такого на Москве не бывало, чтоб баба, хоть и царская дочь, поднялась во власть и сиживала в Думе наравне с боярами, а то и на царском месте. Чтоб во едином шествии с царями…
Два ныне царя на Руси. Такого тож не бывало. Верно, с соизволения небесных сил. А все ж и земная сила себя оказывает. Да еще как!
Меж сестер – удивление. Как она, Софья, выскочила наверх? Ведь не старшенькая – середняя. Зато не летами, а разумом выше всех их. Господь умудрил. И в кого только она такая взялась?
Но вот ведь с женитьбой Петрушки все подкосилось. А тут еще князь Василий собрался в поход на крымцев. Как-то она будет без него? Разве что Федя будет под рукою. К нему ее тянула неведомая сила. Она и названия этой силы не знала. В нем чуялся неутомимый и страстный любовник.
Ее князинька последнее время ослаб. И не было в нем прежней ретивости, и не звал он ее в мыльню. «Небось завел бабу слаще, – думала она. – Эвон у него их сколько в дворне. Все его, отказу не будет. Небось, в мыльню их водит…»
А Федя ее глазами так и ест. Скажи только слово, и тотчас набросится как дикий зверь на добычу. Чуяла она, чуяла. Но покуда князь Василий здесь, Федю надобно держать в узде. А там… и воображение рисовало ей сладострастные картины их близости. Она отчего-то была уверена, что ее не миновать и что знаки этой неминучести слышатся в речи Шакловитого, во всей его манере держаться и даже в походке.
От всех этих забот и дум она вовсе сна лишилась. Поили ее кизиловым взваром – будто для умягчения душевного, отваром сон-травы, еще какими-то снадобьями. Да все как-то не впрок. Что более волновало? Федины ли чары или неминучая угроза – царь Петрушка с ближними своими.
Он набирал силу. И та сила целилась в нее. Царь Иван был немощен и в дела правления не мешался. Он соглашался со всеми, кто бы его ни просил. Он был мягок, как воск, как глина, из него можно было лепить все, что угодно. Петрушка и лепил. Правда, ее слово, ее наказ первенствовали. Но голова у него была худая, памяти никакой, он постоянно забывал все, что наказывала ему она. А потом слабым голосом винился. Да и что с него возьмешь – болен, слаб разумом, немощи одолевают. Про себя думала: не жилец он, как братец Федор, как все остальные: Алексей, Симеон, Дмитрий; Иван – последний из братьев и такой же гнилой. Экая напасть на мужскую ветвь!
А у Петрушки его Дунька уже забрюхатела, вот-вот родит. Слух прошел, что неладно у них, глядит Петрушка на сторону, что ни день, пропадает в Немецкой слободе. Будто завелась у него там зазноба. Кабы так – хорошо бы, может, за теми амурами ослабит хватку, оставит государственные дела.
А на что еще надеяться? Сызнова прибегла она к колдунам да чернокнижникам. В тайне все делалось, ибо люди это все сокровенные, ото всех свои узы прячут. Полностью ведь открыться перед ними она не могла, назвать своего супротивника даже по имени, а не то, что по званию, не смела и намеком. Искала способы извода, черных чар, пытала, какие есть яды быстрые. Объясняла: потому-де все это ей нужно знать, что много у нее лютых ворогов и хотят они ее во что бы то ни стало извести. Дескать, женщине на царском месте не бывать, то сатанины проделки, а потому ее, Софью, хоша она и царская дочь, надо убрать.
Перебывали у нее старухи-ворожеи, травницы, бабы, слывшие колдуньями, – все бабы да бабы. Искала мужика, всемогущего колдуна. Да все они таились – боялись лютой смерти. Сжигали их в срубах, как еретиков, как сатанинских прислужников, как расколоучителей. Обещала злата да серебра в награждение той, которая найдет такого демонского служителя.
Наконец привели к ней такого. С виду – блаженненький, весь в рвани, лицом темен, ногти что когти, речью гугнив. И дух от него скверный, вроде бы серный.
Не в кремлевских хоромах она его принимала – в избе одной бабки. Изба, как все избы, была из двух половин. В одной половине вдовая бабка Аграфена, Грунька, жила, в другой – разные травы да зелья хранила, висели у нее под потолком даже и жабы сушеные, змеи вяленые – та половина была заветной, и бабка Грунька никого туда не допуск кала. Знамо дело – для царевны и сережка из ушка. Ездила к ней время от времени Софья для заговорных дел своих.
Звали колдуна Серапион. И имя какое-то нечистое, хоть и в святках означено как христианское. Скорпион! Стала Софья его допрашивать – отвечал разумно, словно не было на нем лохмотьев и грязи вековой.
– Тебя бы отмыть да приодеть – был бы человек как все. А то вон какой страхолюдный да смердящий: ближе как на аршин подойти боязно, – произнесла Софья.
– Мне, матушка боярыня, ничего такого нельзя. Потому как я с нечистой силой вожжаюсь, то и должен быть нечист.
– Ишь ты каков, – подивилась Софья. – Должно и в самом деле так. А скажи на милость, можно ль с твоею нечистой помощью извести недруга моего?
– А велик ли недруг? Муж он, али баба?
– Велик ли?
Софья на мгновенье призадумалась, отвечать ли по всей чистоте. В этой избе она была тайно, звалась дворянскою дочерью Маланьей, пробиралась сюда задворками, разумеется, одна. Ну да будь что будет!
– Мужик он, – наконец сказала она. – Собою велик, силу имеет изрядную.
– Эге ж, то будет непросто. Попытаем сначала заговором, – и он протянул раскрытую ладонь. – Положь монетку. Да чиста серебра.
Софья не без дрожи достала гривну и положила ее в черную когтистую ладонь. «Как у зверя», – подумала она и невольно зажмурилась.
Колдун забормотал сначала под нос, потом все громче, диковатей, страшней. У Софьи все внутри оборвалось.
– Кындра-мындра, гага туй, брында, рында-руга туй… Имя евонное, говори быстро, имя!
– Петрушка! – с отчаянием выкрикнула Софья.
– Ослепи Петра-раба черные очи, раздуй его утробу яко коровье брюхо, засуши его тело тоньше соломинки. Да умори его скорей змеи гадючной! Пущай разверзнется под ним сыра Земля да поглотит его всего и сомкнется над им… – Бормотанье колдуна становилось все тише, все невнятней. Наконец он вовсе замолк. Смрад, исходивший от него, стал, казалось, еще сильней. Софья задыхалась от ужаса и отвращения. «Нет, я не выдержу более, это невыносимо, – думала она. – Я сейчас упаду… На волю бы…»
Она с трудом поднялась с лавки и, шатаясь, вышла в другую половину. Толкнув дверь ногой, вывалилась из избы, жадно глотая свежий воздух.
Вслед за ней выскочила и баба Аграфена:
– Ты что, государыня, аль худо тебе стало?
– Худо, – простонала Софья. – Дай водицы испить.
Пила жадными глотками из деревянного ковша. И, отдышавшись, снова зашла в избу.
– С первого-то разу, может, и не сдействует. Потом придешь, ино окажет. Испробуем и по-другому.
– Вот тебе, – и она протянула ему кошелечек. – Ежели сдействует, втрое, вчетверо получишь.
– Благодарствую, боярыня-матушка, – и колдун поклонился в пояс. – Зови, коли понадоблюсь.
Пробиралась Софья к себе уже впотьмах, сердце сжималось от страха, со всех сторон ее окружали какие-то непонятные звуки, тени, существа. Она хорошо знала дорогу днем, но это была совсем другая, зловещая, страшная дорога. Она всегда шествовала в сопровождении огромной свиты, а сейчас с нею не было никого, а потому непривычно и ужасно. Страх мало-помалу становился все сильней, это уж был не просто страх, а ужас.
Казалось, прошла целая вечность, пока она добралась до заднего двора своих хором. Ее била дрожь, зубы лязгали, словно от свирепого мороза. На неверных ногах Софья поднялась по лесенке потайного хода в малую горенку, где принимала тех, кого никто не должен был видеть.
Без сил свалилась на лавку и долго приходила в себя, прежде чем снять с гвоздя ключ, коим отмыкалась горенка снаружи и изнутри. Никак не могла попасть им в замочную скважину. Наконец это ей удалось, и она взошла в свою опочивальню. Спрятав ключ, Софья откинула щеколду и вышла.
– Государыня царевна! – хором воскликнули мамушки. – А уж мы думали, что ты почивать изволишь, так и сказали боярину свет Василью Васильевичу – спит-де наша госпожа. Он, свет-боярин, не велел будить и с тем и уехал.
– А давно это было? Давно князь пожаловал?
– Давненько уж. Еще засветло.
– В трапезную пойду, – только сейчас Софья почувствовала, как проголодалась. – Велите накрыть. Хочу огурчиков соленых да бруснички моченой к стерлядке разварной. И чтоб белужий бок был…
Хотела сказать: аппетит нагуляла, потому что мамушки при этих ее словах и желаниях вытаращили глаза, но, спохватившись, пояснила:
– Все это я во сне видала и едала.
– Ах ты наша лебедушка белая! – умилились мамушки. – Давно ты так не едала. Уж мы сокрушалися: совсем-де наша великая госпожа аппетиту лишилась, сохнуть стала. Все-де заботы государственные, все думы тяжкие о царстве, как ему быть. Ну и слава Господу, что наслал на тебя желанье. Утроба человеческая, она уж беспременно свое стребует, что ты ей недодала…
Так они болты болтали, пока Софье не надоело их слушать и она не прикрикнула:
– Полно вам, бабы, языками-то молоть! Сели бы лучше прясть.
Прыснули и разбежались по светелкам. А она с жадностью уплетала все, что приносили ей кравчий да стольник, и даже отведала медовухи, после которой кровь ударила в голову и голова пошла кругом. Царевна долго сидела за столом, пока не почувствовала усталость и изнеможение во всем теле. И ей смертельно захотелось спать.
Не помня как, Софья добралась до опочивальни, но сил раздеться самой не было. Она слабым голосом позвала спальницу Марью:
– Уложи-ка меня, Марьюшка.
Спала на удивление крепко, не просыпаясь, без сновидений. А проснувшись, вспоминала вчерашнее как дурной сон. Однако ловила вести из Преображенского, куда из Кремля съехал царь Петрушка со всеми своими домочадцами, с ненавистной мачехой прежде всего. Челяди при нем было сравнительно немного. Зато потешных – два полка. Ходил слух, что и третий созывается, но то было не очень достоверно.
К обеду не выдержала: послала окольничего в Преображенское с наказом: справиться о здравии царя у услужающих. Да только без особой огласки: царевна желает-де знать, будет ли он завтра в присутствии, дабы держать с ним совет.
Ввечеру окольничий Нефедов возвратился.
– Ну, сказывай, что вызнал.
– А то, государыня царевна, что великий государь занедужил и завтрева в Кремль не поедет.
– Вот тебе золотой. Ступай себе, – чуть не ликуя, вымолвила Софья. Стало быть, Серапион и вправду силен, вправду скорпиён, и яд его действенен на расстоянии.
Велела покликать бабку Аграфену, Груньку то бишь, – с ней сносилась через старицу, кормившуюся внизу, – и когда та явилась на зов, велела:
– На неделе приду. Зови Серапиона. Может, в баньку его затащишь, – уж больно дух от него смрадный. Голове, да и всему нутру тяжко, давеча чуть не сшибло меня на пол.
– Нет, госпожа боярыня, не согласный он мыться. Бает: грязь-де у меня непростая, она мне силу придает. Может, и так, только я сама от него стражду.
– Банька у тебя чать своя.
– Своя, матушка боярыня, своя. А нейдет. И одежу я ему справила взамен рвани евонной. А не желает – и все тут.
– Ну коли не желает, стало быть, так тому и быть. Ему то ведомо, что нам с тобою сокрыто.
На том и порешили. Жадно прислушивалась к вестям о здоровье царя Петрушки. Теперь они доходили до нее окольными путями: вся Москва толковала, что молодой царь мается лихоманкою, то есть лихорадкой. Что доктора иноземцы всяко его пользуют и уверяют, что организм у него на диво крепкий и надобно ждать скорого выздоровления.
Пусть и крепкий, а я его изведу, думала Софья, с ненавистью поминая названого братца и всю его нарышкинскую породу. Серапионова нечистая сила сдействует. Против нее, видно, и иноземные доктора бессильны.
Она с нетерпением ждала очередного свидания с колдуном. Оно последовало вслед за выздоровлением царя Петрушки. Он снова завел свои потехи с полками Преображенским и Семеновским. Говорили, что недуг никак на нем не сказался, он по-прежнему быстр, деятелен, подвижен и силы богатырской. Снова стал ездить к своей крале на Кокуй. Уже и имя ее разносили по Москве – Анной-де зовут Монс: дщерь торгового немчика.
Потайным черным ходом выскользнула со двора, одетая, как простая посадская баба, в платочке, надвинутом на самые глаза. На таких стража не обращает внимания. Ноги, казалось, сами несли ее. Избенка бабы Груньки лепилась к Зарядью. Вошла по-хозяйски, без стука.
– Ну что, тут он?
– Тута, тута, – зачастила баба Грунька. – Тебя, госпожа хорошая, дожидает.
Вся вторая половина, прежде остро пахнувшая полевыми и лесными травами, пучки которых сушились на веревках и на полке, теперь смердела Серапионовым духом.
– Ну, здравствуй, – торопливо произнесла она. – Сдействовал твой заговор. Теперь старайся круче взять, чтоб твоя сила его силу поборола.
– Это можно, сударушка. Я много заговоров знаю, дабы порчу наводить, есть и травы ядовиты. Кабы ты мне волос твово недруга добыла, а еще лучше нечто из исподнего, был бы верный извод.
– Нет, ты покамест без сего сдействуй, наговором. А там посмотрим. Может, чего-нибудь и добуду.
– Все едино что, лишь бы вещь какую, кою он держит. Ты скажи его слугам – пущай уворуют.
– Ладно, скажу. А ты скажи заговор.
Серапион набычился, потом скорчил зверскую рожу и стал таково страховиден, что Софья зажмурилась, и начал приплясывая бормотать: «О ты, Амагамус, царь и владыка северных частей! Я тебя призываю мне на помощь противу человека, именуемого Петр. Нашли на него сухотку, напусти на него демонов, чтобы терзали его денно и нощно и чтобы от сих терзаний он таял и лаял и сначала стал зверем, а потом обратился в камень, ибо Петр есть камень, а из камня в песок, а из песка в пыль, и чтоб демоны развеяли эту пыль по всем странам света и от нее не осталось и следа!»








