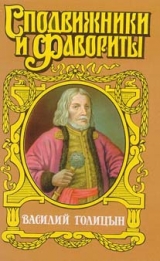
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Так оно и вышло. Стрельцам было роздано по десять рублев – деньги огромные. И казна опустела. Пришлось ввести дополнительные налоги. А облагодетельствованные щедрой рукой правительницы стрельцы разохотились и стали ждать новых дач. Когда же рука дающей оскудела, меж них снова началось брожение, грозившее перерасти в бунт. У них на памяти были кровавые дни мая 1682 года, когда они силою добились всего, чего хотели.
На потачках далеко не уедешь, не раз говорил он Софье. Но упоенная своею славой заступницы да деятельницы, она не внимала. И дождалась: Федору Шакловитому пришлось железной рукою выкорчевывать зерна зревшего бунта.
Да, всяк, простой ли смертный, правитель ли, должен почерпать мудрость из книг. Ибо в них содержатся семена, дающие пышные всходы. Сколько разумного извлек он сам из прочитанных книг. Сколь богатым они его сделали. Вот почему князь Василий, заслыша от иноземца о новой книге, стремился ее заполучить, вот почему он связался с книготорговым домом Флоренции, дабы с армянскими купцами получать оттуда новинки.
Оттуда, из Флоренции, ему и привезли этого Макиавелли. И он при всяком случае образовывал царевну, хотя она более всего желала бы предаваться любви и из всех апартаментов князя Василия более всего предпочитала опочивальню либо мыльню, где все решительно было приспособлено для любовных утех.
Он втолковывал ей мысль Макиавелли, что наследному государю гораздо легче удержать власть, нежели новому, ее же никак нельзя было почесть за наследную государыню. Она кивала – да-да, я согласна, но все равно совершала бездумные поступки, вроде того, что повелела чеканить свое имя не монетах. Она вела себя неразумно, иной раз вопреки его советам, как бы из молодечества – вот я какова! По существу, к ней относилась глава из сочинения Макиавелли: «О тех, кто приобретает власть злодеяниями». Ибо как не на вершине злодеяний стрельцов ухватила она власть. Тогда, когда бояре и другие думные люди пребывали в страхе и растерянности перед слепой и чудовищно жестокой силой.
Макиавелли приводит в пример некоего Олйверотти из Фермо. Он созвал именитых граждан своего города и в разгар пиршества истребил их при помощи солдат. Но его перехитрил знаменитый Чезаре Борджиа. Под каким-то предлогом он заманил его в ловушку и удушил. А произошло это через год после воцарения означенного Оливеротти.
Вспомнилась князю Василию и судьба Лжедмитрия, Тушинского вора и других самозванцев, домогавшихся власти силою. Все они разделили судьбу этого самого Оливеротти. Ясное дело: власть, захваченная силою, силою же и ниспровергается. Царевна тож самозванка, ежели глядеть в корень.
Каким же был я недалеким, а одновременно и самонадеянным, думал князь Василий, когда вовремя не разглядел грядущей опасности. И это я – я, которого почитали прозорливцем, мудрым, всезнающим. Женщина заслонила для меня все, за нею я ничего не видел, кроме ее самой. Я был увлечен доставшимся мне богатством. Ну как же, сама царевна, выдающаяся из царских дочерей! Вдобавок развита, умна, говорит по-польски. Экие достоинства! Держать государыню царевну в своих объятиях, помыкать ею как любой наложницей, подвергать ее унижениям, хотя в любовных ласках унижений не бывает. Это ли не лестно, это ли не дар Божий? А еще я заглянул в будущее. Как знать, не удастся ли мне при благоприятном повороте судьбы сочетаться с нею законным браком. Супруга болезненна, вот-вот отдаст Богу душу, а посему не грех и заглянуть в будущее. Человеку, даже простецу, свойственно строить воздушные замки. Тем более ему, князю Василию, который обладает почти неограниченной властью. Властью, которую ему вручил царь Федор и которую умножила и укрепила царевна Софья.
Мог ли он отречься от нее? Никогда. Ни совестливость, ни самолюбие, ни, наконец, сердце не допускали этого. Да, он был привязан к царевне сердечными узами, и если последнее время они ослабли, не его вина. Ее упрямство, чисто бабье, ее связь с Федором Шакловитым, ее нежелание глядеть в близкое будущее и пренебрежение его советами, учащавшимися по мере того, как приближалась неминуемая развязка, повели к этому охлаждению.
Нет, он не намерен был отказываться от царевны. В такое время это граничило бы с подлостью, а на подлость князь Василий был решительно не способен. Тем более что судьба его невольного сообщника, ставшего с ним на дружеской ноге, судьба Федора Шакловитого, была предрешена. Как бы царевна ни цеплялась за него, как бы ни отстаивала его перед боярами, немногими, кто остался ей привержен, какие бы горячие речи в его защиту ни произносила в наполовину опустевшей Думе и перед стрельцами, за которыми так и не закрепилось именование надворной пехоты, ей придется пожертвовать им, придется выдать его царю Петру. А у того расправа коротка: топор палача.
Как же ему-то быть? Ему и сыну-любимцу княжичу Алексею? Алексей унаследовал от него любознательность, приверженность к книгам, знание языков. Он мог бы сделать карьеру. Он сопровождал отца в походы и даже подавал челобитные о землях – и все это еще в самом нежном возрасте. И уж был пожалован в придворный чин спальника вместе со своим двоюродным братцем сыном князя Бориса Алексеевича княжичем Андреем. И уж к княжичу Алексею обращались за протекцией люди разных сословий, в том числе и достаточно именитые.
Стало быть, государственный вес отца уже стали перекладывать на плечи его сына. Ежели бы не нынешние переплеты, он мало-помалу вошел бы в большую силу, ибо все у него для этого было.
А теперь что ему светит? Что? Опала? Та же судьба, что и самому князю Василию. Придется, видно, опять ехать к братьям, кои в силе у царя Петра, и просить, молить о пощаде, о милости. Это в его-то значении, в его славе!
Поник головою князь Василий, и тяжкий вздох вырвался из груди. Не избежать!
Глава тринадцатая
Разрушенное упование
Сколько кобылке ни дрыгать, а в хомуте быть.
Семь дочерей у царя, и все зря.
Как ни верти – от судьбы не уйти.
Быть делу так, как пометил дьяк.
Народные присловья
Свидетели
…Федор Щегловитой был весьма в амуре при царевне Софии профитовал, и уже в тех плезирах ночных был в большей конфиденции при ней, нежели князь Голицын, хотя не так явно. И предусматривали все, что ежели бы правление царевны Софии еще продолжалось, конечно бы князю Голицыну было от нее падение, или бы содержал был для фигуры за перваго правителя, но в самой силе и деле бы был погнутой Щегловитой…
Еще забыл упомянуть, что царевна Татьяна Михайловна, тетка царя Петра Алексеевича, также в Троицкой монастырь перешла и была во всю ту бытность. И так, по приезде патриарха Иоакима и бояр и всех знатных уже двор царя Петра Алексеевича пришел в силу, и тем начало отнято правлений царевны Софии, и осталось в руках царя Петра Алексеевича и матери его, царицы Натальи Кирилловны.
По приезде ж помянутой князь Прозоровской к Москве, учиня рапорт царю Иоанну Алексеевичу, который был в его, Прозоровской, руках и воле, начал он, Прозоровской, стараться, дабы Щегловитова царевна София выдала, и сама также ретировалась в монастырь. И по многим противностям и спорам она, царевна София, понуждена была Щегловитова выдать, которого князь Прозоровской, приняв в ее каморе из рук ея, повез с собою в Троицкой монастырь за караулов, с которым сидели два полковника по переменкам…
А других многих в чины жаловали, как Ивана Цыклера из полковников в думные дворяне, князя Якова Долгорукова в Судной Московской приказ, Александра… в Судной Володомерской, князя Ивана Борисовича Троекурова в Стрелецкой приказ, а на его место в Поместной приказ – Петра Васильевича Шереметева.
Князь Борис Иванович Куракин. «Гистория…»
В хоромах царевны Софьи шли основательные приготовления к походу в Троицкий монастырь. Придворный куафер Тихон колдовал над волосами царевны. Она, ровно кукла, безвольно обмякла в его руках. А он то черепаховым гребнем, то деревянным, то какими-то невиданными дотоле щипцами обрабатывал волосы, сооружая из них целое подобие башни.
Царевна была в смятении. Только что князь Прозоровский с дворовыми увезли ее Феденьку. Не стыдясь, прощалась она с ним, как жена с мужем: простоволосая, повисла на нем, осыпая его поцелуями, лия слезы горючие, цепляясь за него до последнего, пока слуги чуть не вырвали его из ее объятий. Таковая бесцеремонность в иное время вызвала бы ее гнев, и обидчики были бы сурово наказаны, вплоть до смерти. Сейчас же она чувствовала свое бессилие. Ненавистный Петрушка взял верх, снова одолел ее. И, видно, такому не будет конца.
Унижение следовало за унижением. А это было просто ударом – ударом по самому ее сердцу. Он, Петрушка, знал, как уязвить и обессилить ее, отлично знал. И вот теперь ей предстояло самое горшее из унижений – ехать к нему на поклон. Дожила! К этому щенку, коего она старше на целых пятнадцать лет! Экое унижение! Думала ли она, что такое может стрястись. Твердил ей, впрочем, князь Василий, постоянно твердил – замирись. Горда была. Все надеялась на колдунов да ворожей – изводом извести Петрушку и ненавистную мачеху. А когда надежда на извод, на нечистую силу с ее заклятьями и заговорами рухнула, полагалась на стрельцов, верных ей, на Феденьку, которые огнем ли, топором ли, бердышом либо саблею прикончат ее злодеев. Не вышло!
Смутно было на душе у царевны. Словно кто-то невидимый давил и давил на нее, пытаясь согнуть, сломить. Все ее естество противилось этой поездке. Ибо там ее ждало невиданное унижение, нет, такого ей еще не приходилось испытывать. Но все вело к тому, она оказалась на краю. Все, чего ей удалось добиться за семь лет ее правления, вся та высота, на которую она забралась, вся она оказалась зыбкой, шаталась под нею, готовая вот-вот обрушиться.
Федора вырвали из ее объятий, грубо, неслыханно обошлись с нею, бесцеремонно попрали ее достоинство правительницы, ворвались в палаты и повязали на глазах ее любима. Она скрипела зубами от бессильного гнева, от отчаяния, от беспримерного унижения. Все тщетно.
– Ты, государыня царевна, не серчай, – бубнил князь Прозоровский. – Знамо дело, вышло неладно. Но тебе лучше покориться. Великий государь Петр Алексеевич порешит по справедливости. Я ему толковал, что великое огорчение твоей милости сей захват причинит. А он только ногою топнул. Она, говорит, и не того заслуживает. Ну как с ним спорить, уж больно он осерчал, как пришлось ему к Троице скакать ночною порою. Умыслил ведь твой Федор противу него зло.
– Не было сего! – выкрикнула Софья в отчаянии, – не было! Навет то тех, кто восхотел нас с братом поссорить!
– Вот ты ему, государыня, все и выскажи, его царскому величеству, он поймет.
– Не поймет он ничего! Он решил меня извести и власти лишить.
– Сие по справедливости делается, – осторожно выговорил князь Прозоровский. – Ты, государыня царевна, поцарствовала, сколь тебе было отпущено по малолетству братьев твоих, а теперя, коли они вошли в возраст, тебе должно подвинуться и бразды им отдать.
– Не хочу я! – в отчаянии снова выкрикнула царевна. – Он норовит упрятать меня в монастырь.
– И то дело. Ступай, ступай, государыня, без лишнего, куда повелит. Мыслимо ли противу царя, супротив его воли идти?
Софья не нашлась с ответом, только рукою махнула, и князь вышел.
– Великая государыня, какую карету прикажешь подать? Ту, иноземную, что с позументом? – справился конюший.
– Кою попроще, с четвернею, – хмуро ответила Софья.
– Скороходов надобно ли?
– Не наряжать никого. Со мною комнатные, дюжина, да рота конных стрельцов – более никого. Из поварни оба повара с поварятами. Остальными Егоровна распорядится, она ведает нужду в походе.
Все естество ее продолжало противиться этой поездке. Хоть бы что-нибудь стряслось: ураган ли, землетрус, градобой. Она мысленно обращалась ко святым угодникам. С молением наслать некое происшествие. Пока шли сборы, скользнула в моленную и истово била поклоны Богородице «Умиление». Неужто не выручишь, неужто отдашь меня на терзание свирепому Петру, Петрушке… Жду милости, – пощади меня, Матерь Пресветлая, заступница жен.
Светел, надмирен был взгляд Богородицы. И было в нем обещание, иль то показалось царевне. Бережно прижимала она к себе божественного младенца Иисуса. Хоть бы знак подала, думала царевна, ведь все она в силе и славе содеять может. Но по-прежнему взор Присно девы был устремлен поверх земной суеты.
Кого еще просить, размышляла царевна. Кто еще в силе? И перешла к иконе Николая Угодника с житием. Глядел сурово великий угодник из Мир Ликийских. И помнилось Софье в этой его суровости некое осуждение. Муж он, думала она, не желает сострадать жене, а может, и грешность мою ведает…
Ушла в смятении. Явились сестры – провожать. Они втайне завидовали ей, а она была их заступницей, защитницей пред боярами, сетовавшими на расточительство царевен, на их зазорное поведение, дошедшее и до посадских.
– Ты, Софьюшка, смири гордыню, авось он и смилостивится, – посоветовала Екатерина.
– Да что ты смыслишь! – напустилась на нее Софья. Желание сорвать на ком-нибудь свою досаду, гнев, унижение переполняло ее: – Он милости не ведает, он всех нас, Милославских, ненавидит и хочет извести.
– Не перекоряйся ты с ним, – посоветовала Марфа, – он и утихомирится.
– Как же, утихомирится он, – с сердцем отвечала Софья. – Там с ним мачеха, она всех нас, царевен, на дух не переносит. А особливо меня, как правительницу.
– А что бы тебе, сестрица, покориться ему да и сложить с себя бремя правления, – вкрадчиво посоветовала Екатерина. – Тишком да ладком.
– Тишком да ладком! – передразнила ее Софья. – Меня войско желает видеть во власти, стрельцы мои, надворная пехота.
– Кабы все вступились за тебя, – сказала Марфа. – Да выступили согласно. Молви им слово.
– Третьего дни уж молвила, – уныло проговорила царевна. Но неожиданно под действием слов сестры что-то в ней вострепетало. То был, наверное, последний всплеск надежды.
Она призвала думного дьяка Никифора, что был при ней как бы начальником канцелярии, приказала:
– Собери стрельцов да посадских, сколь можно, пред Золотым крыльцом, буду еще говорить с ними. Да и грамоту изготовь к людям всех чинов государства о бесчинии Нарышкиных. Они, мол, благоверного царя Ивана Алексеевича ни во что ставят, заградили его сени дровами, дабы государю не было выхода, сорвали с него венец царский, когда он шел на богомолье, и его истоптали – все потешные Петровы так потешаются, мост в Измайлове хотели рушить, да стража отбилась…
Софья помедлила. Ей пришло на ум, что и Федора Шакловитого не лишне будет в той грамоте обелить. И она продолжала:
– Еще пропиши, что верного царского и моего слугу Федора Шакловитого, который великие услуги оказал государству, укротил заводчиков бунта, иных казнил смертию, а иных разослал в окраинные города, по навету бесчинных людей и по приказу царя Петра лишили чести и яко колодника отвезли в Троицкий монастырь на расправу, где ждет его смертная казнь. И мне, великой государыне царевне, избранной в правительницы Думою и всем земством, чинятся от Нарышкиных всяческие препоны и противности, а оборонить меня не дают… Жалостливо ль?
– Жалостливо, государыня царевна, я от себя некоторые слова добавлю. Дозволишь ли?
– Добавь. Так, чтобы за душу брало.
С этими словами она призвала конюшего и велела распрягать лошадей, отъезд-де временно откладывается по особливому указу.
Народ собирался долго и неохотно. Стрельцы остались без начальника и не знали, чьему приказу внимать, кому повиноваться кроме стрелецких полковников и пятисотских.
А те пребывали в смятении: коли повязали начальника Стрелецкого приказа, то чего ждать далее? Не исполнять ли повелений царя Петра и не выступить ли с полками к Троице? Смутил их и полковник Нечаев, присланный от царя Петра с наказом отправить выборных от каждого полка. Правда, царевна Софья Алексеевна поведала его не слушать, он-де самозванец и прислан, чтобы смущать народ. По ее приказу он был схвачен и уж было отдан палачу. Однако вскоре он был неожиданно освобожден от оков и даже потчеван водкою от имени правительницы.
На следующий день у Золотого крыльца гудела толпа. Она становилась все гуще, запрудив вскоре всю Ивановскую площадь. То были в основном стрельцы. У некоторых в руках были бердыши, которые они захватили на всякий случай. Кое-кто из них еще помнил события семилетней давности, помнил, какова была их власть, против которой никто выступить не смел. Да и не стало на Москве такой силы, которая могла бы противостоять стрелецкой. Есть ли таковая сейчас? Разве что иноземцы с солдатами, которыми командовал полковник Патрик Гордон, которого, впрочем, переименовали в Петра Ивановича. Но от них на площади было не более двух десятков солдат во главе с сержантом, облаченным в зеленую лягушечью форму.
День выдался светлый, тихий и нежаркий. По небу плыли затейливые барашки, скрывая своего пастуха – солнце. Порою оно показывалось, однако ненадолго, и тогда золотые блики играли на лезвиях бердышей, на куполах храмов, на парче облачений духовенства, обступившего царевну. Да и она была в пышном наряде, в котором ее привыкли видеть во время выездов.
Софья велела выкатить на площадь несколько бочонков с хлебным вином, и народ мигом расступился, давая им дорогу и сопровождая каждый бочонок одобрительными выкриками, словно дорогих гостей.
– Поторопилась ты, государыня, с питием, – заметил архимандрит Чудова монастыря. – Вишь, все к бочкам устремились, они людьми овладели. Не станут тебя слушать.
– Пущай ведают доброту мою, благоволение мое.
– Кой путь. Почнут драку возле бочек, вот и все благоволение.
В самом деле, замысел царевны воодушевить толпу и заманить ее на свою сторону, обернулся бесчинием возле бочек. Не дожидаясь, когда появятся виночерпии с кружками да ендовами, толпа камнями вышибала днища у бочек и припадала к ним. Началась свалка, в ход пошли кулаки, одну из бочек опрокинули, и толпа жадно припала к луже, лакая словно стадо скотов на водопое.
– Зришь, государыня царевна, каково получилось, – наставительно заметил архимандрит. – Теперь тебе долго не придется говорить. – Гляди-кось, гляди, что творят. Экие, прости Господи, звери.
Попытки стрелецких начальников образумить толпу ни к чему не привели. Их никто не слушал. Ясно было, что замысел обратиться к московским людям с жалобою на Нарышкиных, на их произвол, на утеснения, которые терпят Милославские – первые в царском роду, – потерпел неудачу.
– Может, отцы честные, – обратилась она к духовным, – отложить назавтра?
Говоря, она испытывала неловкость, чувство, от которого давно отвыкла.
– Как твоя милость повелит, – откликнулся архимандрит. – Только ты уж, государыня, не оплошай, лучше с нами совет держи. Мы с простым народом знаем как обходиться. Ему кость кинь, он за нее глотку перегрызет, жизни лишит.
Все, что прежде казалось ей простым, глянулось в другом свете.
Она думала: стоит дать мужикам вина, как они тотчас сделаются гладкими да покладистыми, и из них, как из воска, можно лепить любые фигуры.
Все выходило не так просто. И бочки стали яблоком раздора, не более того. Оплошала раз, оплошала другой… Не оплошает ли и отправившись в Троицу?
Никогда еще на душе у Софьи не было столь смятенно. Прежде она находила нечто острое в азарте борьбы. Ей казалось, что она в состоянии одолеть любое препятствие и убрать с пути любого человека. Она мнила себя всесильною, всемогущею.
Но нынче непривычная робость и неуверенность закрались в душу. Как их победить? Можно ли? Прежде она чувствовала надежную опору: князя Василия, Федора. Нынче у нее было ощущение, что князь Василий отошел куда-то в сторону. А, Федор… Федор был обречен. Она сделала все, что было в силах, для того, чтобы спасти его. Но Петрушка оказался сильней, настойчивей.
Только сейчас она ощутила его силу и внутренне содрогнулась. Что могла противопоставить она этой силе, этому напору? Кого? Только себя. Но что она могла? Что осталось у нее, кроме звания? Оно, звание, было единственным щитом. Но он уже не укрывал, он перестал быть защитою.
Она готова поехать к Троице, готова даже преодолеть свою гордыню и поклониться Петрушке. Но при одной мысли об этом ее всю переворачивало. Она, старшая, должна поклониться младшему.
Это было ужасно. Ужасною была и неизбежность, безвыходность этого. Прежде она умела изворачиваться, прибегала к совету князя Василия. Нынче же и князь Василий оказался бессилен. Она напрасно уверовала в его всемогущество, в его изворотливый ум. Выходит, напрасно она не вняла в свое время его призывам пойти на попятный, замириться с Петрушкой.
Он доказывал, что зря она пренебрежительно зовет его Петрушкой. Настанет день, и он явится пред нею во всей его силе и значении, явится Петром, единодержавным царем.
На Ивана нельзя положиться. Он, известное дело, ущербен головою, он с трудом передвигает ноги. И нечего закрывать глаза, не жилец на белом свете. Уже сейчас он отдал все бразды правления младшему брату. Он отказался от своих прав, как ни убеждала, как ни уговаривала его Софья.
Она собралась к Троице для того, чтобы покориться. Понимала: выговорить ничего не удастся. Понимала: Петр не уступит. Ежели бы она в свое время подольстилась к мачехе, можно было хоть в ней найти заступницу. Но мачехе отлично известна ее ненависть.
Искала ходы. Сама. Без чьей-либо помощи. Раскидывала умом и так и эдак. И все выходило одно: терем, возвращение к тому, с чего начала, откуда вышла. Среди бояр, в Думе, у нее почти не осталось приверженцев. Никто не встанет на ее защиту, как она ни изхищрялась.
Боже мой, Боже мой, но как же быть? Терем, вместе с сестрами, это еще ничего, это куда ни шло. Но монастырь! Экий страх оказаться в полном затворе… Хотя, сказывали, что опальный патриарх Никон и в Кириллове, и в Ферапонтове бражничал да блудодействовал.
Но то монастырь мужской. В мужских-то ей было известно, что дозволено, что не по уставу всякие вольности. Сказывали, что монахи и женским полом не брезгуют, баб из окрестных деревень всяко привечают. И то не почитается за великий грех. Мол, естество требует, а от естества не уйдешь. И у святых дети были.
Да как укротить плоть, коли ее зов столь могуч. Господь на то и создал мужчину и женщину, чтоб они длили род свой. Сказано ведь: плодитесь и размножайтесь…
Она на мгновение приостановилась в своих размышлениях, тщилась вспомнить, кем сказано. И не о скотах ли.
Да все равно: что скоты, что люди. Все, что естественно, все благо, все Господь благословит.
Отлагала день за днем свою поездку к Троице. Все надеялась как-нибудь извернуться. И речь держала перед толпой, сильно поредевшей после того, как стало известно, что дарового питья не будет. Жаловалась привычно:
– Всем ведомо, сколь была я добра. И деньгами, и питьем, и едами-яствами. И никому ни в чем отказу не было… – тут остановилась, ждала голосов подтвердительных, но, не дождавшись, продолжала: – А ныне меня утесняют, воли мне никакой не дают, людей моих преследуют. За что? Что я плохого сделала? Мы, Милославские, коренного природного царского рода, а нас Нарышкины теснят, ходу нам ныне нету. Вот и брат наш, царь Иоанн Алексеевич, тоже от Нарышкиных и от слуг их терпит всякие устрашения и утеснения. Ведомо ли вам, люди добрые, что он перестал ездить во дворец и вершить там вместях с братом Петром дела государства?
– То нам ведомо, – раздался одинокий голос. – По слабости ума царь Иван не ездит.
– Да как вы смеете! – взвилась царевна. – Думою, всем земством избран он на царство, яко старший брат…
– И тебе бы, государыня, пора в отставку, – продолжал тот же голос. – У нас царь природный есть – Петр Алексеевич!
Тщетно она вглядывалась в толпу, ища глазами того, кто кричал. Надеялась: вытолкнут его вперед, а тут бы пристава его схватили бы.
Но толпа слабо колыхнулась, и глаза у всех были пустые либо любопытные. Выжидали, чем кончится.
– Неужто вам меня не жаль? – чисто по-женски возопила она и всхлипнула. Пыталась сдержать себя, не явить слабость перед этим мужичьем, но слезы неудержимым потоком полились из глаз.
Толпа всколыхнулась. Голос – тот же, экий смутьян, – выкрикнул:
– Слаба ты, государыня, против Петра царя, тебе бы только слезы лить да с князем Васильем забавляться.
Усилием воли подавила плач, но, все еще всхлипнув, произнесла:
– Ежели мы, Милославские, вам не угодны, пойдем искать прибежища у християнских королей. Нас там примут и почет издадут, не то что вы, невежи. Как государыне царевне, правительнице, дерзите, столь зазорные слова произносите. И хоть бы вышел вперед тот, кто охулку на меня бросил.
Толпа снова колыхнулась, словно бы выталкивая из себя того, кто бросал дерзкие слова, но опять никто не вышел. Уже другой голос, высокий, ровно дьячковый тенорок, возгласил:
– Нешто пристойно будет к басурманским государям за защитою ходить. Нет, ты, государыня, у бояр милости проси.
– И попрошу! – уже твердым голосом произнесла Софья. Она поняла, что напрасно вышла к простонародью просить заступления. Бабе, хоть и с титулом царевны, пощады не будет. Народ словно бы опоминался от долгой спячки. И увидев над собой слабую женщину, возроптал.
Она замешалась в толпу духовных и скрылась в Грановитой палате. Игра была проиграна.
Последнее, что ей оставалось – последнее и, увы, неминучее, – была поездка в Троицу, которой ей так хотелось избежать, избежать унижения. Она явится перед Петром как униженная просительница.
Но о чем она станет просить? О том, чтобы оставаться правительницей? Но это, как она ни пыжилась, невозможно. О пощаде? Но это стыдно. Бог знает, как стыдно! Повернется ли у нее язык? Предстать перед Петрушкой смиренницей? Одна мысль об этом ввергала ее в трепет.
Чудовский архимандрит, видя царевну в смятении, попытался утешить ее самым бесхитростным образом:
– Христос страдал, государыня, и нам, грешным, слугам его тож страждать выпало на долю. Простой народ, грубый, нешто он ведает, что глаголет и что творит. Нет, государыня, сколь ни обращай к нему увещевательное слово, оно пролетит мимо его ушей. Токмо сердце твое терзается понапрасну.
– Благодарствую, святой отец, – сухо ответила она. Было ли у нее последнее прибежище? Естественно. Тот же князь Василий. Уже отчаявшаяся, уже не видевшая выхода, отправилась она к нему.
– Ну-ну, госпожа, уверься, един у нас утешитель – Господь, он и к твоему горю снизойдет, – мягко выговаривал князь, ведя Софью в покои. – Все минует, все в руках Божиих. Спаси тя Христос.
В кабинете царевна дала волю рыданиям. Князь Василий терпеливо ждал, пока она придет в себя.
Все, что накопилось в ней во время стояния на крыльце, все, что пережила она, выслушивая оскорбительные выкрики, это угрюмое молчание толпы, не желавшей сострадать ей – ей, еще недавно благоверной государыне царствующего дома, чье имя писалось рядом с именами великих государей и поминалось в церквах вместе с их именами, чей профиль был вычеканен на монетах, благодетельнице надворной пехоты, – все изливалось в рыданиях.
Наконец она затихла. Князь достал плат из небольшого поставца и заботливо утер ей лицо. Подождав, пока она окончательно придет в себя, понимая, что случилось нечто из ряда вон выходящее, он спросил:
– Велика ли горесть?
Она сбивчиво передала ему все, что пришлось пережить на Золотом крыльце. Князь не выразил ни недоумения, ни негодования. Все было просто и понятно. Время государыни царевны прошло, а вместе с ее временем прошло и его время.
Можно ль возвратиться в прошлое? Повернуть вспять колесницу времени? Как бы они ни тщились, как бы ни призывали сторонников, их остались единицы. И те – безвластны.
Сколь ни усердствуй – князь Василий понимал это отчетливей, нежели кто-нибудь, – власть вырвана из их рук.
Ну еще месяц, два, три она как-нибудь проволочится, а потом наступит неизбежный конец.
Он мог бы сказать об этом царевне Софье, но понимал с трезвостью умного человека, что это бесполезно. Что она с упрямством будет цепляться за соломинку надежды.
Но даже и соломинки не было в ее положении. Только в ее ли? Нет, и в его. Правда, он еще раз намеревался обратиться к братьям Борису и Ивану, состоявшим при царе Петре. Он еще мог надеяться на их влияние, на уважение, которое молодой царь испытывал к ним, к ним одним, а не к нему, подпиравшему незаконную власть «зазорного лица». Он-то сделал не ту ставку. Увлекся, что поделаешь. Женщина в царевне занимала его более, чем властное лицо, чем правительница. А тот, кто ставит на женщину, тот, как правило, ошибается. То ж еще древние говорили: эррарум хуманум ест – человеку свойственно ошибаться. Ошибся и он, князь Василий, ошибся не в женщине, а в правительнице. С женщиною он бы не расстался. Она устраивала его именно как женщина. Не ее упрямство, нет – его он тщетно пытался преодолеть. Ко всему этому примешивалась изрядная доля тщеславия: как же – царская дочь! И в его объятиях. И покорна всем его желаниям, даже самым неистовым и хищным.
И сейчас он с жалостью глядел на нее, заплаканную, с размазанными белилами и румянами.
– Ну полно тебе, Софьюшка, полно кручиниться, – наконец заговорил он. – Молилась ли ты своей святой покровительнице?
Покровительницей царевны была великомученица Софья – мать святых Веры, Надежды и Любви, память коих праздновалась семнадцатого сентября.
– Мо-мо-лилась, – всхлипнула царевна. – Призывала ее. И чудотворной новгородской, списанной в позапрошлом годе – Премудрости Божией. Да что толку, – продолжала она с отчаянием, – не слышат они меня. – Али грешна я кругом и все мои действа противу Петрушки мне отлились, или глухи они все. Все, все, все! – отчаянно вскрикнула она. – И не будет мне спасения, и пощады не будет!!
– Не гневи Господа и святых его, – предостерег князь Василий. – Все мы кругом во грехах, но расчет нам предстоит еще. Не в земном бытие, а в иной жизни. Там с нас будет спрошено за все. А здесь, в жизни земной, нам надобно считаться с человеками, такими, как мы сами, столь же грешными. Знаю, нелегко тебе ныне, много ты противу своего братца замышляла недоброго. Что ж, повинись, ибо сказано: не покаешься – не спасешься.
– Бог с тобой, князинька, – окончательно придя в себя, проговорила Софья. – Да у меня и язык не повернется открыть ему все, что умышляла. Опосля всего этого прямиком на плаху. Нет, мириться с ним поеду. Уж сколь раз подхватывалась, да все отлагала – нету душевной силы. Робею я, князинька. Знаю, ждет меня у Петрушки посрамление.
– А ты соберись с духом-то, соберись. Не брашнами он тебя встретит, верно. Но ты явись смиренницею, отбрось свою гордыню.
– Ох, тяжко! Ведь он же молокосос!








