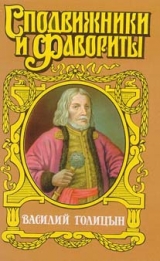
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Зачем так, в ножки, – благодушно отвечал патриарх. – Я и сам того желаю. А тебе, государыня царевна, невместно в ножки кланяться. Ты бы, как все православные, к руке приложилась – все благо.
– Позволь, позволь, святейший отче, дай ручку, – зачастила обрадованная Софья. – Я не гордая, благочестивейший пастырь наш, я могу и в ножки покланяться. Заради миру да согласия меж нас. Братец мой Иван и тот нашу размолвку со слезою переживает. Тож ведь государь великий.
– Святая церковь стоит на страже мира и согласия, стало быть, и мне подобает стараться водворить их меж вами, – назидательно молвил патриарх. – Поспешу, благоверная государыня, завтрева вот и отъеду.
Истово прикладывалась к руке старца, не ведая того, что он и сам хотел податься к Троице, потому что опасался нового бунта стрельцов. И еще потому, что был тайным сторонником Петра, Нарышкиных. Он был хитер, патриарх Иоаким. Он понимал, что царевне недолго править, что она самозвано заняла свое место. И как самозванка должна быть устранена.
А Софья, довольная, отправилась к себе. Она почему-то уверилась, что патриарх – самый надежный ходатай, что он непременно уломает царя Петрушку, упрямого и несговорчивого, воротиться в Преображенское. А там его легче будет достать. Уж в следующий раз она сама возьмется за дело и промашки не допустит…
Тем временем бояре Троекуров и Прозоровский возвратились в Москву. И доложились:
– Благоверный государь царь Петр Алексеевич в согласии с матерью своею, благоверной царицей Натальей Кирилловной, велели объявить тебе, государыня царевна, что согласия меж вас быть не может. А причиною тому-де, что ты, государыня, властью ныне владеешь противу закона православного государства. И пора тебе, государыня, братьям твоим власть отдать, потому как они вошли в возраст. А тебе, государыня, велено возвернуться в терем и жить там, как незамужним царевнам жить подобает: в благочестии и тишине.
– Да вы что – рехнулись?! – накинулась на них Софья. – Как посмели вы с такою речью ко вше соваться? Подите прочь!
Бояре, пятясь и бия поклоны, вышли вон. Софья залилась слезами.
– Все, все противу меня! – бормотала она. – К кому кинуться? Куда пойти? Нешто я виновата… А может, и впрямь уйти от власти с ее жестокостью, предательством, волнениями… Может, не в терем вернуться, а в монастырь. В тихую келейку. Подале от мирской суеты с ее соблазнами.
Но тотчас одернула себя. Да что я, спятила! Все они только и ждут от меня отречения. Ни за что!
Ни за что!
Глава одиннадцатая
А кто взаперти?
Не Москва государю указ, государь Москве.
Бог – батька, государь – дядька.
У царя руки долги, досягнут до Оби и до Волги.
Не страшна огню клюка, ровно пекарю мука.
Народные присловья
Свидетели
…чрез те интриги дошло до того, что …царь Петр Алексеевич понужден был в ночи из Преображенскаго месяца майя уйти в Троице-Сергиев монастырь верхом… А мать его, царица Наталья Кирилловна, со всем двором той же ночи бегом понуждена быть последовать Туда же. И в шесть часов скорым походом в тот монастырь пришли. Той же ночи помянутые полки потешные или гвардия туда последовали, также полк Стрелецкой Сухарев, которой тогда же в Преображенском гвардию имел, туда прибыл также. И многия бояры и другие чины, принадлежащие к тому двору, туда прибыли и со всеми оными его царское величество Петр Алексеевич будто, почитай, в том монастыре в осаду сел. И ворота были несколько дней заперты, и пушки на стенах в готовности, и вся гвардия по ночам была в ружье на стене, ожидая приходу с полками стрелецкими царевны Софии Алексеевны.
Теперь будем объявлять, для чего оной поход учинился внезапной? Для того, что царевна София Алексеевна, собрав той ночи полки стрелецкие некоторыя в Кремле, с которыми хотела послать Щегловитаго в Преображенское, дабы оное шато (замок) зажечь и царя Петра Алексеевича и мать его убить, и весь двор побить и себя деклеровать на царство. И о том собрании стрельцы главные полку Стремяннаго в Преображенское приехав, царю Петру Алексеевичу объявили. И по тому доношению оной поход того ж часу внезапной учинился.
И по приходе в Троицкой монастырь отправил от двора своего одного к брату своему царю Иоанну Алексеевичу с объявлением той притчины, для чего он принужден ретироваться, объявя при том все злые умыслы сестры его царевны Софии, противу его, и прося его о содержании братской дружбы, и дабы сестру его, царевну Софию, от двора отлучать и правления государства отнять, и ретироваться бы ей в монастырь. А без того не может придти к Москве в свою резиденцию и будет вынужден искать способ к своему обнадеживанию вооруженной рукою.
Князь Борис Иванович Куракин. «Гистория…»
Переполох затронул не только Москву. Достиг он и тихих, покойных углов, каково было село Измайлово – царская обитель. Весна была в самом разгаре, и в Измайлове все цвело. И такая тихая благость была разлита в воздухе, что хотелось возносить Всевышнему хвалы за то, что устроил таковой мир.
Остро благоухали сирень и черемуха, сзывая к себе пчел, шмелей, бабочек и другую мелкоту. А стоило сумеркам сгуститься, как все пространство захватывали соловьи. И измайловские сады становились их владениями. Хоры, хоры соловьев славили весну. Пернатые певцы словно бы хотели превзойти друг друга в своем усердии. И тогда царица Прасковья приказывала растворить настежь все окна, дабы не было никаких преград этому благорастворению воздухов.
В такой вот благостный день явился от царя Петра гонец из Троицы.
– От государя к государю Иоанну, – объявил он, когда его поставили перед лицом царицы Прасковьи.
– Давай сюда, – потребовала она.
– Не велено, государыня царица. Приказано отдать в благочестивые руки великого государя и никому более.
– Великий государь на молитве, – не показывая вида, что рассердилась, отвечала царица, окруженная многочисленными мамками и комнатными девицами… Все они были заняты – одни вязали, другие пряли, третьи вышивали… – Коли так, то придется тебе обождать. Ступай в сени, – велела царица.
– Прикажи, великая государыня, покормить меня, – взмолился гонец, – цельный день не емши.
– Вот выйдет государь с молебствия, он тя и накормит, – мстительно произнесла Прасковья. И отвернулась.
Обидно было ей, царице, что от нее таят нечто. Она втайне завидовала царице Евдокии, супруге царя Петра. Экой здоровяк, этот Петруша. Смаху заделал Дуньке сыночка. Небось каждый вечер старается, ублажает ее всяко и в постелю тащит. Не един раз отмахает. Глядела на нее надысь – с лица спала. Ясное дело, не от хвори, а от любострастия.
Не знала царица, что царь Петруша давно уж не спит со своею Дуней, а облюбовал себе немку Анну Монсову на Кокуе. И с нею забавляется. А царица Евдокия льет слезы горючие в своей светлице, тщетно своего венценосного супруга дожидаючи.
«Вот бы мне такого, как Петруша, – размечталась она. – Чтобы не слезал с меня день-ночь. Не то что мой: немощный да увечный, раз в неделю на меня залазит, а потом два дни охает: перемахался-де нету мочи, все брюхо изболелось. Надо бы спросить Дуньку-то, каково ей сладко, да пожалиться».
Царя Ивана пришлось ждать долгонько. Он был великий молитвенник и большую часть дня проводил в моленной либо в храме, благо святые места были рядом. Бил поклоны пред иконами, стоя на коленях, а порою и разметавшись пластом. О чем просил он Господа и его святых угодников? О даровании исцеления, прежде всего. Все в нем ныло и болело, с малолетства страдал он безвинно, только по вышней воле. За греха родительские ли? Нет, вовсе нет, безгрешен был царь Алексей, столь же истовый молитвенник, сколь и его недужные, рано покинувшие одр сыновья, безгрешна была и матушка, кою рано Бог прибрал. За что же испытывал он столь великие страдания? Впору была бы разгневаться, ополчиться на Божий промысел.
Но смирен бы царь Иван, рабски покорен року. Не то, что его братец от Нарышкиной – Петруша. Тот роптал, дерзил, а порою и богохульствовал. Курил табак, мерзкое растение, возросшее из лона великой блудницы Иезавели, пил вино и водку, блудил с немкою…
Нет, Господь был к нему, Ивану, несправедлив. И Иван начинал смутно это понимать. Но тяжко давалось ему это понимание. Худо мыслила его голова, больная, как и все тело. Для того чтобы глянуть на мир, на светлые лики святых, ему надобно было поднять веки. А они не слушались, приходилось преодолевать острую боль, прежде чем открывалось зрение.
Жаловался он Богу, жаловался и докторам. Никто не мог помочь! Давали доктора какие-то примочки, мази, велели мазать медом, куриным пометом. Да все тщетно. Облегчения минута, страдания – день. А тут еще и сестрица Софья что ни день докучает: плохо стараешься брат, не брюхатеет царица твоя. А ведь нету сил стараться, нету. Будто не понимает она, что Господь всемогущий его обделил всем: силою, чувствами, да и разумом. Все от него что-нибудь требуют, а он покорно соглашается: да, да, исполню, буду, хочу. А сил только и осталось на то, чтобы соглашаться. Этого никто не понимает. Не понимает и его супруга, верная Параша.
Верная. Приходил к нему с доносом постельничий Яков: царица-де ходит зачем-то в башню к старухе Агафье. Туда же прокрадывается окольничий ее, именем не ведом. Зачем? Не блуд ли тамо творят?
Царь прогнал его прочь. Велел не являться более, а потом пожалел: видно, верный человек, добра ему, царю, желал. Открыть глаза хотел. А зачем? Он уверен: безгрешна его Параша, боится она Бога, как и он сам. Коли соблудит, разверзнется под нею земля и поглотит она ее, как поглотила во время оно блудницу Иезавель, из ложесна коей выросло мерзкое растение табак. Не раз сказывал он ей про эту самую Иезавель, и пребывает Параша посему в страхе Божием.
На подгибающихся ногах, поддерживаем с двух сторон, вошел он в горницу. Параша встретила его словами:
– Тут гонец от государя Петруши с грамотою. Не выдал мне ее. Говорит: в собственные руки его царского величества. Стало быть, секрет какой-нибудь.
– Секрет? Нету у меня от тебя секретов, Парашенька. Где он? Зовите.
Гонец вошел, и Иван протянул к нему руку с растопыренными пальцами.
– Положь сюда.
Гонец повиновался. Пальцы Ивана сжали, свиток. Царица сжалилась над посланцем, вспомнив, что он голоден.
– Нешто накормить тебя? Эй, Марфутка, отведи его в трапезную да пусть дадут ему мису щей да столь же каши.
Иван мял в руке свиток. Наконец он промолвил:
– Чти, Парашенька, что братец наш Петр пишет.
Царица, оглядев всех, бросила:
– Чать, секреты тут царские. Вы идите, покуль не покличу. Взяла из рук Ивана свиток, развернула его и стала читать:
«…милостию Божией вручен нам, двум особам, скипетр правления, также и братьям нашим окрестным государям о государствовании нашем известно; а о третьей особе, чтоб быть с нами в равенствованном правлении, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша царевна София Алексеевна государством нашим учила владеть своею волею, и в том владении, что явилось особам нашим противное, и народу тягости, и наше терпение, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши Федька Шакловитый с товарищи, не удоволися милостию нашею, преступя обещание свое, умышляли с иными ворами об убийстве над нашими матери нашей здоровием… А теперь, государь братей, настоит время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли семы в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и расправе дел быти не изволяем; на то б и твоя, государя моего брата, воля склонилася, потому что учила она в дела вступать и в титла писаться собою без нашего изволения; к тому ж еще и царским венцом, для конечной нашей обиды, хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, тому зазорному лицу государством владеть мимо нас! Тебе же, государю брату, объявляю и прошу: позволь, государь, мне отеческим своим изволением, для лучшие пользы нашей и для народного успокоения, не обсыпаясь к тебе, государю, учинить по Приказам правдивых судей, а неприличных переценить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. А как, государь братец, случимся вместе, и тогда поставим все на мере, а я тебя, государя брата, яко отца, почитать готов».
– Как это? – изумился царь Иван. – Сестрица Софья умудрена правлением. Ей все ведомо. Никак это не можно. Зазорное лицо? Кто это?
– Сестрица твоя, Софья, – с некоторым злорадством отвечала Прасковья. Она невзлюбила Софью за ее властность и повелительный тон. С другой же стороны, та же Софья настойчиво советовала ей завести галанта и как бы открыла перед ней новый мир, мир любви истинной. Она, Прасковья, обязана быть ей благодарной. Но то, что Софья посвящена в ее тайну, пугало ее. Царица понимала, что она всецело в ее руках, и стоит ей вызвать неудовольствие Софьи, как эта великая тайна выйдет наружу. И что тогда? Позор и мучительная казнь. Кара за измену была ужасна: женщину живьем закапывали в землю, все, кому вздумается, плевали ей в лицо, ибо голова торчала на поверхности. Несколько дней тянулись эти муки, пока жизнь не покидала страдалицу.
– Неужели братец Петр пишет про сестрицу, что она – «зазорное лицо». Как можно? – продолжал недоумевать Иван. Для него Софья была как апостол, он был покорен ее воле и слепо повиновался ее приказаниям.
– Стало быть, можно. Петруша с тобою желает править вместях, а царевну в дела правления не мешать. Он пишет, что ее место в монастыре…
– Никак нельзя сестрицу в монастырь! – похоже было, что Ивана взяла оторопь. – Что ты говоришь, Параша? Кого в монастырь?
– Сестрицу твою, царевну Софью, – раздельно повторила Прасковья.
– Я… Я… Я… Никак в толк не возьму, – пробормотал Иван. – И это все Петруша написал в сей грамотке?
– Все, как есть, я тебе зачла, государь ты мои болезный, – со вздохом отвечала Прасковья. С некоторых пор она стала относиться к супругу своему венценосному, как к больному дитяти. И можно ли было иначе? Он был неразумен и нуждался в материнской заботливости и постоянном попечении. Действительность пугала его. Он то и дело заговаривал об отречении, в свою очередь пугая царицу. Ведь ежели Иван перестанет быть царем, то она тотчас будет лишена всех почестей, которые подняли ее над простыми смертными. А главное, лишена воли. И, страшно подумать, лишена своего галанта, который обратился в смысл всей ее жизни.
И хоть она строго-настрого запретила Ивану даже заикаться об отречении, он тем не менее заговаривал об этом все чаще. Видно, привязалась к нему эта дума и одолевала его.
А грамотка братца Петруши может обескуражить его, да и, видно, уже обескуражила, и заставит снова вернуться к мысли об отречении. Ведь Софья была его вдохновительницей и руководительницей и он слепо исполнял ее наказы. А коли ее не станет в правлении, что тогда?
Прасковья подошла к понуро сидевшему Ивану, обняла его голову и прижала к груди. Поглаживая ее, она приговаривала, а лучше сказать, причитала:
– Бедный ты мой Иванушка, царь ты мой ненаглядный. Сестрицы не станет, меня будешь слушаться. Рази ж я неразумна, рази ж не могу подавать тебе советы? Есть у нас с тобою други, есть окольничий с головою. А князь Василий Голицын? Это ж ума палата. Он тебя не оставит, как не оставлял в прежние времена. Сестрица Софья его наставит, он и пребудет с нами.
– Ты правду говоришь, Параша? – выдавил Иван.
– А когда я тебе говорила неправду? Я пред тобою открыта и чиста. – Сказала – язык не отсох.
– Ну, коли так, тогда ладно, – произнес он со вздохом. – А как же сестрица? – неожиданно встрепенулся он. – Нет, я не согласен… Зазорное лицо… В монастырь… Нет, Параша, это не по мне. Нельзя, нельзя.
– Нет, государь мой любимый, ежели Петруша требует, надо покориться, – приговаривала Прасковья, по-прежнему поглаживая голову супруга. Он широко зевнул и замер. Похоже было, задремал.
Прасковья боялась пошевельнуться, оберегая сон царя. В это время неожиданно распахнулась дверь, и царица несказанно удивилась столь великой дерзости и, не поворачивая головы, вполголоса спросила:
– Кто там без зова? Поди прочь! Царь Иван почивает.
– Это я, Параша, Софья.
– Ох, сестрица, – все так же, полушепотом, вымолвила Прасковья. – Ведь спит, болезный. Очинно он скорбен. Грамота от царя Петра пришла. Возьми-кось на столе.
Царевна пошуршала грамотой. Царице было не видно, как перекосилось ее лицо, как ее бросало то в жар, то в холод по мере того, как она читала. Слышно было, как скрипнула она зубами, потом послышались сдержанные рыданья.
– Как же он посмел, как посмел, – бормотала Софья сквозь слезы. – Это я-то зазорная особа, я, семь лет правившая государством в тишине и спокойствии. Я… При мне великое замиренье пришло в царстве, благонравие… Ох… – и она снова захлебнулась слезами.
– Кто там? – неожиданно встрепенулся Иван. – Кто, Парашенька?
– Сестрица твоя, Софьюшка, – ответила прослезившаяся царица.
– Как? Софьюшка? – Иван приподнялся. – Сестрица, ты?
– Я, Иванушка, я, – все еще плача, отвечала Софья.
– Тут Петруша грамотку прислал. Неладно он пишет. Не согласный я. Слова какие-то… Зазорная особа… Ровно не о сестрице пишет, а о какой-нибудь бродяжке. Нет, нет, Софьюшка, я сего не приемлю.
В этой неполноценной болезненной натуре возник протест. И не только возник, но и окреп. Его не подкупает то, что брат Петр берется почитать его яко отца. Все в нем восстает против намерения Петра отправить Софью в монастырь. Как можно заточить в монастырь ту, которая семь лет правила государством от их имени, и эти семь лет были в общем-то благополучными.
Хоть Иван и богомолен, хоть он и сам подумывает о монастыре, как о тихом прибежище, наедине с тенями великих подвижников, святых угодников Божиих, вдали от мирской суеты с ее грязью, кровью и кривдой, но ведь принять схиму можно только по доброй воле. Тогда, когда велит сердце, когда нет выбора или иного выхода.
И Иван, запинаясь, говорит об этом сестре. Он не дозволит. Он станет поперек.
– Дай-ка платочек, Параша, я утру сестрицыны слезки, – говорит он кротко. Софья благодарно обнимает его. Она кладет голову ему на грудь, как давеча обласкала его супруга. И волевая Софья, только что безутешно рыдавшая, всхлипывает у него на груди. Мало-помалу ее плечи перестают сотрясаться, и она затихает.
Иван же находит какие-то успокоительные слова, он бубнит их невнятно, но добросердечность и участие не нуждаются в четких формулировках.
Прасковья, недолюбливавшая Софью, а поначалу вообще робевшая в ее присутствии, даже побаивавшаяся ее, тоже проникается жалостью. Неужто Петруша, казавшийся ей таким покладистым, таким добрым, желает так жестоко поступить с царевной. Хоть она и не прямая сестра ему, но все от единого царя-батюшки, незабвенного Алексея Михайловича, можно ль поступить с нею столь жестоко?
И царица присоединяется к жалостливому бормотанию своего супруга. Она говорит, что станет упрашивать Петрушу, взывать к его совести…
И тут Софья вдруг высвобождается из объятий брата и почти кричит:
– Не надобно мне жалейщиков, не хочу ничьей жальбы! Али я не царская дочь, не царевна, не правительница волею всех служилых людей отеческой земли?! Подыму я всех верных да справедливых, заставим Петрушку уважать меня, призванную Думой и боярами. Нет, так просто меня не согнуть. За мною – надворная пехота, жильцы, холопы боярские…
Вскрикнула и тотчас обмякла, словно подстреленная. Иван испуганно замахал руками:
– Что ты, что ты, сестрица. Упаси тебя Бог подымать новую смуту супротив этой совести, супротив святых установлений. Это ж какая кровь польется, сколь много безвинных душ погибнет. Нет, миром все уладим, миром. Угомонится братец Петруша, смирит сердце свое крутое, ослабнет в нем гневность. Я стану Бога молить неустанно, дабы примирил вас, и Матерь Божию непорочную Деву Марию, и заступника земли Русской Николая Угодника, и всех святых, на Руси просиявших… Буду молить денно и нощно…
– Ну да, ты, братец, спорый молитвенник, – необычно жестко выговорила Софья. Слезы ее просохли, в глазах сверкнуло ожесточение. – Токмо молитвы твои не доходят до небесных врат. Истаивают они где-то.
– Как это? – удивился Иван. – Как это – не доходят? Молитвенное слово беспременно доходит до Господа. Иначе зачем на земле стоят храмы Божии, зачем священство, мощи нетленные? Нет, сестрица, не богохульствуй. Не свернешь меня с благого пути. Я бы и к братцу Петруше в Троице-Сергиеву лавру подался, да видишь, – слаб, немощен.
– А что, братец, – вдруг оживилась Софья, – коли пожелаешь, тебя со всем бережением в Троицу свезут. В покойной карете, намедни от немцев пригнали, в дар цареву двору. Ты бы там брату-то свое мирное незлобивое слово сказал бы, авось он бы утихомирился.
На лице Ивана изобразилось нечто, похожее на раздумье. Потом он молвил:
– Не, сестрица, не вынесу я. Ноги худо держат, да и глаза смежились – не хотят глядеть на грешный мир. Я уж как-нибудь на письме. Эвон, у меня Параша в полной доверенности и писать способна. Не смогу, нет. Я вон в храм тутошний добредаю с подпорами. Нету мочи… А за что стражду? – неожиданно вопросил он. – Безвинен я пред Господом, нимало не грешил ни помыслом, ни делом.
– А я, братец? За что я стражду? Не милует меня Господь и Пресвятая Богородица, грехов на мне нет.
Покривила душою царевна. Греховное бремя несла она без угрызений, не считая плотский грех за грех. А ведь свершала она прелюбодейство, ибо оба ее галанта были женаты, и брак их был освящен церковью. Впрочем, они нарушили таинство, и им отвечать пред Царем Небесным. А она? Она что нарушила? Обет девства? Но ведь не вечно ей быть в девах, пора познать сладкий грех. Простое это, человеческое, естественное. Вот и князь Василий, умная голова, говорит, что в иных религиях девы приносят себя в жертву сладострастию, отдаются мужам радостно и так служат своему божеству.
Вот бы и ей хотелось предаться греху со многими, испытать муки жаждущей плоти, извиваться в конвульсиях… Хотелось, чтобы ее терзали беспощадно, как терзал ее Феденька Шакловитый. Но вот он с Васею разнится, и она по-разному их чувствует. Испытать бы другие многие объятия, каковы они на вкус.
Порою ей не хватало даже Фединой неутолимости – таковая сидела в ней неутолимость. И хотела она отдаваться, как публичная девка, как знакомая ей девка Варька, которая обучала братца Ивана, – как должно вести себя доброму мужу с женщиной. Отдаваться всем и всякому. Но это было самое потаенное ее желание, которое не дерзнула она высказать никому, ни единому человеку.
Она полностью оправилась от потрясения, вызванного грамоткой царя Петра, и теперь в ней снова явилось желание действовать. Его же тотчас сменило просто желание – желание утешиться в объятиях Федора. И она, торопливо распрощавшись с братцем и его супругою, приказала везти себя к Шакловитому.
Он не ждал ее. Только-только собрался забавляться с какой-то дворовой девкой. И уж настроился на то, но неожиданно явилась царевна.
«Вот так номер, – подумал Федор. – Настроился на одну, а Бог принес другую. Однако и эта тоже сгодится. Жаль, конечно: девке Парашке приказано было попариться да приготовиться: с пару-то женская плоть слаще. Но что-то моя царевна красна да тяжело-дышит, ровно из парной».
– Что с тобою, Софьюшка? – поинтересовался он.
– Ах, Федюша, готовит мне Петрушка оковы железные. Худо ты распорядился: главного дела не сделал. Петрушку в его гнезде не выжег. А теперя он грозится запереть меня в монастырь, – и она рассказала Шакловитому о грамотке царю Ивану.
– Взялся братец мой унять Петрушку, да где ему. Никто уж ему не внемлет – скорбен-де он на голову, совсем немощен. Так оно и есть. Спаси меня, Федюша, – завопила она, бросаясь ему в объятия. – Только ты и можешь меня спасти с надворною пехотою. Не пойду в монастырь, тебя познавши! Усохну без тебя, любый мой!
Против обыкновения Федор помрачнел. И этот неожиданный визит, и угроза царя Петра словно бы отрезвили его. Он понял: с падением царевны Софьи неминуемо падет и он, ее человек, он, затевавший покушение на царя, о чем ведомо в Троице. Но если Софье грозит монастырь, то ему, Шакловитому, – плаха. Неминуемая плаха. Никаких заслуг за ним не водится, никто и пальцем не пошевелит для его спасения. Стрельцы? Они глядят туда, где сила, радеют только о своей шкуре. Бояре? Кому он нужен? Разве что князю Василию Голицыну, который все еще во власти. Но и князю грозит опала. Его не коснется топор палача, скорей всего, сошлют в дальние деревни, в одну из многочисленных княжеских вотчин, жалованных еще царем Федором.
– Худо дело, – наконец выговорил он. – Ты бы, государыня моя, побила челом братцу своему Петруше. Пущай-де воротится к Москве, мы-де прощенья просим. Опять же надобно с князем Василием совет держать.
– А он таково же молвит – знаю я. Един ход – идти мне к Троице, верно говоришь. Идти с повинной головою. Дожила! – с отчаянием бросила она.
– Ничего не поделаешь, государыня моя. Оплошали мы с тобою, верно. Зияет дырища-то. Кабы залатать ее. А как? И я ума не приложу. Ежели мне с тобою пойти к Троице, Петрушка меня изловит и тут же казнит. Нешто скрыться мне, бежать. А куда? Зверь я, что ли? Попали мы с тобою, попали, спасу нет.
– Не согнуться мне перед ним, ни в жисть не согнуться, – слезы брызнули у нее из глаз. – Неужто нету ничего другого?
– Другого? Петля либо побег. Вам с князем-то что? Вам жизнь сохранят. А вот мне беспременно голову отрубят, – с отчаянием проговорил Шакловитый. – Умысел-то будто мой, я-де главный злодей. И разбираться не станут.
– Пойду к Троице, – решительно произнесла Софья. – Буду бить челом и за тебя, Феденька. Не таковой Петрушка изверг, чтобы всех казнить.
– А что патриарх? Воротился он?
– Все меня предали, все! – уныло бросила царевна. – Думала, станет он моим ходатаем по замиренью. А он… – и снова плечи ее затряслись.
– Что он? – недоуменно переспросил Федор.
– Он с Петрушкой стакнулся. Остался там. Не желает воротиться.
– А может, тебе, государыня моя, сложить с плеч бремя правления.
– И ты таков же! – гордо вымолвила Софья. – Подумай сам: ежели я откажусь от власти, что с тобою-то станет? С князем Василием? Все вы моим именем держитесь. Меня не станет, а вас и подавно отсекут.
– Что с тобою, что без тебя – все едино нас не помилуют. Лютою казнью казнят.
– Стало быть, идти мне к Троице. Не миновать сего, – словно бы раздумывая, произнесла Софья. – А допрежь не написать ли к нему?
– Отчего же не написать —.напиши. Только он, государыня моя, на письме тебе не поверит. Характер у него несговорчивый, ты же ведаешь.
– Послушай, Федюша, а может, собрать твоих-то людей да мне перед ними речь держать, дабы за меня стояли твердо.
– Что ж, можно, – не очень уверенно произнес Шакловитый. – Токмо не знаю, возымеет ли действо.
– Отчего же нет? Я их в надворную пехоту произвела, казну расточила, они меня завсегда почитали.
– Переменилось все, – разочарованно протянул Федор. – Не на кого положиться. Мнишь – верный человек, а он переметчик. Сколь раз меня запродали, когда затевали ночной поход на Преображенское, ведали про то вроде бы верные люди. А что вышло? Упредили нас, и все расстроилось.
– Ладно. Собери народ.
И вот только теперь понял Шакловитый, что обречен, обречен бесповоротно. Перед ним разверзлась пропасть, и куда бы он ни ступил, перед ним ее зияющая бездна, куда он неминуемо должен пасть. И царевна, его повелительница и его любовница, безоговорочно отдаст его на заклание. Потому что это может отодвинуть ее падение, конец ее правления. Он не в полной мере оценил честолюбие этой женщины. Она станет цепляться за соломинку, лишь бы продлить свою власть.
Тем временем царь Петр, не получив известий из Москвы и не дождавшись выборных от стрельцов, выходил из себя. Он снова послал грамоту с требованием послать выборных от полков и выдать зачинщиков. Грамоту доставил в Москву стрелецкий полковник Нечаев. На ней было писано: «Великому государи брату моему Иоанну Алексеевичу и царевне Софии». Он не именовал Софью сестрою, не признавал родства! Уже в этом таилась угроза.
Прочитав грамоту, в которой содержалось требование выдать заводчиков бунта Федьку Шакловитого и попа расстригу Сильвестра Медведева, коего Софья прочила в патриархи взамен Иоакима, предавшего ее, царевна взорвалась.
– Схватить Нечаева да публично отрубить ему голову! – багровая от гнева, приказала она.
– Воздержись, государыня царевна, – шепнул находившийся рядом дьяк Посольского приказа Емельян. – Казнь эта противу тебя обернется. Ведь послан он от государя.
– Ладно, оставьте его, – махнула она рукой. Все было плохо, а становилось еще хуже. Требовали выдать Федора, и она понимала, что Петр не уступит. Медведев – Бог с ним, этого не жаль. Но Федор?.. Он щит ее, он ее прикрывал всяко, он повиновался ее желаниям. И теперь она продолжала верить в него. Он привел полк к Красному крыльцу. Тут же находился Нечаев со своими стрельцами. Она обратилась к ним:
– Для чего вы явились сюда и с каким намерением?
– Мы в том не причинны. Не смели ослушаться царского указа. Понеже давали клятву в верности его царскому величеству – великому государю Петру Алексеевичу.
– Писмы, что вы привезли из Троицы, писаны не царем, моим братцем, но ворами, – напустилась на них Софья, – можно ль выдавать честных людей? Они под пыткой оговорят других, добрых девять человек, девять сотен оговорят. Злые люди рассорили меня с братцем моим, благоверным царем Петром Алексеевичем, измыслили некий заговор на его жизнь, чего быть николи не могло. Те же злые люди оклеветали Федора Шакловитого, чья верная служба великим государям и мне всем вам ведома. Он денно и нощно трудился, блюдя безопасность государства и нашу, великих государей и их родни, равно и бояр. Не может того быть, что он злоумышлял против нас, противу всех честных людей, – вы сами то знаете. Клеветники всегда найдутся, а наше дело – опровергнуть их злоречие. Ведомо вайя, сколь доброго сделала я, управляя семь лет государством. Приняв правление в смутную пору, утихомирила народ, заключила честный и крепкий мир с нашими порубежными соседями – христианскими государями. Враги Христова имени и честного креста трепещут пред нашим оружием…
Говоря, Софья раскраснелась, увлеклась и похорошела. Толпа вникала ей, разинув рты.
– Вы, стрельцы, произведены мною в надворную пехоту. Даны вам разные привилегии, денежные дачи. Я вседневно была к вам милостива, и не найдется меж вас такого, кто бы положил на меня охулку. Ни за что не поверю, что вы предадите меня, либо станете чернить. Враги, мне неведомые, желают моей погибели и погибели моего брата – великого государя Иоанна Алексеевича, они ищут головы вашего благодетеля Федора Шакловитого и непременно желают рассорить меня с братом моим, благоверным государем Петром Алексеевичем. Не выйдет! Я отправлюсь сама к нему в Троицу, дабы пресечь корень злых вымыслов. А в вас я верую и награжу щедро, ежели вы не станете мешаться в наши споры и останетесь мне верны. А тех, кто вздумает отправиться к Троице без моего и Шакловитого соизволения, ждет суровое наказание. Жены и дети ваши пребудут в заложниках!








