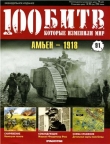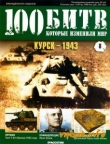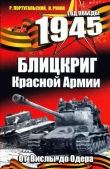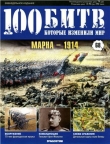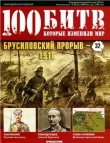Текст книги "Генералы Великой войны. Западный фронт 1914-1918"
Автор книги: Робин Нилланс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 58 страниц)
Высшее командование также должно было понести ответственность, и, при всей нелюбви Бинга к раздаче взысканий, головы полетели. Кавалерия действовала не лучшим образом, и, кроме того, Бинг считал, что некоторые из командиров пехотных корпусов не обнаружили достаточного рвения, устали или просто слишком стары. Палтени (III корпус), Сноу (VII корпус) и Вулкомб (IV корпус) отправились домой в следующие три месяца и больше уже никогда не командовали на фронте. В марте 1918 года Хейг сказал генерал-лейтенанту Каванагу, что он будет заменен, однако весеннее наступление немцев помешало этому, и Каванаг продолжал командовать кавалерийским корпусом до конца войны. Покажется удивительным, пожалуй, но командование IV корпусом было поручено генерал-майору Харперу, командиру 51-й дивизии, и это соединение отличилось в сражениях 1918 года.
Действительная причина неудачи под Камбре, по всей видимости, указана генералом Людендорфом в его воспоминаниях: «Английский командующий [Бинг] оказался неспособен развить огромный первоначальный успех, в противном случае мы не смогли бы ограничить размеры прорыва». Причины, по которым Бинг оказался неспособен развить танковый прорыв, мы уже указывали выше. Неспособность к наступлению кавалерийского корпуса объясняется усложненной командной структурой Каванага и большим расстоянием от его штаба до фронта, общий неуспех объяснялся также неспособностью Харпера взаимодействовать с танками под Флескьером, и то и другое Бинг должен был предвидеть.
Весь план был основан на атаке пехоты, поддержанной танками и развитой кавалерией. Как кавалерист он должен был понимать, что каванаговский метод командования корпусом из Фэна, на значительном расстоянии от фронта, исключает всякую возможность быстрого развития. Факты приводят к этим заключениям в гораздо большей степени, чем любые объяснения в журналах боевых действий, дневниках или позднейших исторических трудах. Наступление под Флескьером провалилось, а кавалерия не смогла развить прорыв под Масниером, и Бингу нечем крыть в данном случае.
Сражение под Камбре – великое «может быть» Великой войны. Возможно, главную причину того, что сражение пошло неудачно, сформулировал пионер танкового дела полковник Свинтон, который, услышав о прорыве 20 ноября, заметил: «Бьюсь об заклад, что Генеральный штаб столь же удивлен нашим успехом, как и немцы, и так же не готов развивать успех». Это кажется, верное суждение. Бинг сделал мало ошибок в этом сражении, но те, которые он совершил, были фундаментальны, и их следовало предвидеть. Это же обвинение можно предъявить и фельдмаршалу Хейгу, поскольку ничего нового под Камбре не произошло. Старая проблема с невозможностью подтянуть резервы для расширения прорыва во фронте противника порождала старую же проблему застопоривания. Хейгу и Бингу повезло, что немецкое контрнаступление не достигло большего. Еще больше им повезло, что им удалось сохранить свои должности, когда вся история сражения под Камбре вышла наружу в январе 1918 года.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ХЕЙГ И ЛЛОЙД ДЖОРДЖ, АПРЕЛЬ 1917 – МАРТ 1918
«Я верю, что война намеренно затягивается теми, кто в силах ее остановить… Я протестую не против ведения войны, но против политических ошибок и лицемерия, в жертву которым приносятся жизни солдат; также я верю, что смогу поколебать ту косную успокоенность, с которой смотрят на родине на продолжающуюся агонию те, кто сам ее не ощущает и кому не хватает воображения ее представить».
Из письма капитана Зигфрида Сассуна в штаб батальона Королевских валлийских стрелков. Впоследствии письмо было зачитано в Палате общин 30 июля 1917 года и на следующий день опубликовано в «Таймс»
Читая книги о битвах на Западном фронте и о людях, воевавших там, легко забыть, что в Западной Европе между 1914 и 1918 годами существовал и совсем другой мир, который находился вне пределов того, что потом назвали «армейской зоной». Западный фронт растянулся примерно на 650 км, но в глубину имел всего несколько километров, и люди даже на небольшом расстоянии от передовой мало что знали о том, что там происходило. В прифронтовой зоне и на фронте разрушения были ужасными; годы постоянных артобстрелов и частых боев оставили багровый шрам на лице Западной Европы. Разрушенные строения и брошенная амуниция, траншеи, заполненные грудами обломков, оставшихся от огромных современных армий. Но разрушения и смерть были ограничены расстоянием орудийного выстрела.
Всего в 1,5 км за пределами зоны артиллерийского огня нормальная жизнь начинала брать свое. Еще несколько километров территории Франции и Бельгии представляли собой лоскутное одеяло из военных лагерей и полевых складов, стоянок машин, госпиталей и маленьких селений, занятых отдыхающими солдатами, пикетов кавалерии, аэродромов и железнодорожных развязок – все это было заполнено суетящимися солдатами. Сюда восточные ветры постоянно приносили раскаты орудийных залпов, но еще через 1,5 км к западу даже они затихали; открывался мир, который казался неожиданно и странно мирным.
Надо было потратить всего полдня, чтобы добраться от траншей на передовой до вокзала Ватерлоо, и нередко случалось, что солдаты завтракали в воронке от взрыва, а обедали в Ритце. Контраст между жизнью на фронте и жизнью вне его был столь силен, что солдатам казалось, будто гражданские жили не просто в другой стране, но в другом мире. Это отразилось в знаменитом письме Зигфрида Сассуна, горьком послании, которое, стоит заметить, направлено не против генералов, но против политиков и общества на родине, против людей, которые хотя и могли остановить войну, но не нашли в себе воли или, может быть, желания, сделать это… по крайней мере так это выглядело.
По мере того как 1917 год устало готовился передать эстафету следующему, перспективы окончания войны становились все более и более призрачными, хотя потери предыдущих двенадцати месяцев и усугубляющиеся страдания и лишения всех воюющих стран, особенно Германии, свидетельствовали, что война больше продолжаться не может. Проблема окончания военных действий оставалась главной, но вопрос состоял в том, как это сделать и на каких условиях.
Действия политиков были направлены скорее на оказание поддержки фронту, нежели на изменение собственно политической обстановки. Замечание, приписываемое Клемансо (который стал премьер-министром Франции в ноябре 1917 года), о том, что «война – это слишком серьезная вещь, чтобы оставлять ее на попечение военных», не более чем отражение простой истины, особенно по отношению к той войне, которая велась в 1914–1918 годах. Политики хотели влиять не только на отдаленные во времени цели войны и ее стратегию, но и на тактические действия, на передвижение отрядов и их отправку на передовую. В то время как британские генералы воевали с германской армией на Западном фронте, другая битва, менее кровавая, но не менее яростная и жизненно важная, происходила в Лондоне между генералами и политиками. Особенно яростные бои велись фельдмаршалом Хейгом и его союзником в Военном министерстве, начальником Генерального штаба Вилли Робертсоном с их заклятым врагом премьер-министром Дэвидом Ллойд Джорджем. Конфликт разгорался вновь при начале наступления на Аррас 9 апреля 1917 года.
Два фактора определяли стратегическое сознание в 1917 году. Первым был надвигающийся коллапс России, который обозначился в марте, когда группа рабочих собралась в Государственной думе – русском парламенте – в Петрограде, бывшем тогда столицей страны, и возродила революционный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов – иначе говоря, просто «совет». [64]64
Автор, к сожалению, плохо ориентируется в русской истории, и приводимые им в связи с этим факты часто не соответствуют действительности. – Прим. ред.
[Закрыть]15 марта император был вынужден отречься от престола, а 20-го он и его семья были арестованы. С этого момента решимость русских положить конец войне с Германией день ото дня только крепла. Более того, западные союзники уже никак не могли повлиять на ситуацию в России, поскольку страна неуклонно скатывалась к гражданской войне.
В мае 1917 года Александр Керенский, министр юстиции в составе Временного правительства, был назначен военным министром, но Германия, стараясь подтолкнуть Россию к выходу из войны, позволила большевистскому лидеру Владимиру Ленину, который был вынужден покинуть царскую Россию за несколько лет до этого, пересечь свою территорию и прибыть в Россию. Ленин выступал против продолжения войны, и его большевистская партия развернула пропаганду против политики Керенского. Однако до того, как большевики смогли перейти к активным действиям, Керенский приказал генералу Алексею Брусилову начать очередное наступление. Оно началось 1 июля 1917 года, но быстро выдохлось, и к концу августа русская армия уже отступала по всему фронту. Брусилов был смещен, и позиции Керенского, который 25 июля стал премьер-министром, сильно ослабли. Революция началась в октябре, и к 9 ноября 1917 года власть находилась в руках большевиков, а Керенский был вынужден покинуть страну.
Лидеры большевиков – Владимир Ленин, Лев Троцкий, Иосиф Сталин [65]65
В описываемый период Сталин не входил в число трех наиболее влиятельных лидеров большевиков, как здесь указывает автор. – Прим. ред.
[Закрыть]– нуждались в передышке, чтобы упрочить большевистский режим в стране и преодолеть катастрофические социальные и экономические последствия войны, поэтому они быстро запросили мира у Тройственного союза. Перемирие было заключено 16 декабря 1917 года, а мирный договор, составленный на очень выгодных для Германии условиях, был подписан 29 марта 1918 года в Брест-Литовске, городке близ границы современной Польши. В перерыве между этими событиями германское командование перебросило множество дивизий и тысячи орудий на Западный фронт – к моменту подписания договора мощное наступление против 3-й и 5-й британских армий длилось уже неделю.
Вторым фактором, который уравновесил катастрофу, стало вступление в апреле 1917 года Соединенных Штатов в войну на стороне Антанты. Главнокомандующий Американскими экспедиционными силами (АЭС) генерал-майор Джон Дж. Першинг достиг берегов Франции 22 июня 1917 года, но прошло много месяцев – на самом деле почти год, – прежде чем полноценная американская армия была сформирована и подготовлена к боям на Западном фронте. Союзников ждали серьезные дискуссии о том, где и как вводить в бой эти новые американские дивизии. Першинг хотел сконцентрировать во Франции миллион солдат, но французские и британские генералы удовлетворились бы и четвертью этого, если бы свежие силы поступили в их непосредственное распоряжение.
Положение американской армии в 1917 году было намного хуже, чем положение БЭС в 1914 году, по крайней мере в отношении способности к ведению полномасштабной современной войны. Армия США была маленькой и полностью профессиональной. Ее роль практически целиком сводилась к защите мексиканской границы от бандитов и удерживанию остатков индейцев в резервациях.
У нее не было тяжелой артиллерии, почти не было авиации, не было лишней амуниции. Армия была недоукомплектована и плохо подготовлена и в общем и целом не готова в отношении личного состава или снаряжения принимать участие в европейской войне. Вся та значительная помощь, которую США предложили силам Антанты, представляла собой, по сути, неограниченный запас свежих людей, современные технологии и великий американский энтузиазм. Пример, иллюстрирующий страсть американцев к новым видам вооружений, дает история военно-воздушных сил. Соединенные Штаты вступили в войну всего с 55 самолетами, а концу войны в ВВС числилось 17 000 машин. Этот стремительный рост отразился на увеличении американской армии, которая быстро пополнялась по мере того, как лучшие представители нации записывались на службу или были призваны. В июне 1917 года около 175 000 американских солдат тренировались во Франции; к концу войны, спустя 17 месяцев, их было около 2 миллионов.
Генералы союзников, равно британцы и французы, очень озаботились тем, чтобы прибрать к рукам молодых американских солдат, и уже собирались включать их в состав собственных армий батальонами и полками, если не дивизиями. У генерала Першинга и правительства США были иные планы. В их намерения не входило позволять другим нациям использовать своих молодых солдат в качестве пушечного мяса, они намеревались сражаться во Франции как американская армия и под американским командованием – или не сражаться вообще. Со своей стороны, правительства союзников понимали, что высадка войск США может означать окончательную победу, но были озабочены тем, что пройдет как минимум год, прежде чем американская армия под командованием Першинга и правительства США сможет вступить в войну любыми силами.
Тем временем вся тяжесть войны на Западном фронте лежала на французской и британской армиях, и состояние первой из них внушало серьезные опасения. К тому моменту французская армия отчаянно сражалась уже три года и была на грани морального и физического истощения. Моральный дух безжалостных и галантных пуалю был подорван страшными потерями под Верденом и на Сомме, а также тем кавардаком, который устроил генерал Нивель во время своего наступления на перевале Шеми-де-Дам в апреле 1917 года.
Начиная с мая 1917 года во французской армии на протяжении многих месяцев полыхали мятежи. В одних случаях дивизии отказывались вернуться на фронт, в других батальоны заявляли, что выйдут на передовую, но будут только обороняться: будут драться, если на них нападут, но не пойдут в наступление. Солдаты, бывшие в отпуске, отказывались возвращаться в полки и нередко избивали военных полицейских, которых за ними посылали. К ноябрю в результате драконовских мер и одновременно разумных действий генерала Петэна французская армия по большей части оправилась от этой травмы, но ее генералы были далеки от мысли о том, чтобы послать ее в очередное наступление.
Основная идея французов, которую Дэвид Ллойд Джордж стал поддерживать после Пасшендэля и Камбре, заключалась в том, чтобы перейти к обороне и отложить наступление до того момента, когда американские войска будут полностью готовы. Это может показаться разумным, но у генерала Людендорфа не было намерения оставлять союзников в покое даже на то время, которое требовалось для вступления в борьбу американцев. Мысль Ллойд Джорджа о том, что армии союзников оставят в покое, если они перейдут к обороне, была заблуждением, и заблуждением опасным.
Тяжесть боев конца 1917 года и первых месяцев 1918 легла на плечи британских войск. В ситуации, когда надо было продолжать войну и удерживать германские войска, альтернативы не было, но большие потери германской армии и ее более чем сомнительные успехи в боях на Западном фронте около Пасшендэль были в полной мере оплачены настолько же ужасными потерями в войсках Британии и доминионов. К завершению 3-го сражения у Ипра британские войска испытывали сильный недостаток в живой силе и срочно нуждались в отдыхе и пополнении. На самом деле германцы тоже страдали, и комментарий генерала Бердвуда к событиям у Пасшендэль был совершенно правильным: «Наступление Хейга, хотя оно дорого нам обошлось и оказалось в результате безуспешным, сыграло важную роль в опрокидывании и изматывании противника». Проблема состояла в том, что если истощенные германские армии получали свежих солдат с востока, то Ллойд Джордж отказал Хейгу в каком бы то ни было подкреплении.
Зимой 1917/18 года Хейг почувствовал, что его армии необходимо пополнение из резерва на родине. К весне 1918 года в Британии было около 450 000 подготовленных боеспособных солдат, и Хейг хотел заполучить их во Францию, чтобы пополнить истощенные ряды своих дивизий. Ллойд Джордж, однако, мечтал о другом пути или о другом командующем, о ком-нибудь на место фельдмаршала Хейга, кто сможет найти короткую дорогу к победе в этой бесконечной войне, менее болезненную дорогу, вместо того чтобы и дальше жертвовать жизнями солдат.
Тяготы войны ощущались не только странами Антанты. Население Германии было на грани голода: его источники продовольствия оказались отрезаны блокадой союзников. Пайки для гражданского населения были недостаточными, потому что львиная доля продовольствия уходила на фронт; по всей Германии, особенно в городах, дети от голода не спали ночами. Германская армия, еще остававшаяся боеспособной, понесла за последние три года войны огромные потери, и на каждой улице в Германии встречались люди, носившие траур. Австрийцы сильно разочаровались в войне, для развязывания которой они сделали так много. Император Карл уже начал зондаж Антанты, пытаясь заключить с Великобританией и Францией сепаратный мир за спиной своего германского союзника.
Если Австрия сворачивала свою помощь Германии, то Италия активно демонстрировала верность своим обязательствам по отношению к Великобритании и Франции. В Великобритании потери при Аррасе и Пасшендэле, в целом составившие около 390 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, ужаснули премьер-министра, его Военный кабинет, парламент и всю страну в целом. Отчаянно пытаясь предотвратить в будущем столь же масштабные потери своих людей, Ллойд Джордж сначала решил активизировать военные действия в Италии, где потери несли бы уже итальянцы. Чтобы помочь итальянцам, Ллойд Джордж распорядился, как мы видели, отправить им сотни тяжелых орудий и затем несколько британских дивизий. Через некоторое время они достигли итальянского фронта, где генерал Кадорна планировал мощное наступление. Кадорна провел две операции в середине 1917 года – 10-е и 11-е сражения на Изонцо в мае и августе, – которые оказались не более успешны, чем предыдущие девять. Катастрофа разразилась в октябре, когда австро-германские войска под командованием генерала Отто фон Бюлова разгромили итальянские войска под Капоретто и за 10 дней оттеснили их на 130 км по фронту шириной 150 км. В плен было взято 275 000 человек, еще больше было убито, итальянцы потеряли более 2500 орудий. Зимняя кампания обернулась полным поражением, но в тот момент, когда итальянская армия уже не могла сражаться, англо-французские войска при поддержке пяти британских дивизий под командованием генерала Плюмера – генерала и дивизии с большой неохотой выделил Хейг – срочно приступили к укреплению оборонительной линии на реке Пьаве неподалеку от внутренней стороны северо-восточной границы Италии.
Секретные эмиссары с предложением мира от Австрии были в этой ситуации как нельзя более кстати, но переговоры ни к чему не привели, поскольку итальянцы выдвигали требования, с которыми Австро-Венгрия согласиться не могла. Еще одна попытка к примирению, предпринятая папой римским Бенедиктом XV, также провалилась, и стало ясно, что война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не потеряет способность дальше ее вести. В январе 1918 года президент США Вудро Вильсон попробовал выступить в качестве посредника, предложив мирное соглашение на основе «Четырнадцати пунктов» – списка уступок для обеих сторон и предложений, которые, как он надеялся, смогут установить прочный мир после того, как орудия перестанут стрелять. Успехом попытка не увенчалась: «Четырнадцать пунктов? – Le bon Dieu [66]66
Господь Бог (франц.). – Прим. пер.
[Закрыть]обошелся десятью», – заметил Клемансо. По правде говоря, европейские нации еще не были готовы к миру, кроме того, в конце 1917 года, когда американцы готовились начать помощь Антанте, а коллапс России высвобождал большое количество германских войск для переброски на Западный фронт, появился хороший повод задуматься о том, кто же в конце концов одержит победу.
Кроме Западного фронта существовали и другие театры военных действий, и там успехи союзников разнились. На Балканах франко-британская армия оставалась в Салониках, не добившись больших успехов, зато генерал Алленби, направленный в Палестину, быстро сумел потеснить турок. Бер-Шева была окружена в конце октября, а 11 ноября Алленби взял Иерусалим, став первым христианским генералом, вошедшим в Священный город со времен крестоносцев. В Месопотамии британская и индийская армии, а также войска доминионов захватили 11 марта 1918 года Багдад. За пределами Франции и Италии – а также, хотя это было менее важно, Восточной Африки – военные действия шли успешно для Антанты. Зная это, Ллойд Джордж считал целесообразным направлять силы скорее на эти фронты, нежели во Францию или Бельгию.
Все это было прекрасно, но, как ни уставали напоминать Хейг и Робертсон, основным военным театром оставался все-таки Западный фронт. Любые успехи где бы то ни было еще, как бы хорошо они ни смотрелись в официальных сообщениях или на передовицах газет, мало что давали для завершения войны. Необходимо, настаивали они, отправлять на Западный фронт каждого лишнего человека, орудие или комплект боезапаса. Именно здесь была сосредоточена большая часть германских армий, именно здесь их можно и нужно было разгромить. Эту точку зрения активно поддерживала Франция и непримиримо отвергал Дэвид Ллойд Джордж.
Противостояние Ллойд Джорджа и Хейга имело много корней, но когда завершился кровавый 1917 год, премьер-министр пришел к выводу, который только усилил его враждебность к бравому шотландскому фельдмаршалу: он уверился, что и дальше посылать людей во Францию означает посылать их на убой. Многие были с ним согласны – многие согласны с ним до сих пор – и, таким образом, разделили его чувства относительно генералов Первой мировой. Пока же, хотя он и не верил в Хейга как в командующего по уже описанным причинам, он не мог от него избавиться.
Когда все другие способы оказались безуспешными, Ллойд Джордж понял, что единственная возможность остановить Хейга в его стремлении укладывать в землю десятки тысяч солдат в ходе безнадежных наступлений – это отказать ему в подкреплениях. Так как отправка солдат на военные театры находилась в ведении Военного кабинета, премьер-министр мог заставить штаб Хейга испытывать недостаток в подкреплениях. Без подкреплений главнокомандующий во Франции будет вынужден держать оборону и в любом случае не сможет организовать резерв, необходимый для наступления. Чтобы сделать эту невозможность еще более определенной, Ллойд Джордж согласился на запрос Франции о том, чтобы к британцам отошла большая часть линии фронта; таким образом, войска Хейга были рассредоточены еще сильнее.
Понимание вопросов, связанных с резервами, имеет ключевое значение для осознания одной из важнейших проблем, вставшей перед командующими на Западном фронте. В «нормальных» условиях, когда не велось никакого наступления, британские армии во Франции прекрасно обходились наличными корпусами и дивизиями. Последние прибывали на передовую и покидали ее, и не стоит думать, что в «нормальных» условиях бойцы находились на передовых позициях неделями, выстаивая в траншеях плечо к плечу. Генерал Монаш описал в письме, что происходило в его 3-й австралийской дивизии в 1917 году, и опыт австралийцев был перенят другими корпусами:
«Весь мой сектор, 8 из 150 км фронта, которые контролируются британцами, обороняется одним взводом из каждой роты каждого батальона каждой бригады, тогда как остальные батальоны – пехота и саперы – занимаются всем, чем угодно, причем они не только не проводят все время на передовой, но зачастую отправляются на много миль в тыл. „Передовая линия“ – это на самом деле никакая не линия, но сложная и тщательно разработанная система сооружений, которая имеет ширину в несколько тысяч ярдов… батальон проводит на передовой всего шесть дней, взводы постоянно меняются, так что даже в худшем случае солдат редко проводит в траншеях больше 48 часов за 12 дней, а каждые 48 дней бригада целиком сменяется следующей и отправляется на полноценный отдых… по крайней мере это моя система, предназначенная для максимально равномерного распределения нагрузки».
Участок фронта, предназначенный для дивизии, может обороняться всего четырьмя взводами, в то время как остальные подразделения бригады сосредоточены позади, в дополнительных траншеях, или пребывают в резерве, готовые оказать помощь в случае атаки. Солдаты перемещались сквозь фронт, дополнительные и резервные линии обороны и на самом деле очень мало времени проводили под огнем в окопах. Причина тому – кроме равномерного распределения нагрузки, как поясняет Монаш, желание создать резерв из свежих сил на случай необходимости.
Идея о том, что пехота все свое время проводила в траншеях, постоянно сходясь с «гансами» в рукопашную, – еще один миф Первой мировой войны. Чарлз Каррингтон, пехотный офицер и автор книги «Солдат, вернувшийся с войны», описал 1916 год, который он провел во Франции. Несмотря на то что за это время он успел поучаствовать в битве при Сомме, в ходе которой сражался у Овилльер и Лесар, он провел на передовой всего 65 дней, да и то не единовременно. 36 дней он находился на дополнительных линиях, 120 дней в резерве и 73 дня на отдыхе. Еще 73 дня он провел в армейских или дивизионных центрах по подготовке, 17 в отпуске и 10 в госпитале (по причине болезни, а не ранения). Также девять дней он был на базе и не меньше 14 дней в «путешествии по округе», каковое он мог позволить себе в тот год восемь раз. На передовой, куда Каррингтон отправлялся в 1916 году 12 раз, ему пришлось четыре раза принять участие в боевых действиях: однажды он участвовал в атаке, дважды попадал под бомбардировку и один раз его подразделению пришлось обороняться от атаки неприятеля.
Однако если брать армию в целом, то такое состояние дел не было повсеместным. Начать с того, что британская армия продолжала нести потери – до 2000 человек в неделю в «нормальные» периоды. Другие факторы, такие как заболевания, недостаток в рекрутах, нужды других военных театров – Палестины и Италии, – необходимость расширять свой участок фронта, занимая часть сектора французов, – все это истощало силы армии. Батальон, который в теории должен был состоять из 1000 человек, мог в лучшем случае выставить 700. У многих батальонов «огневая мощь» была и того меньше, поскольку из общего списка выпадали заболевшие (исключая несчастные случаи) бойцы, а также проходящие подготовку, прикрепленные к штабам бригад и дивизий и направленные на инженерные работы. Более того, огневая мощь была в любом случае меньше расчетной, поскольку некоторое количество солдат всегда направлялось на переноску раненых и на другие важные работы.
При начале наступления вся эта система меняется. Дивизии, которые должны идти в атаку, набирают полную силу – их «откармливают», если пользоваться этой ужасной расхожей формулировкой, – им дают отдохнуть и проводят с ними учения, в то время как не занятые в наступлении дивизии удерживают позиции. Кроме того, если есть надежда на успех наступления, необходимы дополнительные дивизии, чтобы этот успех развить. В ходе войны достаточно быстро обнаружилось, что солдаты, участвующие в наступлении, бывают столь утомлены и «отработаны» первой же атакой, что задача развития какого-либо успеха должна быть возложена на других. На практике атакующие дивизии все равно оставались на позициях сражаться дальше, но в идеале они должны быть отозваны после первого дня или около того и заменены свежими дивизиями из резерва. Короче говоря, резерв был важнейшей составляющей планирования и осуществления наступлений.
Каждое соединение британской армии старалось организовать себе резерв даже в гуще боя. Бригада из четырех батальонов шла в атаку двумя батальонами, один осуществлял поддержку, а последний оставался в резерве. Командир дивизии при малейшей возможности пытался оставить в резерве бригаду. Существовали резервы корпусов, резервы армий и резервы ставки командования, их составляли дивизии и артиллерийские полки, которые могли быть введены в бой по прямому приказу главнокомандующего. Без резервов армия не могла атаковать, так что, лишая войска пополнений, необходимых для создания резервов, Ллойд Джордж не давал Хейгу вести войну в наступательном ключе.
Однако в расчетах Ллойда Джорджа был существенный порок. Резервы важны не только для атак, они также жизненно необходимы для контратак в ходе наступлений противника, для пополнения рядов на ослабленных участках фронта, для усиления или замены «отработанных» дивизий, для пополнения отрядов, сражающихся на передовой, для поддержки отступающих соединений. Ллойд Джордж, судя по всему, так и не понял, что, придерживая солдат и пытаясь помешать Хейгу вести наступательные действия, он ослаблял способность последнего отразить германское наступление.
На первый взгляд, легко поддаться обаянию взглядов Ллойд Джорджа, которые исходили из гуманистических посылок и подпитывались сводками потерь, с которыми он каждый день знакомился в своем рабочем кабинете. Для премьер-министра, представляющего весь народ, решение отказать своим генералам в пушечном мясе для бесплодных атак должно выглядеть как правильный и нужный поступок.
К сожалению, Ллойд Джордж упустил один важный момент в своих выкладках – германцев. Он счел, что от атак нужно воздерживаться и перевести британскую армию в оборону, чтобы противники просто сидели в траншеях, посматривая друг на друга сквозь проволочные заграждения, а потери снизились бы до минимума. Германцы, однако, не имели намерений бездействовать на Западном фронте. В течение зимы 1917/18 года, по мере прибытия новых дивизий из России, они готовились к масштабному наступлению на западе, которое должно было привести их к победе над Францией и Британией. Планы Германии были быстро раскрыты разведкой союзников, о готовящемся к весне наступлении стало известно. Те войска, которые Ллойд Джордж удерживал в Британии, должны были быть посланы во Францию, чтобы организовать новые линии обороны в глубине фронта, натренировать солдат и разместить их на рубежах перед атакой. Ллойд Джордж имел другое видение ситуации. Фельдмаршал сэр Дуглас Хейг был, с его точки зрения, человеком, чье влияние стоит ограничивать, а не упрочивать. Для того чтобы сделать шаг в этом направлении, премьер-министр решил избавиться от верного союзника Хейга, начальника генерального штаба генерала сэра Уильяма Робертсона.
К проблемам, которые назревали у Хейга в Лондоне, в октябре прибавились более осязаемые во Франции. Премьер-министр и министр обороны Франции Поль Пенлеве (премьер-министром он стал в сентябре, но в ноябре был смещен Клемансо) выдвинул предложение в очередной раз расширить британский сектор фронта. Запрос был поддержан Ллойд Джорджем. В тот момент Хейг был занят наступлением на Пасшендэль и ответил в своем послании Робертсону от 8 октября, что поскольку французы не атакуют, то «они должны быть в состоянии удерживать свои позиции силами своих солдат и не ожидать избавления со стороны британской армии». Робертсон в тот момент находился под сильным давлением и был встревожен своим открытием, что Ллойд Джордж предпочитает обращаться за консультациями по военным вопросам к фельдмаршалу Френчу и генералу сэру Генри Вильсону, а не к нему, начальнику Генерального штаба, официальному советнику премьер-министра и правительства по вопросам ведения войны.