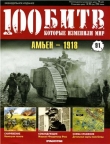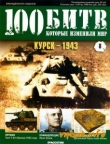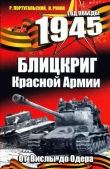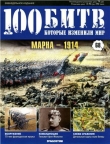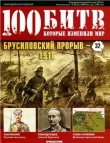Текст книги "Генералы Великой войны. Западный фронт 1914-1918"
Автор книги: Робин Нилланс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 58 страниц)
Дивизии и полки, оборонявшие позиции на Сомме, принадлежали немецкой 2-й армии, которой командовал генерал Фриц фон Белов и которая входила в группу армий кронпринца Рупрехта Баварского. 2-я армия не имела резервов – их оттянули на себя Верден и Восточный фронт. Однако, как только подготовка англо-французских войск к наступлению стала более очевидной, 2-я армия была усилена подразделениями артиллерии, некоторые из которых были обнаружены только 1 июля, когда они открыли огонь.
Учитывая все эти обстоятельства, остается только удивляться, почему именно Сомма была выбрана в качестве района, пригодного для проведения наступления. Однако это решение было продиктовано двумя основными соображениями. Если бы это зависело только от него, Хейг повел бы наступление под Обером или на Ипрском выступе. Но наступательные действия на Сомме планировались как совместныедействия, и французы настаивали на том, чтобы они проводились здесь, по той простой причине, что, поскольку на это место приходился стык английского и французского рубежей обороны, англичане были обязаны принимать участие и вести свои действия в соответствии с желаниями французской стороны. Река Сомма должна была бы стать естественной разделительной линией между двумя союзными армиями, однако Жоффр настаивал на том, чтобы как минимум один из корпусов 6-й французской армии был развернут на северном берегу реки якобы для защиты французского левого фланга. На самом же деле его задачей было следить, если не сказать препятствовать любой попытке британских войск изменять темп атаки или направление удара. Вторым доводом в пользу этого решения явилось то, что прорыв обороны на Сомме давал союзникам стратегическое преимущество, заключавшееся в том, что в случае успеха будет вбит клин между немецкими армиями, благодаря чему они будут вынуждены отступать.
После того как Роулинсон и Алленби провели рекогносцировку на местности, Хейгу и Роулинсону предстояло согласовать вопрос первостепенной важности в части определения полосы наступления и глубины боевой задачи английских войск. Здесь между ними возникли первые разногласия. Дело в том, что Хейг высказывался за то, чтобы в результате первого же боя были обеспечены стремительный прорыв сквозь три основные линии немецкой обороны и выход в незащищенные тылы. Что же касается Роулинсона, то он считал, что все, что может быть достигнуто в первой атаке, это захват первой линии немецкой обороны.
Во времена Первой мировой войны вопрос о тактике наступления служил поводом для больших споров. Какую цель лучше было преследовать генералу: стоило ли прорывать оборону противника на всю ее глубину с последующим выходом в его незащищенные тылы, с развертыванием кавалерии, с охватом обороняющихся и с возвратом к маневренной войне? А может быть, следовало избрать более осторожную, но и более результативную тактику «наскока и захвата», заключающуюся в захвате какой-то части линии обороны противника, отражении последующих контратак, закреплении на отвоеванных позициях с подводом артиллерии, обеспечивающей огневую поддержку, и в последующем развитии наступления? При определении характера наступательных действий на Сомме Хейг настаивал на прорыве обороны противника на всю ее глубину, а Роулинсон выступал за атаки по тактике «наскока и захвата», или за ряд последовательных атак, начинающихся от немецкой передовой. В чем были согласны оба генерала, так это в том, что, учитывая постоянные проблемы со связью и требования оперативной задачи по немедленному вводу в бой резерва, атака должна быть до предела согласованной, боем, где тщательно скоординированному и рассчитанному по времени плану подчинено все до мельчайших деталей: и действия артиллерии, и время подрыва мин, и время выдвижения пехоты.
И тот и другой генералы придерживались разных точек зрения на то, как следует проводить наступление, и нельзя сказать, что кто-то из них был всецело неправ. Хейг, как это и полагается главнокомандующему, обязан был рассматривать возникшее разногласие в более широком плане, чем генерал Роулинсон, командующий 4-й армией. Если целью последнего была победа в сражении, то Хейг точно так же имел целью добиться победы во всей войне… и тогда сколько же атак, построенных по принципу наскока и захвата, потребовалось бы для того, чтобы довести войска БЭС от берегов Соммы к берегам Рейна?
Здесь также имеет значение опыт боевых действий, полученный ими в 1915 году. Хейгу уже приходилось видеть, как захлебывались атака за атакой, как бесцельно терялись тысячи жизней, и все из-за того, что эти атаки не получали должного подкрепления или же распадались, достигнув успеха на первом этапе. На этот раз, имея в своем распоряжении большие силы и соответствующее количество орудий, а также боеприпасы к ним, он намеревался совершить настоящий прорыв в тылы противника, не давая немцам возможности подвести резервы и заделать брешь. Роулинсон имел почти такой же опыт, но его точка зрения была иной. Он просто не мог поверить, что можно продвинуться на несколько миль вперед, преодолев при этом три линии немецкой обороны; ничего подобного не происходило за весь предыдущий период войны, и он не верил, что что-либо подобное может быть осуществлено теперь. Поэтому ему хотелось действовать методом наскока и захвата, хотелось прогрызать себе дорогу сквозь линии немецкой обороны. Поскольку Хейгу никогда не удавались его прорывы в глубину обороны противника, а 4,5 месяца боев методом наскока и захвата тоже не помогли Роулинсону пробиться сквозь немецкую оборону, то оба оказались неправы в своих практических действиях, но в принципе каждый из них мог оказаться правым. Когда сражение окончено, каждый знает, какие решения следовало принять генералу, все дело в том, что настоящим генералам приходится принимать решения перед боем.
Роулинсон отдавал себе отчет, что сил его 4-й армии и приданных ей соединений 3-й армии достаточно, чтобы вести наступательные бои на фронте шириной около 18 км. Это позволит ему атаковать в полосе наступления, начинающейся на стыке с французской армией у деревни Марикур и продолжающейся в северном направлении до деревни Гоммеркур. Что же касается прорыва сквозь линию немецкой обороны, то в то время как имеющаяся у него артиллерия обеспечивала прикрытие наступающим войскам на глубину до 4500 м, Роулинсон не верил, что формирования Новой армии и Территориальных войск, из которых была составлена 4-я армия, смогут продвинуться на такое расстояние и не отклониться при этом от направления атаки. Поэтому он остановил свой выбор на средней глубине боевой задачи, равной 1800 м, при которой его армия должна будет пройти сквозь первую линию немецкой обороны и выйти на вершину широкого хребта Позьере. Глубина боевой задачи не была постоянной, и она менялась от одного участка полосы наступления к другому. Это объясняется тем, ширина нейтральной полосы была тоже непостоянной, и она колебалась от 180 до 1600 м. Однако если к концу первого дня сражения его армия сможет закрепиться на вершине хребта Позьере, Роулинсон будет очень доволен.
Существовали и другие разногласия между двумя военачальниками. Хейг по-прежнему отдавал предпочтение фактору внезапности и настаивал на проведении короткой, но подавляющей артиллерийской подготовки перед самой атакой. Роулинсон, наоборот, в первую очередь заботился о как можно более полном разрушении проволочных заграждений немецкой обороны и настаивал на предварительном артиллерийском обстреле позиций противника в течение как минимум семи дней, сторонником подобной тактики являлся и Фош. В своем докладе, составленном им после рекогносцировки на местности, Роулинсон отмечал, если артиллеристы справятся со своей задачей и уничтожат немецкие проволочные заграждения, все остальное будет несложным делом. Вот так подобные роковые «если» стали накапливаться еще на этапе планирования операции. Хейг хотел, чтобы наступление было начато на рассвете, в то время как Роулинсон и французское командование считали, что заключительный этап артиллерийской подготовки должен проводиться при ярком свете дня. Хейг хотел сосредоточения войск для нанесения концентрических ударов на определенных участках немецкой линии обороны, а Роулинсон считал необходимым проводить атаку одновременно вдоль всей полосы наступления.
Командующий 4-й армии был непреклонен в своем убеждении, что его пехота не должна продвигаться за пределы зоны огня поддерживающей ее артиллерии. Когда пушки будут выведены на новые позиции и наведены на новые цели, когда они своим огнем снимут следующую линию проволочных заграждений, вот тогда он будет готов отдать приказ пехоте продолжить наступление. Хейг, напротив, стремился воспользоваться любым замешательством в стане противника, использовать любую возможность, возникшую на начальном этапе наступления, для того чтобы продвинуться еще вперед, захватить более удобные позиции. Эти споры не были рождены эгоистической борьбой мнений; просто оба генерала старались найти наилучший вариант проведения атаки, которая, как они это хорошо знали, будет исключительно трудной, каким бы хорошим ни был план, составленный ими.
12 апреля, после очередного обсуждения этого вопроса с Роулинсоном, Хейг сформулировал свое решение в виде официального инструктивного письма. Наступление 4-й армии будет составной частью общего наступления, проводимого в тесном взаимодействии с французскими войсками; полоса наступления армии будет лежать от разграничительной линии у Марикур до окрестностей Хебютерна; задачей армии на первом этапе наступления будет создание прочного оборонительного рубежа на фланге вдоль отрога хребта Позьере, тянущегося в юго-восточном направлении от Серра до Миромона, а также на самой вершине этого хребта, который тянется на юг до деревни Фрикур, проходя через Бомон-Амель, Типваль, Овтиллер, Ля-Буссель… Короче говоря, требовалось наступать на востоки овладеть немецкой линией фронта. Поскольку у Фрикура эта линия поворачивала на восток, то в силу этого обстоятельства, «одновременно с этими действиями должна быть проведена атака на траншеи противника к востоку от Фрикура в полосе наступления вплоть до разграничительной линии на стыке с французскими войсками у Марикура». Направление атаки на данном рубеже будет северным. Хейг подчеркивал, что при проведении этой атаки на участке фронта южного фланга армии Роулинсона главными объектами, которые будет нужно захватить как можно скорее, будут деревня Монтобан и позиции вдоль хребта, которые проходят от этой деревни до деревни Мамез, поскольку «на втором этапе операции обладание этими позициями будет играть немаловажное тактическое значение». Директива Хейга продолжала:
«После того будет взята местность, упомянутая выше, ваши дальнейшие усилия должны быть направлены на то, чтобы с помощью ударов с запада и с юга овладеть хребтом Жинши – Базентэн – Ле-Гран и затем продвигаться вдоль этого хребта в направлении Комбле, с тем чтобы во взаимодействии с французской армией на вашем правом фланге осуществить форсирование реки Соммы».
Для выполнения этой части боевой задачи требовалось прорвать вторую линию немецкой обороны, которая проходила перед хребтом Базентэн – Ле-Гран, тогда как их третья линия обороны практически проходила через Комбле. В директиве не говорится, должны ли эти два этапа наступления осуществляться как одна атака или же как две, но документ оставляет впечатление, что Хейг, настаивая на незамедлительном прорыве второй линии обороны противника, был готов к тому, что он будет осуществлен при следующей атаке, разумеется при условии, что эта атака будет проведена без ненужных проволочек. Далее в директиве говорилось:
«Боевые действия, которые должны последовать за операциями, описанными здесь, будут зависеть от величины успеха, достигнутого в этих операциях, и от обстоятельств, которые нельзя предугадать на данном этапе…, однако их целью по-прежнему будет, во-первых, не дать противнику восстановить целостность своей линии обороны и, во-вторых, в полной мере использовать все возможности, способствующие уничтожению его войск в зоне непосредственного соприкосновения. Однако все это должно сопровождаться должным вниманием к требованию оказывать помощь французской армии».
На этом этапе было бы весьма полезно потратить десять минут на знакомство с картой, помещенной в настоящей книге. Если называть вещи своими именами, то предложение Хейга провести наступление на фронте шириной около 22,5 км и на среднююглубину примерно 2,5 км, было весьма амбициозным. Как уже было сказано, в силу особенностей того или иного участка местности расстояние между передовыми британских и немецких войск было непостоянным; в силу той же причины было непостоянным расстояние между первой и второй, равно как между второй и третьей линиями немецкой обороны. По этой причине действительная глубина боевой задачи менялась от немногим более 1,5 км у деревни Типваль до значительно больше 3 км на правом фланге британских войск и еще большего расстояния на самом конце их левого фланга. Так выглядело то, что надлежало сделать, проблема заключалась в том, как это сделать.
Как это излагалось в директиве Хейга, основной удар должна была наносить 4-я армия; при этом перед двумя дивизиями 3-й армии Алленби, которые располагались на северном фланге, была поставлена задача атаковать и устранить Гоммекурский выступ, который вдавался в английскую линию обороны к северу от Серра. Для выполнения поставленной задачи в распоряжении Роулинсона было пять корпусов. На севере, на стыке с 3-й армией, был расположен VIII корпус, а за ним, в направлении на юг и восток, были развернуты X, III и XV корпуса, каждый из которых должен был наступать на восток, и, наконец, XIII корпус, который с исходных рубежей в Марикуре, там, где английский правый фланг имеет стык с французским XX корпусом, будет наносить удар в северномнаправлении.
Как на этом и настаивал Роулинсон, наступлению пехоты будет предшествовать семидневный артиллерийский обстрел. Это будет сделано для того, чтобы, во-первых, уничтожить проволочные заграждения противника, во-вторых, разрушить немецкую систему траншей, в-третьих, лишить пищи и боеприпасов солдат, находящихся в тех траншеях, и, в-четвертых, чтобы деморализовать их. Поскольку результативность предварительного артиллерийского обстрела является решающим фактором, который определяет успех наступательных действий пехоты, сейчас было бы неплохо провести анализ этой составляющей наступления и рассмотреть, как решается каждая из задач, поставленных перед нею.
Артиллерийский обстрел, целью которого является разрушение системы проволочных заграждений, по-прежнему поручался 18-фунтовым полевым орудиям, стрелявшим шрапнелью. В данном случае, как и в других сражениях той войны, колючая проволока оказывалась либо не полностью снятой, либо не снятой совсем. Как и во всем, у этого правила имелись исключения, но в общем и целом результат был таким. Массированный артиллерийский обстрел, когда в дело вступают орудия более крупного калибра, эффективно разрушает или расстраивает системы окопов и траншей на передовой, а также уничтожает ходы сообщения. Однако, чего всегда и опасался Роулинсон, огонь этих пушек оказывался не столь губительным для второй линии обороны, а немецкие солдаты, укрывшиеся в своих глубоких блиндажах, отрытых в траншеях на передовой и в опорных траншеях, хотя и чувствовали себя далеко не лучшим образом, но не несли особых потерь. Конечно, из-за обстрела к ним не поступали питьевая вода и питание, и никакое подкрепление не могло попасть в окопы на передовой, но их оружие, в особенности пулеметы и необходимое количество боеприпасов к ним, были надежно укрыты глубоко под землей. И наконец, хотя есть много свидетельств того, как постоянный обстрел доводил немецких солдат до безумия, тем не менее после обстрела всегда было достаточно бойцов, способных и готовых воевать. Выбравшись из укрытий, они по разрушенным траншеям бросались к своим огневым точкам, чтобы в нужный момент открыть огонь по наступающей английской пехоте.
Непреложным фактом остается и то, что эффект артиллерийского обстрела в значительной степени снижался из-за некачественных снарядов, из-за слишком большой полосы наступления, а также из-за необходимости вести огонь по двумнемецким оборонительным позициям. Проще говоря, в силу первой причины не взорвалось большое количество снарядов, выпущенных во время артподготовки перед 1 июля. Доказательством этому служит то, что и сегодня, спустя 80 лет после окончания Первой мировой войны, на полях былых сражений при Сомме ежегодно собирают около 30 тонн неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов. Об этом свидетельствует и то, что любой приехавший сюда человек все еще может увидеть груды заржавевших снарядов, лежащих вдоль дорог и ждущих, когда специальные команды минеров вывезут их отсюда. К середине 1916 года британская армия во Франции получала артиллерийские боеприпасы в достаточном и постоянно возрастающем количестве, но качество снарядов было невысоким. Когда в середине 1917 года Уинстон Черчилль получил пост министра вооружений, он был вынужден сделать такой прогноз: «В первый год вы не получаете ничего, на второй чуть-чуть больше, а на третий год вы получите столько, сколько вам нужно». Говоря о качестве снарядов, сказанное было бы совершенно справедливо и годом раньше. Но, к несчастью, в 1916 году погоня за государственным заказом на поставку вооружения и стремление наладить бесперебойное обеспечение фронта снарядами привело к сильнейшему снижению контроля за качеством, и не в последнюю очередь при производстве взрывателей. В результате этого в дни перед началом наступления можно было видеть, как все возрастающее количество неразорвавшихся снарядов, многие из которых были американского производства, мусором ложилось на склоны по берегам Анкра.
Вторая проблема была обусловлена самим планом наступления, и ее породила необходимость проводить атаку на фронте большой ширины, избегая тем самым образования узких выступов. Роберт Прайер и Тревор Вильсон в их книге «Командование на Западном фронте» (Robert Prior, Trevor Wilson «Command on the Western Front»), в этом их великолепном анализе сражения при Сомме, проведенного Роулинсоном, отмечают, что хотя в его распоряжении было большое количество пушек – более 1000 полевых пушек и 400 крупнокалиберных пушек и гаубиц, вдвое больше, чем имелось артиллерии во время сражения при Лоосе, – им пришлось работать по гораздо большему количеству целей и вести огонь по линии траншей гораздо большей длины, а точнее, по линиям траншей гораздо большей длины. Позиции немецких войск подвергали обстрелу 1010 полевых орудий, 808 из которых были 18-фунтовыми пушками для уничтожения проволочных заграждений, а 182 орудия являлись тяжелыми орудиями калибра 4,7 дюйма и шестьдесят фунтов, а также 345 тяжелых гаубиц калибра 6 дюймов и выше. Сто таких тяжелых гаубиц принадлежали французской армии, они располагались у деревни Маркур правее английских позиций, но были наведены на цели, находящиеся в полосе наступления британской армии.
Согласно данным «Официальной истории», такое количество артиллерии обеспечило англичанам концентрацию полевых пушек одно орудие на каждые 19 м немецких траншей и одно крупнокалиберное орудие на каждый 51 метр этих траншей. Когда оно выражено в подобных соотношениях, число пушек не выглядит ошеломляющим, и хотя взятые вместе эти пушки за неделю перед наступлением сделали 1 508 752 выстрела и еще 250 000 выстрелов в течение первого дня наступления, и хотя артиллерийская подготовка сопровождалась огнем установленных в траншеях минометов и станковых пулеметов, 1 июля этого оказалось мало, чтобы подавить сопротивление противника, а общий вес выпущенных снарядов был гораздо меньше, чем общий вес крупнокалиберных снарядов, которые будут выпущены в каждом из последующих сражений.
Результатом всего этого стало то, что и на этот раз огневая подготовка атаки не справилась со своей задачей, плотность огня оказалась недостаточной, и она не обеспечила ничего похожего на успешное подавление противника и уничтожение его средств сопротивления, хотя именно на этом строилась вся стратегия Роулинсона. Ко всему этому можно добавить еще и то, что меткость стрельбы британских артиллеристов, особенно в контрбатарейной борьбе, по-прежнему оставалась невысокой. Очень большое количество целей не было поражено совсем или поражено, но не подавлено, или же огонь велся по ним недостаточно эффективно. Военные историки критикуют Хейга и Роулинсона за то, в чем они видят неудачную организацию действий артиллерии, но это – взгляд в прошлое, не обремененный какими-либо представлениями о реалиях того времени. Правда заключается в том, что, для того чтобы подвергнуть позиции противника сокрушительному обстрелу продолжительностью в целую неделю, эти генералы ввели в бой все орудия, которые они могли только найти, и больше орудий, чем участвовало в любом из предыдущих сражений. Любой обычный расчет покажет, что такого количества пушек должно было хватить для того, чтобы уничтожить любые признаки жизни на немецких позициях. То, что этого не случилось, произошло, конечно же, не потому, что генералы не сумели сделать все, что в их силах, для обеспечения достаточно сокрушительной артиллерийской поддержки.
Однако и с учетом всего сказанного, даже если после артиллерийского обстрела и артподготовки были бы обнаружены серьезные очаги немецкого сопротивления, нет сомнения, 1 июля наступление все равно было бы начато. У войны свои законы, и такая крупная и крайне сложная военная операция, подобная наступлению у Соммы, начала разворачиваться уже тогда, когда только были определены первые части, которым предстоит участвовать в сражении. В силу этого обстоятельства она не могло быть остановлена в последнюю минуту, из-за того, что какая-то часть приготовлений пошла не так, как планировалось.
Такое положение вещей, при котором наступательные действия, коль скоро они начались, уже не могут быть остановлены, действительно не только для берегов Соммы, и оно складывалось не только у генералов Первой мировой войны. В 1944 году, 6 июня, в первый день вторжения в Нормандию, подполковник (позднее генерал-майор) Дж. Л. Маултон, который командовал 48-м диверсионно-десантным отрядом британской морской пехоты, вместе со своим подразделением высадился на берег у Сен-Обен-сюр-Мер и увидел, что от его отряда не осталось и половины, а поставленная перед ним задача все еще не выполнена.
«Нас встретила кровавая бойня, но надо было идти вперед. Оглядевшись, я увидел, что весь берег усеян телами убитых и умирающих пехотинцев, и наших, и канадских, стояли разбитые танки, горели десантные катера и баржи. Но сзади нас, за линией прибоя, к берегу шла великая армада, сотни десантных кораблей готовились к высадке. Было слишком поздно поворачивать назад, и уже ничто не могло остановить вторжение. В этом-то и заключалась проблема… представление началось, и надо было продолжать наступление, не щадя тех сил, которые еще оставались у нас». (Генерал Маултон. Беседа с автором книги. Стоит отметить, что на следующий день изрядно поредевший в боях отряд подполковника Маултона выполнил поставленную перед ним задачу и захватил укрепления противника в Лягрюн-сюр-Мер.)
Так было в День «Д», [41]41
День начала Нормандской десантной операции англо-американских войск 06.06–24.07.1944. – Прим. пер.
[Закрыть]то же самое имело место и на Сомме 1 июля 1916 года, за 28 лет до него.
На совещании, состоявшемся между Роулинсоном и Хейгом 16 мая, Хейг согласился с Роулинсоном в том, что пехота не будет посылаться в атаку до тех пор, пока командование корпусов не убедится, что сопротивление противника на их участках фронтов в значительной степени подавлено. Однако волею случая никто не следовал этому соглашению. Французы, которые продолжали настаивать на проведении атаки в утренние часы; концентрация солдат и припасов, резервов и поддерживающих сил в пунктах сосредоточения, а также расстановка по позициям пушек и боеприпасов к ним; подготовка и начало артиллерийского обстрела противника – все это было теми ступенями, которые подводили пехоту к моменту, когда нужно будет подняться над бруствером и пойти в атаку. Вместе с подготовкой к сражению поднималась и росла неодолимая сила обстоятельств, и 1 июля эта сила погонит британскую пехоту на нейтральную полосу независимо от того, будет подавлена немецкая оборона или нет.
Помимо артиллерийской подготовки намеченная на 1 июля атака с исходных рубежей будет сопровождаться подрывом мин в минных галереях, подведенных под немецкие позиции. К этому времени рытье сап и подвод минных галерей стали характерной чертой позиционной войны, и для поддержки этой атаки под траншеи противника были подведены три заряда большой мощности и ряд более слабых зарядов. Два первых заряда установили в неглубоких лощинах по обе стороны от деревни Ля-Буассель, названные англичанами лощина «Сосиска» и лощина «Мешанина» (взрыв в первой из них образовал сохранившуюся до сих пор воронку, известную под именем «Лошнагар»), Третий заряд был установлен под позициями редута «Боярышник», расположенного у Бомон-Амель в зоне действий VIII корпуса. Мина под редутом «Боярышник» была установлена так, чтобы ее взрыв произошел за десять минут до того как солдаты поднимутся в атаку; две другие должны быть взорваны восемью минутами позже, то есть за две минуты до времени «Ноль». [42]42
Время начала атаки. – Прим. пер.
[Закрыть]
Согласование вопросов артиллерийской поддержки, ввода подкрепления, организации связи и обеспечения – дело исключительной сложности. Как только началась работа по выполнению плана боевой операции, ее размах ширился день ото дня, достигая пика амплитуды к началу наступления, и стало фактически невозможно приказать остановиться ее безостановочному развитию. Шли недели подготовки к наступлению, и Хейг пришел к выводу, что его нужно перенести на сентябрь. Однако французы стали оказывать на него всевозрастающее давление, требуя не только начать наступление в намеченный день, но и в возможно более ранние сроки. В боях под Верденом немцы перемалывали части французской армии, и если британские войска не начнут свое наступление и не вынудят немцев ослабить или даже совсем остановить активные действия на том участке театра военных действий, французская армия может быть совершенно уничтожена.
В течение недель и дней, предшествовавших наступлению, и пилоты Авиационного корпуса, и ночные разведывательные дозоры пехоты, которые посылались к немецкой передовой, доставили немало сведений, говоривших, что система проволочных заграждений противника в основном не разрушена. Однако на эти донесения не обращали внимания. Да и в любом случае, что можно было сделать в данном положении, кроме того, что продолжать делать то, что и так уже делалось, а именно – по-прежнему осыпать немецкие позиции и проволочные заграждения огнем артиллерии. Когда артиллерия выполнит свою миссию, придет черед попытать счастья пехоте. Насколько судьба будет благосклонной к ней, зависит от тактики, выбранной для проведения атаки.
Обычная тактика выдвижения в атаку под огнем противника, та, которую пехота Великобритании применяла в 1914–1918 год и которая и поныне используется пехотой, это тактика атаки короткими перебежками, описанная ранее в этой книге. В разумных пределах основные положения данной тактики могут быть использованы применительно к любому количеству солдат, но, как правило, это – тактика боевых действий некрупных подразделений на уровне взвода или роты. Она заключается в том, что пока одна часть подразделения движется вперед, другая его часть своим беглым огнем не дает противнику поднять голову над траншеей. Этот процесс повторяется до тех пор, пока цепь атакующих не окажется перед траншеями врага. После этого следует еще один, последний залп, и начинается окончательный штурм, где дело решают пистолет, граната и штык. В первый день сражения при Сомме подобная тактика, как правило, не применялась британской пехотой, однако расхожее мнение о том, что тогда все солдаты шли в атаку со скоростью пешехода и выстроившись длинной цепью, тоже неверно. Применялись разные варианты, как по видам тактических построений, так и по скорости движения в атаку.
17 мая 1916 года Роулинсон издал наставление «Замечания по тактике Четвертой армии» ( «Fourth Army Tactical Notes») и предписал, чтобы с этим наставлением были ознакомлены все офицеры до капитана включительно, то есть до командиров рот. «Замечания» призывали идти в атаку развернутыми цепями: «Интервал между головными цепями не должен превышать 100 ярдов, а солдаты в цепи должны отстоять друг от друга на расстоянии двух или трех шагов. Число цепей зависит от расстояния и характера поставленной боевой задачи».
На практике, однако, это должно было выглядеть так: солдаты поднимаются из траншей, гуськом проходят через проходы, предыдущей ночью проделанные в колючей проволоке британских заграждений, и плечом к плечу выстраиваются перед траншеями противника в длинные линии. Сделав это, они должны будут ровным шагом проследовать через нейтральную территорию к немецким позициям. «Принцип данной тактики, – говорит наставление, – в том, что артиллерия обеспечивает огневую поддержку атаки, создавая сплошную огневую завесу непосредственно перед фронтом наступающей пехоты, а последняя идет вперед, градом свинца подавляя любые очаги сопротивления». На самом деле Роулинсон в этом документе намечает первые шаги того, что потом станет общепринятой тактикой наступательных действий на Западном фронте, – «атаки за огневым валом», во время которой пехота движется на минимальном удалении от сплошной огневой завесы, создаваемой поддерживающей артиллерией перед фронтом атакующих войск. По мере их продвижения к рубежу огневого вала или же через установленный интервал времени завеса переносится в глубину обороны противника, и таким образом обеспечиваются совместные действия пехоты и огневого вала. Проблема заключается в том, что управлять переносом огневого вала можно только по данным наблюдения или же установив соответствующий временной режим, которому должна подчинять свои действия пехота. В силу этих обстоятельств, коль скоро пехота должна продвигаться, следуя за взрывами снарядов перемещающейся огневой завесы, она должна двигаться развернутым строем. При движении короткими перебежками, когда отдельные группы солдат, сменяя друг друга, несутся через поле боя, они просто попадут под разрывы снарядов своей артиллерии. Клубы дыма и взрывы ухудшают видимость на поле боя, и, как правило, пехота оказывается неспособной поспевать за перемещением огневой завесы; кроме того, в ту пору еще не существовало надежных переносных радиопереговорных устройств, с помощью которых можно было бы управлять темпом переноса огневого вала, и в любом случае тогдашние примитивные приемо-передающие устройства беспроводной связи были слишком тяжелы и несовершенны, чтобы пользоваться ими на поле боя.