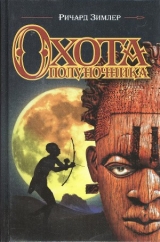
Текст книги "Охота Полуночника"
Автор книги: Ричард Зимлер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
– После нашего визита к доктору Дженнеру мы решили, что Полуночнику стоит посмотреть на английскую деревню. Понимаешь, вся эта лондонская суматоха так… выводила его из себя. Мы взяли экипаж, приехали на побережье, в городок Сванедж – тихое местечко, где я бывал раньше, и остановились на небольшом постоялом дворе, – отец скривил губы в нервной усмешке, которую я раньше не замечал за ним.
– В наш третий и последний день, который мы провели в этой деревне, влажный воздух стал наэлектризованным, а вечером началась сильная гроза. С нависшего свинцового неба хлынул дождь. Зрелище было ужасающим. Но Полуночник был вне себя от восторга. Наутро я обнаружил, что он последовал за дождем.
Я молча и безучастно слушал его.
– А наутро, – продолжил отец, – после завтрака показалось солнце. Часов в десять ко мне зашел скверно одетый юноша и сказал, что хозяин послал его привести меня на место несчастного случая. В кармане погибшего человека нашли клочок почтовой бумаги с адресом нашего постоялого двора. Парень описал несчастного хозяину постоялого двора, и тот сказал, что он приехал со мной.
Папа взял трубку со столика.
– Конечно же, я немедленно сел в повозку. Через полчаса мы подъехали к большим железным воротам, за которыми находился роскошный дом.
Вытирая глаза он сказал:
– Привратник впустил нас внутрь, и навстречу вышел старик в парике. Он смущенным голосом представился как лорд Льюис Пэкинхем. Извинившись за то, что внезапно вытащил меня с постоялого двора, он провел меня в каменную часовню рядом с главным домом. Там… там… – папа опустил голову и откашлялся. – Там, Джон, – продолжил он, – я нашел испачканное кровью одеяло, а под ним на соломенном тюфяке лежало тело.
Он вытер рот тыльной стороной руки.
– Когда одеяло подняли, я увидел рану от пули мушкета, зиявшую в груди Полуночника. Он был весь серый, а выражение лица было совсем другим, чем при жизни.
Отвернувшись к стене, отец продолжил упавшим голосом:
– Пэкинхем сообщил мне, что егерь увидел, как «черный парень» – так он назвал Полуночника – охотится на его землях, и трижды выстрелил в него. Только последний негодяй мог убить его! – Папа в ярости обернулся ко мне. – Этот английский мерзавец в парике предложил мне щепотку табака из своей серебряной табакерки, как будто это могло возместить мне утрату.
– Не желая, чтобы этот, как он выразился, досадный случай, доставил мне какие-то неудобства, – продолжил отец, – Пэкинхем предложил отдать своего слугу на все время моего пребывания в Англии. Я, конечно, отказался. Вот и все, сынок. Скажу еще, что неподалеку нашли куртку и рубаху бушмена, они висели на верхней ветке дерева, куда никому, кроме кошек, было не добраться. В кармане его жилета, среди прочих пустяков, вроде семян и репьев, нашли листок почтовой бумаги с постоялого двора Сванеджа.
Папа достал этот кусок бумаги и развернул его:
– Прочти это, Джон, – сказал он, протягивая мне листок.
Я взял, и папа ласково погладил меня по щеке. Я стал читать последние слова Полуночника: «Ты проглотил не светлячка, а молнию. Теперь я это знаю. И я открою тебе одну тайну. Лишь очень, очень редко Богомол избирает того, кто будет нести его, – не из племени бушменов. Знай, что теперь он находится между пальцев твоих ног. И всегда помни, что ты всегда несешь его с собой, куда бы ты ни шел».
Пока я читал это, в мою голову, словно туман, проникали холодные смутные мысли. Я был где-то за сотни лет и миль отсюда и не понимал, кому предназначались эти слова Полуночника.
Когда я выразил свое недоумение, отец похлопал меня по ноге и сказал:
– Конечно, тебе.
Первую неделю после того, как я узнал о смерти Полуночника, я не одевался и не выходил из дома. Папа завтракал со мной в моей комнате. Мы мало говорили и ели, но его присутствие утешало меня.
Я не знал, что в это время делала моя мать, потому что она почти на целый день запиралась в своей спальне. И лишь изредка, спускавшись ближе к вечеру в гостиную, я встречал ее там за вышиванием. Она отказывалась говорить о Полуночнике.
Сидя рядом с ней и глядя в ее покрасневшие глаза, я постепенно начал понимать, что теперь мы живем в мертвом царстве.
Полуночник умер, но ведь я-то продолжал жить. Это казалось мне большой загадкой.
Когда отец возвращался вечером с работы, мама снова запиралась в спальне. Мы ужинали с ним хлебом и сыром, сидя у камина, а иногда у меня в комнате. Вся моя кровать была усыпана крошками. Иногда он варил суп с фенхелем – единственное блюдо, которое умел готовить.
Вскоре отец стал оставлять ужин под дверью маминой спальни; когда он спускался вниз, то мы слышали, как открывается дверь и мама забирает еду. Пару раз я клал ей на поднос поздние желтые георгины из сада Полуночника, надеясь, что это как-то утешит ее, но она ни слова не сказала мне о них.
Отец не раз повторял:
– Нужно проявить терпение, парень. Твоя мать… она из тех женщин, которых нельзя торопить. Она живет по своим собственным ритмам.
Папа часто повторял, что время – лучший лекарь. Но я не верил ему. Когда ему не хватало собственных слов, он цитировал Роберта Бернса, и две строчки особенно запомнились мне, ведь они обещали, что однажды я снова встречу Полуночника на Елеонской горе:
Ликуя, радостно взлетает ввысь надежда,
Что встретятся они когда-нибудь.
Иногда он старался пробудить во мне надежду, говоря, что я славный парень и скоро найду новых верных товарищей. Мы оба знали, что это ложь, ведь к тому времени уже стало ясно, что я ничуть не склонен к дружбе со своими сверстниками, но мы оба притворялись, будто верим в это.
Спустя некоторое время я перенес многие вещи Полуночника в свою комнату. Я спал в одной из его ночных рубашек, потому что ткань хранила его запах, по крайней мере, мне так казалось. Однажды я даже взял в лес его лук, колчан и стрелы, но не смог добыть даже кролика.
На самом деле, я не хотел причинить вреда никому, кроме самого себя.
Я так и не спросил у отца, как завоевать сердце Марии Анжелики.
Когда мне стало лучше, мы с отцом стали гулять с Фанни и Зеброй за городом. Он сказал мне, что доктора Дженнера очень заинтересовала моя предрасположенность к орнитологии, и попросил подумать об обучении у него. Он предложил мне несколько месяцев в год проводить в Лондоне и прибавил, что этот опыт поможет мне определить, чем я хочу заниматься в жизни.
Еще он пообещал, что летом мы с ним поедем в Амстердам; я давно хотел увидеть этот город, потому что там процветала община португальских евреев. Когда он сказал мне об этом, я неожиданно разрыдался. Тогда я часто плакал без особых причин, или по причине, зарытой глубоко в могиле Полуночника.
Мать не пускала отца в спальню, и он был вынужден спать на диване в гостиной. Мы перестали приглашать в дом гостей и даже намекнули Бенджамину, что ему лучше пока не ужинать с нами по пятницам.
Мама часто смотрела на меня в окно, когда я играл в саду с собаками. Но если я махал ей рукой или звал ее, она задергивала занавески.
Но потом в середине января, во вторник утром, она пришла на кухню в изящном синем шелковом платье, которое она обычно надевала на званые обеды. Перебирая свое жемчужное ожерелье, она сказала, что собралась на рынок. Я ожидал, что отцу, так же как и мне, будет интересна такая перемена в ее поведении, не говоря уже о странном выборе наряда, но он видимо почувствовал слишком большое облегчение, чтобы задавать ей вопросы.
Вскочив со стула, он подбежал к маме и прикоснулся губами к щеке, как будто она только что вернулась из опасного путешествия.
В эту же ночь она впустила отца в спальню.
Я надеялся, что она оправилась от потрясения и горя, но всю следующую неделю она казалась мне неким хрупким созданием, готовящимся к долгой зиме. Она сновала по дому по разным делам, словно даже малейшая передышка выдала бы всю глубину ее отчаяния. Однажды она по ошибке приготовила чай с орегано, в другой раз оставила скорлупу в блюде из яиц, трески и картофеля. Я понимал, что мысли ее витают где-то далеко. Возможно, она представляла, как срывает розы из нашего сада и относит их на могилу Полуночника в Англии. Я и сам часто мечтал о том же, и, как мне кажется, наши мысли были не так уж различны. Я всегда во многом походил на нее.
Однажды днем в конце января я принес от сеньоры Беатрис выглаженное белье и застал маму рыдающей за фортепьяно. Она прислонилась к нему, словно боялась упасть в такую глубокую и темную пропасть, из которой уже не было возврата.
Отняв ее пальцы от фортепьяно, я прижал маму к себе. Она приникла к моей груди, продолжая плакать и сильно дрожа. Она была такой маленькой и хрупкой, и я чувствовал, что это она – мой ребенок, а не я – ее.
Я поцеловал ее в макушку, вдыхая теплый запах волос, и заплакал. Это были ужасные, но вместе с тем на удивление отрадные минуты, ведь общее горе сблизило нас.
– Я за многое должна просить прощения, – сказала она, вытирая глаза. – Сможешь ли ты простить меня?
– За что, мама?
Я ждал, что она попросит прощения за то, что бросила меня в эти дни, даже не пытаясь утешить.
Но она ответила:
– За смерть Полуночника.
– Но ты ни в чем не виновата.
– Нет, нет, к сожалению, это не так. Я должна была запретить твоему отцу и Полуночнику заниматься этой вакциной от оспы. Я должна была твердо заявить об этом перед их отъездом.
– О чем ты говоришь?
– Разве ты не понимаешь? У них наверняка была лихорадка. Что-то произошло с ними из-за этой вакцины. Иначе как объяснить то, что Полуночник выбежал в грозу? И почему твой отец не сумел защитить его? Нет, Джон, наверняка, они оба были не в своем уме.
Ее слова показались мне нелепыми, ведь отец никогда не упоминал про помрачнение сознания или даже про легкое недомогание. К тому же, мама знала, что Полуночник часто следовал в направлении грозы. Встревоженный ее рассуждениями, я предложил ей отдохнуть.
Позже, когда я стоял у задней двери и смотрел, как Фанни и Зебра грызутся из-за ветки, я услышал мамин крик. Она пролила на себя почти кварту кипятка. От ее груди валил пар. Я выхватил чайник из ее рук и увидел, что он почти пуст. Очевидно, это был не просто несчастный случай.
Мать в ужасе посмотрела на меня, осознавая, что сильно ошпарилась. Потом она закатила глаза и потеряла сознание. Я бросился к ней, не дав ей упасть на пол.
Я перенес ее на диван в гостиной, подложил под голову подушку и побежал за оливковыми сестрами, которые с помощью нюхательной соли привели ее в чувство. Слушая, как они шепчутся с ней, я понял, что в последние дни она самыми различными способами выражала свой гнев: сначала в небольших враждебных действиях против нас с отцом, оставляя, например, скорлупу в тарелке, а теперь, причинив вред самой себе.
Придя в себя, она попросила меня покинуть комнату. Именно в этот момент я осознал, что она перестала любить меня.
Затем она снова заперлась у себя в спальне на всю неделю, не впуская ни меня, ни отца.
Думаю, мать и правда на несколько лет перестала любить меня, хотя даже самая мысль об этом была просто чудовищной. Лучше было бы сказать, что ее любовь ко мне оказалась заперта в ларце, вместе с ее супружеством и телом Полуночника.
Возможно, она очень любила меня и знала, что только я способен пробить броню, в которую она сама заключила себя. Стоило ей только позволить себе любить меня и принять мою любовь, она бы целыми днями кричала от боли, осознавая, что потеряла все, что было дорого ей, и, прежде всего, свой брак.
Любой, кто смотрел на ее бледное осунувшееся лицо, понимал, что она находится на грани самоубийства.
Конечно, было бы нелепо думать, что она смогла бы любить меня, лишившись рассудка. Эта не та жертва, о которой один человек может просить другого.
Когда мать сообщила мне о своих сомнениях относительно отца, о которых она раньше молчала, я вскоре осмелился открыто обвинить его в том, что он не защитил Полуночника. Он попросил у меня прощения, но я продолжал бранить его, хотя он и пытался меня урезонить. В конце концов, он заплакал, и я, устыдившись этих слез, выслушал его объяснения. Он сказал, что никогда не простит себе, что оставил Полуночника без присмотра.
К сожалению, признание отцом своей вины мало успокоило меня, и я часто грубил ему, а однажды даже сказал, что не хочу, чтобы он выгуливал вместе со мной Фанни и Зебру. Я знал, что мое поведение отвратительно, но не мог сдержать своих чувств. Боль, искажавшая его лицо, вероятно, вполне соответствовала моему несчастному состоянию. Он ни разу не наказал меня и на мои обвинения отвечал только мягкими замечаниями, что время – лучший лекарь.
– Даже ты злишься на меня, парень…
Во время особенно тяжелых приступов отчаяния я скрывался в своей комнате и выходил, только когда он убирался из дома. Я проводил дни в одиночестве, читая книги и рисуя. Я ни к кому не ходил, даже к оливковым сестрам и сеньору Бенджамину.
Однажды днем, в середине февраля, папа тихо вошел ко мне в комнату, когда я уже засыпал, и сел у меня в ногах. Я не открывал глаз; хотя и слышал, как он тихо плачет, я все же отказывался простить его.
В конце концов он ушел, шаркая ногами по полу.
Самое ужасное, что отец больше никогда не просил меня о помощи. В тот день я упустил свой шанс. Даже сегодня, раскаиваясь в том, что я отказывал ему в любви, я чувствую себя черствым и ограниченным человеком.
Спустя семь лет, перед самой женитьбой, я рассказал Марии Франциске, своей невесте, все об этом периоде своей жизни, предупреждая ее, какого дурного человека она берет себе в мужья. К моему удивлению, она предположила, что я отказался утешить отца в этот решающий момент, не столько чтобы наказать его, сколько из страха, что моя любовь приведет его к смерти.
В тот момент я решил, что она просто пытается снять с меня вину, но теперь понимаю, что она была права: втайне я действительно боялся, что смерть заберет у меня всех, кто мне дорог. Возможно, я даже решил, что Даниэль и Полуночник умерли потому, что я их очень любил, а следовательно, я, в какой-то мере был виноват в их гибели. Забирая их, смерть мстила мне, хотя я не знал, за что. Возможно, лишь за то, что я был счастлив, но возможно и за то, что я причинил боль Даниэлю, когда он больше всего нуждался в моей помощи.
В конце февраля у матери начались сильные боли в животе, и она на четыре дня ушла жить к бабушке Розе.
В ее отсутствие отец в конце концов отказался терпеть мое отношение к нему.
– Это зашло уже слишком далеко, – сказал он мне однажды утром, распахивая дверь и входя в мою комнату. Глаза его сверкали. – Я ожидал уныния и даже гнева, но не этого упрямого нежелания вернуться к нормальной жизни.
Потом он зажал нос и воскликнул:
– Боже мой, Джон, здесь воняет, как у гончей под хвостом! Неужели ты ничего не чувствуешь?
Он распахнул ставни и сорвал сетки от москитов.
– Это ужас, что такое! – закричал он, поднимая с пола полный до краев ночной горшок. Осторожно донеся его до окна, он выплеснул отвратительное содержимое, воскликнув по-шотландски sujidade– «гадость». – Джон, это внушает мне отвращение!
– Выйди и закрой за собой дверь, – презрительно усмехнулся я, натягивая себе на голову одеяло.
Это разозлило его так сильно, что он подошел ко мне, сбросил одеяло и схватил меня за грудки, собираясь, видимо, задать мне трепку. Мне отчаянно этого хотелось, ведь тогда бы я дал ему сдачи. Я знал, что он может умерить мой гнев, лишь спустившись, подобно Орфею, в подземный мир, дабы вывести оттуда Полуночника.
– Ненавижу тебя! – закричал я.
Он отпустил меня, сознавая свое поражение.
– Прости. Я знаю, как это тяжело для тебя. Ты еще слишком молод. Но рано или поздно ты оправишься, как и после смерти Даниэля.
– Я не хочу оправляться, – ответил я. Тогда я думал, что отказаться от горя означало прервать последнюю близкую связь с Полуночником; лишь мои слезы соединяли нас, минуя порог между жизнью и смертью. – А Даниэля я никогда не забывал. И никогда не забуду.
– Нет, и Полуночника ты тоже никогда не забудешь. Я не это хотел сказать… О, Джон. Ты думаешь, Полуночник хотел бы, чтобы ты лежал здесь целыми днями, словно в небе погасло солнце? Он бы хотел, чтобы ты танцевал – танцевал даже перед лицом его смерти, если нужно, но все же встал и продолжал жить дальше.
Я понял, что плохо думал о папе: он понимал мою близость с Полуночником лучше, чем я ожидал. И я почувствовал, как во мне снова пробивается чувство любви к нему.
– Папа, разве ты не скучаешь по нему?
– Я скучаю по нему каждый день, Джон. Но жизнь… она не такая, как нам хочется. Мы теряем тех, кого любим, одного за другим. Я потерял своих родителей, а теперь потерял Полуночника. А твоя печаль, парень… Твоему старому отцу сложно выносить ее. Я ведь не отчаиваюсь перед тобой, потому что не имею права поддаваться своим чувствам. Я должен содержать семью. Мне нужно работать, Джон. Я должен жить дальше и не могу себе позволить такую роскошь, как отчаянье.
Я заплакал, раскаиваясь в своем непонимании по отношению к нему.
– Прости, что сказал, будто ненавижу тебя… и что обвинял тебя. Разве я могу ненавидеть тебя?!
Он вытер глаза от слез.
– Джон, я тоже презираю себя. Гораздо больше, чем я мог только себе представить. Возможно, даже гораздо глубже, чем ты.
И я пообещал ему, что снова начну выполнять свои обязанности, но не помню, что он ответил. Его признание в том, что он презирает себя, было так неожиданно и так непохоже на него, что я весь день думал только об этом.
Зиму и весной этого года между моими родителями произошло столько непонятных вещей, что я начал подозревать, что отец и мать не все рассказали мне о смерти Полуночника.
Не желая испытывать рассудок мамы, я расспрашивал только отца. После нескольких разговоров я убедился, что мои подозрения были совершенно беспочвенны.
Вскоре я уже был в состоянии чистить картошку, качать воду из колонки, разводить огонь, ходить на рынок и выполнять все, что от меня требовали – такова природа человека. Мать снова вернулась к нормальной жизни, теперь уже навсегда. Ее способность снова взять на себя все обязанности матери и жены, говорили о большой силе духа.
Но я совершенно уверен, что она лишь притворялась сильной: та женщина, которой она была раньше, перестала существовать.
– Таков наш удел в этой жизни – идти вперед, несмотря ни на что, – сказала она мне однажды.
Она взяла в привычку менять тему разговора каждый раз, когда речь заходила о главном. В этом случае она отвечала, чтобы я ел свой суп, или что я стал таким занудным, что хоть плачь, и якобы я не хочу, чтобы ей стало лучше. Иногда она просто говорила, что я уже мужчина и волен поступать, как мне угодно.
Однажды я впервые за много недель сказал:
– Я скучаю по Полуночнику. Каждый день скучаю по нему.
Мать не смотрела на меня.
– Разве ты не скучаешь по нему? – спросил я, наклонившись вперед от нетерпения. – Помнишь наш первый ужин с ним? Когда он сказал, что Африка осталась в прошлом. Помнишь, как мы считали его сумасшедшим?
Не говоря ни слова, она отложила ложку, встала и направилась к лестнице. Я крикнул ей вслед слова извинения, но она даже не обернулась.
Даже мое возвращение к прежней жизни не смогло восстановить отношения между нами. Папа больше не рассказывал мне шотландских сказок, не подходил сзади к маме, чтобы испугать ее поцелуем, а его поездки в верховья реки перестали быть препятствием нашему счастью. Мама уже не пыталась рассмешить папу и не делала мне замечаний за то, что я перепрыгивал через две ступеньки, а я не советовался с ними, какую мне выбрать профессию.
Теперь мне ясно, что с того момента, как отец вернулся домой один, крах нашей семьи стал неизбежен. У нас была возможность изменить судьбу, но только намного раньше, если бы, например, меня взяли в это роковое путешествие с папой и Полуночником.
Я уверен, что смог бы предотвратить трагедию, и часто сожалел об этом. Даже сегодня я вижу кровь на своих руках.
Целый год я не разговаривал с родителями о Полуночнике.
Я никак не мог понять, почему мама не хотела поговорить со мной о нем, хотя бы несколько минут. Я не представлял, как мы дошли до такой жизни.
Каким нелепым сейчас это ни кажется, но когда обе стрелки часов указывали прямо в небо, мы говорили только «двенадцать часов», никогда не произнося слова «полночь».
Лишь после настоятельных просьб отца, через три месяца после смерти Полуночника, я возобновил уроки с профессором Раймундо. Однако я скоро обнаружил, что больше не могу терпеть его напыщенности.
В середине апреля я набрался храбрости и поднял эту тему за ужином с матерью.
– Мама я не могу больше терпеть профессора Раймундо. Мне бы хотелось учиться самостоятельно.







