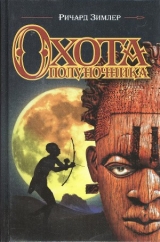
Текст книги "Охота Полуночника"
Автор книги: Ричард Зимлер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Глава 23
Несколько незначительных событий существенно повлияли на мое решение остаться в Португалии и на мой выбор профессии.
Они начались в то время, когда сеньор Жильберто, местный гончар, в середине июля навестил Луну Оливейра, спустя девять недель после того, как французы были изгнаны из Порту. В тот момент, когда он стучал в дверь, она только что обнаружила несколько моих рисунков с изображениями сфинксов и других мифологических существ. Я нарисовал их, когда мне было одиннадцать лет. В правом нижнем углу первого рисунка, на котором был изображен грифон, нападающий на Церковную башню, ее сестра Граса аккуратно вывела: «Д жон, январь 1802 года. Несомненные способности. Но требуется много упражнений».
– Какие славные рисунки, – сказал Жильберто Луне, как только увидел их. – Но кто их автор?
– Джон Стюарт. Парень с нашей улицы. Несколько лет назад мы подарили ему вашу плитку с изображением тритона.
Жильберто засмеялся и сказал:
– А у этого парня неплохой вкус!
– Вы правы, он всегда проявлял здравый смысл, конечно, за исключением тех случаев, когда он восхищался вашими работами.
– Ах! – Он сделал вид, будто сердце его пронзено стрелой, но тотчас же засмеялся. – Он еще здесь, в Порту?
– Да, но французы убили его отца, и теперь ему нужна работа. Бедный мальчик!
Они оба пришли ко мне домой после обеда. Визит Луны очень обрадовал меня, – ведь с похорон Грасы она носила траур и совсем не выходила из дома. Я нежно расцеловал ее, словно бы после смерти ее сестры нас связали еще более нежные чувства.
Она представила мне Жильберто, и я выразил свое восхищение его работами и сообщил, что его плитка все еще спрятана под сорняками в нашем саду.
Когда мы удобно расположились в нашем патио, Жильберто сделал мне заманчивое предложение: увидев мои рисунки и признав за мной определенный талант, он был готов нанять меня в качестве подмастерья на три года. Все это время я буду получать небольшое жалованье и смогу обжигать керамические изделия для собственного пользования. Он будет требовать от меня упорной работы, но в то же время передаст мне ценные навыки, и мне уже не захочется сменить ремесло.
Если все пойдет хорошо, то он, когда мне исполниться двадцать один год, возьмет меня младшим партнером, или же даст мне в долг деньги, чтобы я открыл свое собственное дело, если я соглашусь заниматься им не ближе трех миль от его собственной лавки.
– Конечно, это открывает самые прекрасные перспективы на будущее, – сказала мать. – Но я сомневаюсь, что имеет смысл принимать это предложение. Мы ведь собираемся переехать в Англию, к старшей сестре моего мужа.
Я отнюдь не разделял маминых сомнений; мое желание остаться в Порту и обучиться хорошему ремеслу было настолько сильным, что я твердо решил принять щедрое предложение Жильберто.
– А вы разрешите мне работать с моими собственными эскизами? – спросил я.
– Боже милостивый! – воскликнула Луна. – Кто тебя воспитал, парень?
Жильберто сделал успокаивающий жест, положив ей руку на плечо.
– Не все сразу, парень. Думаю, что не следует спешить в этом деле. Но месяцев через шесть ты сможешь использовать и свои замыслы – почему бы и нет?
– Сеньор Жильберто, прежде чем мы заключим соглашение, мне бы хотелось сообщить кое-что о себе – чтобы избежать в будущем недоразумений. Я не хочу, чтобы Луна, как бы сильно она ни любила меня, закрывала вам глаза на мои недостатки. Прежде всего, я довольно упрямый человек. И несмотря на все старания моей матери и на ее благотворное влияние, мои манеры далеки от совершенства. В отличие от многих португальцев, я вовсе не испытываю неприязни к испанцам. Веласкес, Рибейра и Гойя вызывают у меня огромное восхищение. Я ненавижу фанатизм, и, наконец, по национальности я наполовину еврей. Жильберто пожал мне руку.
– Ты упомянул Гойю? Я видел его гравюры в доме Луны; его талант настолько велик, что он даже поверг меня в ужас.
Затем он заявил:
– Мне хочется последовать примеру Джона и после его разумной речи сказать несколько слов о себе.
Добросердечный гончар сообщил, что по утрам он пребывает в скверном настроении, иногда небрежно относится к личной гигиене и чересчур гордится великолепными вещами, которые он сделал своими руками. Он закончил свою характеристику следующим заявлением:
– Я всегда пою фальшивым голосом, когда рядом находятся люди, которые мне не нравятся и которые впустую тратят мое время.
Затем он потянулся так сильно, что пустил ветры, и добавил:
– Еще я иногда страдаю от геморроя, который заставляет меня выть от боли, когда я сижу на горшке.
Я рассмеялся, впервые за последнее время. Даже мама почувствовала симпатию к нему за все его старания вызвать на нашем лице улыбку. Я был так восхищен им, что уже на следующий день был готов начать свое обучение, но мать попросила меня еще раз подумать о переезде в Англию и дать ответ через неделю.
Мы несколько раз подробно обсуждали предложение гончара, и мне кажется, что мое решение остаться в Порту в определенной степени стало для нее облегчением. Не желая оставлять меня одного, она все же хотела начать новую жизнь там, где бы ничто не напоминало ей о былых горестях, как, впрочем, и о моих надеждах. Мы заново учились любить друг друга, но каждый из нас хотел идти своей дорогой. Теперь я ясно сознаю это. Все в нашем доме напоминало ей об отце и о Полуночнике, и она больше не могла этого выносить.
В начале ноября мама почувствовала себя достаточно сильной, чтобы переехать в Англию. Она даже отправила свое фортепиано к тете Фионе. За день до отъезда мама попросила принести менору, который я недавно выкопал в нашем саду.
Изо всех сил сжав ее, она сорвала круглое основание с краями в форме зубцов.
– Я не знал, что ты это умеешь, – сказал я в изумлении. – Только отец и я делали это.
Поднеся отверстие к свету лампы, она достала пергаментный свиток и развернула его. Я увидел миниатюру, нарисованную яркими красками. В центре был изображен квадрат из тонкого листового золота, внутри которого были аккуратно выведены строчки на иврите, окруженные гирляндами розовых и карминных цветов. На самом верху находился павлин, красивый хвост которого выходил за пределами миниатюры.
Я никогда не видел более великолепного рисунка.
Разрешив мне взять его, мама сказала:
– Его сделал один из наших предков по имени Берекия Зарко, художник из семьи потомственных создателей миниатюр. Он родился в Лиссабоне несколько столетий назад, а позднее перебрался в Константинополь. Берекия был очень ученым человеком, но это все, что мой отец смог рассказать о нем. Этот манускрипт передается в нашей семье в течение многих поколений. Возможно, это обложка к атласу Европы. По крайней мере, так твоему дедушке сказали его родители.
– Дедушка Жуан отдал тебе его?
– Да – сказала она с улыбкой, – и теперь я передаю его тебе.
– Мне, но почему?
– Он всегда предназначался для тебя. Я должна была отдать тебе его в твой тринадцатый день рождения, но начались все эти наши проблемы… Хорошо это или плохо, но я подумала, что лучше подождать. К тому же я беспокоилась, что ты все еще огорчен тем, что наполовину ты – еврей, и это только усилит твое чувство отчужденности. А сейчас я расстаюсь с тобой и больше не желаю откладывать этот подарок. Мне не нужно говорить, насколько он ценен, а также то, что ты должен хранить его в тайне, – ведь насколько я знаю, в Португалии запрещено хранить еврейские письмена.
– Можно мне показать его Бенджамину? Ведь он умеет читать на иврите.
Она обдумала эту просьбу.
– Да, Джон, но только при условии, что он никому не расскажет о его существовании, пока члены нашей семьи остаются Португалии.
– Мне кажется, что я должна дать тебе какой-нибудь совет, – продолжала она, – но мне нечего посоветовать тебе. Скажу только, что горжусь и люблю тебя. Я верю, что в жизни ты добьешься больше, чем я. Я уверена, что папа пожелал бы тебе того же самого, если бы он был здесь.
Я был так расстроен и взволнован, что едва владел собой.
– Джон, я знаю, что говорю, – сказала она с дрожью в голосе. – Наверное, большинство родителей надеются, что их дети, когда они вырастут, будут похожи на них, но мне бы хотелось этого меньше всего. Я была бы очень рада, если бы ты забыл обо мне.
– Я никогда не забуду тебя, мама, но я не уверен…
– Джон, я не то пыталась сказать, – перебила она меня. – Не подумай, что я желаю забыть тебя. Я просто хочу, чтобы ты не возлагал на меня пустые надежды.
– Постараюсь, – ответил я.
– Вот и хорошо.
– Но что будет с тобой? Как ты будешь жить одна в Лондоне?
– Джон, теперь я не могу быть полезной ни одному человеку на свете. Мы оба знаем, что я уже не та женщина, какой была раньше, и потому я думаю, что для меня лучше, и в определенной степени правильнее, побыть какое-то время одной. Если ты дашь мне несколько лет, я думаю, что смогу вернуться назад более сильной, чем сейчас. Пожалуйста, будь терпелив ко мне. Мне кажется, это – единственное, о чем я имею права просить кого бы то ни было. Хотя, наверное, принимая во внимание мое поведение, я не имею права даже на это.
На следующее утро в одиннадцать часов я попрощался с матерью на пристани.
Напоследок она расцеловала мои руки и сжала их в своих ладонях.
– Мой сын, пусть горячая любовь, которую я питаю к тебе, всегда остается с тобой.
Нетвердой походкой она взошла на борт, и я испугался, что она упадет в обморок. Мы махали друг другу, пока корабль не отошел на такое расстояние, что она больше не могла видеть меня – хотя это расстояние не было таким уж большим, но она, конечно, забыла надеть очки.
Несколько дней спустя, испытывая к самому себе острую жалость, я взял миниатюру Берекии Зарко и пошел к Бенджамину. При свете одной свечи в гостиной он прочел надпись. По его словам, она была написана сефардическим шрифтом, характерным для Испании и Португалии. Он перевел эту надпись: «Кровоточащее Зерцало. К евреям и их обратившимся собратьям: о необходимости изгнать из своих сердец христианскую Европу и искать убежище в мусульманских странах».
Очевидно, это был вовсе не учебник по географии, а доказательства в пользу переселения евреев из Европы в страны, находящиеся под контролем мусульман. Что касается названия «Кровоточащее Зерцало», Бенджамин предположил, что это метафора серебряных глаз Моисея или десяти заповедей, которые выражают волю Божью.
На обратной стороне стояла подпись: Берекия Зарко.Минускулами были также указаны дата и место создания: 17 Ава, 5290, Константинополь.
Бенджамин объяснил мне, что Ав – это шестой месяц в еврейском лунном календаре; как правило, он совпадает с частью июля и августа. 5290 год у евреев означал 1530 год от рождества Христова. Следовательно, этой обложке было почти триста лет.
Этой ночью я положил ее под подушку, рядом с «Лисьими баснями». Миниатюра еще больше убедила меня в правильности решения стать художником и подмастерьем у Жильберто: теперь я вообразил, что буду продолжать многовековые традиции своей семьи.
В течение следующих лет я жил один, выполняя рутинную работу у Жильберто. Он оказался более строгим, чем я себе представлял, но в то же время любящим и всегда честным наставником. Я убежден, что во время моего обучения он не раз был близок к тому, чтобы задушить меня, но его критика моих эскизов никогда не была унизительной. Даже после десяти часов работы рядом друг с другом мы часто получали удовольствие, гуляя вместе по берегу реки вечером или потягивая бренди в близлежащей таверне. Он всегда был и остается очень хорошим человеком.
Мать регулярно писала мне первые годы нашей разлуки, каждую неделю сообщая новости. Весной 1810 года она стала членом небольшой конгрегации евреев, предки которых происходили из Испании и Португалии. До этого она никогда не уделяла внимания надлежащему исполнению обрядов в синагоге, и потому чувствовала себя неловко в этом отношении. Ничего не зная об иудейских ритуалах, она чувствовала себя неполноценной рядом с ними. Особенно она была поражена, когда узнала, что ей, как и всем остальным женщинам, необходимо садиться отдельно от мужчин. В ее собственной семье мать не только зажигала субботние свечи, но также часто читала молитвы в синагоге.
Прекрасным известием было то, что теперь она могла много играть на фортепьяно и даже нашла себе шестерых молодых учеников, двое из которых, по ее мнению, были особо одаренными. Кроме того, она прекрасно вышивала, а ее работы пользовались успехом, и это, вместе с уроками, обеспечивало ей постоянный доход.
Я же был менее прилежен в ответах на письма и иногда за две недели она не получала от меня ни единого словечка. Как это ни странно, но мне кажется, что эта переписка сблизила нас; такой близости у нас не было, с тех пор как мне исполнилось девять или десять лет. Она проявляла свою прежнюю привязанность ко мне, радуясь моим успехам во время обучения и демонстрируя живой интерес ко всем мелочам моей жизни в нашей спокойной стране. Я даже начал замечать, что чувства, глубоко скрытые в ее сердце, снова начали проступать наружу. Мать часто писала мне о темах новых музыкальных произведений Бетховена, ноты к которым она только что приобрела, и о чувствах, пробужденных в ней музыкой.
Странно, но я думал, что мать снова обрела дом в чужой стране, как она сама однажды написала мне. Я обнаружил, что и сам мечтаю об этом. Мне также хотелось узнать, что стало с той маленькой еврейской девочкой из Порту.
Примерно через год после прибытия в Лондон она посетила Сванедж, чтобы возложить камешек, взятый поблизости, на могилу Полуночника как велел еврейский обычай. Но священник приходской церкви только два года назад приехал в город и ничего не знал об африканце, который умер по соседству. Вероятно, тело было похоронено в неизвестной могиле без опознавательных знаков. Это чрезвычайно огорчило ее, но в конце концов, она поняла, что об этом не следует беспокоиться, поскольку в любом случае Полуночник находится в безопасности и вся земля для него является домом. Она написала мне, что мы оба наверняка встретимся с ним на Елеонской горе, он будет одет в элегантный алый жилет и бриджи, но ноги его будут босы. Он подойдет к нам, неся в руках перо и пустое страусиное яйцо, и с радостью поприветствует нас. Только это имело для нее значение.
В мире, за пределами моего непосредственного окружения, тоже происходили важные события. Все мечты Наполеона о покорении Европы потерпели крах в ноябре 1812 года, когда его войска, страдая от голода и морозов, начали отступление от Москвы, столь необдуманно взятой ими. Через восемнадцать месяцев он был низвергнут, а его трон в Париже занял Людовик XVIII. Благодаря этому новое вторжение французов в Порту стало невозможным, по крайней мере, в ближайшем будущем. Теперь я отгонял от себя воспоминания о Полуночнике и Даниэле. Как и мать, я не желал больше сталкиваться с осколками прошлого.
Во время работы я жадно впитывал в себя все, чему только мог научить меня мастер Жильберто; я научился обжигать горшки и изготавливать плитки. Когда он разрешил мне создавать свои собственные эскизы, моим первым проектом стало панно на плитке с изображением сатирического наброска Гойи – обезьяны, рисующей осла. Следующие два года я перевел много его работ на плитки и даже нарисовал несколько фигур на вазах и чайниках. Затем я начал выполнять работы по своим собственным замыслам. Они были основаны на историях, которые рассказывал мне Полуночник. Мое первое панно купил Жильберто: девять квадратов, изображающих огромное белое перо, падающее в простертую руку бушмена.
Первые три года, проведенные в Англии, мама часто самыми разными способами приносила извинения, что не может вернуться домой и провести со мной какое-то время, пока я не понял то, что было очевидным уже с самого начала. На чужбине она не стала больше любить Порту, и в ближайшее время нельзя было рассчитывать на ее приезд домой. Между строк я вычитывал, что она боялась тех чувств, которые пробудились бы в ней при виде нашего дома; встреча с бабушкой Розой также бы взволновала ее.
В октябре 1812 года я спросил ее, не хочет ли она, чтобы я навестил ее, и она ответила, что каждый день скучает по мне, и мой приезд в Лондон был бы для нее настоящим счастьем. Поскольку идея добираться зимой до холодной дождливой Англии не слишком воодушевляла меня, я попросил у Жильберто разрешения поехать к ней весной на два месяца. Теперь я ничуть не стеснялся своего высокого роста и отпустил длинные волосы, подвязывая их позади черной бархатной лентой, которая, на мой взгляд, выглядела очень элегантно.
Глава 24
Для поездки в Лондон я выбрал время, когда мне должно было исполниться двадцать два года, чтобы вместе с матерью отметить свой день рождения. Я был сильно взволнован, главным образом из-за событий, которые произошли незадолго до моего отъезда.
Однажды во время прогулки я поймал на себе взгляд девушки, стоящей на балконе второго этажа. У нее были длинные черные распущенные волосы и темные сверкающие глаза. Она игриво подняла край своей ярко-синей мантильи и прикрыла им лицо, словно вуалью. Я бы легко поверил, что это – лесная колдунья эпохи Первых людей, о которой мне рассказывал Полуночник.
Прежде чем я открыл рот и спросил ее имя, она скрестила руки на груди, изящно повернулась и исчезла внутри дома. Я ждал два часа, но она больше не появилась.
На следующий вечер, когда солнце уже клонилось к закату, я снова увидел ее. Она сидела на табурете под балконом и продавала саженцы и цветочные луковицы. Она не увидела меня, поскольку была занята тем, что раскрашивала горшок в яркий оранжевый цвет. Ее волосы были связаны сзади в пучок, а на уши опускались изящные локоны.
– Добрый вечер, – любезно сказал я.
Она вздрогнула и уронила кисть прямо на юбку.
– Черт побери! Смотрите, что я из-за вас сделала!
Я был очарован тем, как она произнесла бранное слово.
– Я приношу глубокие извинения, юная леди, – сказал я, предлагая свой носовой платок, при этом изображая на своем лице обаятельную, как я надеялся, улыбку.
– Но я ведь испорчу его, – сказала она, видимо считая, что безрассудно с моей стороны делать такое предложение.
Мой ответ в течение многих лет вызывал безудержное веселье у Луны Оливейра и у мамы. Я протянул ей свой дар с еще большей искренностью и сказал:
– Я даже не буду возражать, если вы меня всего разрисуете оранжевой краской, лишь бы только чувствовать прикосновение вашей руки на своем теле.
Я до сих пор не могу понять, как мог сказать такую нелепость. Ее глаза гневно сверкнули. Она грубо отказалась от моего платка и вытерла руки о фартук.
Почувствовав себя униженным, я все же предпринял все возможное, чтобы свести разговор к более безопасной теме.
– Какой прекрасный закат! Такие чудесные розовые и золотые краски…
Услышав лишь молчание вместо ответа, я откашлялся и переместил тяжесть тела на другую ногу, – мне казалось, что в этом было что-то от благородных манер.
– Вы загораживаете мне свет, – сказала она, даже не удостаивая меня взглядом.
Поскольку солнце было позади нее, а мое тело отбрасывало тень в противоположном направлении, я подумал, что она шутит. Ободренный, я издал краткий смешок и отпустил еще одну глупую шутку.
Глядя на ее растения, я сказал:
– Интересно, а луковица тюльпана – съедобна. Некоторые говорят, что на вкус она напоминают батат, небольшой картофель. Как вы думаете, ею можно отравиться? Вероятно, в вареном виде их можно употреблять в пищу.
– Сударь, – заявила она, – если бы луковицы были ядовитыми, будьте уверены, я бы немедленно предложила вам одну из них.
Из-за ее резких слов на моих глазах выступили слезы.
– Ах, сударь, что я такого сказала, – воскликнула она.
Сгорая от стыда, я убежал прочь.
Я заперся в спальне и проклял всех женщин как дочерей Лилит, царицы демонов. Затем я разделся и принялся внимательно изучать себя в старом мамином псише. Я был слишком худощав и бледен. Я подумал, не отпустить ли мне усы, чтобы улучшить свой внешний вид.
Я заставил себя остаться дома на следующий вечер, но через день ко мне вернулся былой кураж и я осмелился снова подойти к ней. С заходом солнца я неожиданно для себя взял для нее красный платок из дамаста, который купил за небольшую цену на улице Руа-дас-Флорес. Когда она появилась на балконе и увидела меня, то на этот раз ее глаза наполнились слезами.
Я завязал два узелка на платке и бросил его на балкон. Она поймала его, а затем бросила мне свою черную мантилью.
Она накинула платок на плечи и распахнула в стороны, словно это были крылья. Затем она скрылась в доме.
На следующее утро я не мог работать из-за бессонной ночи. Попросив Жильберто о терпении, я снова направился к дому своей мучительницы, подождал, пока не пробило девять часов, и постучал в дверь. Всю ночь я готовил красивую речь для ее родителей с обращениями к философии и искусству, которые должны были произвести впечатление, но когда дверь открыл человек небольшого роста с седой бородой и длинными волосами до плеч, я только невнятно промычал приветствие.
– Говори громче, сынок! – сказал человек хриплым голосом.
– Здесь живет молодая леди… молодая… леди, которая каждый вечер появляется на балконе… Она еще продает цветы на улице…
– Это моя дочь, Мария Франциска.
– Да, да, это должно быть она. Но… но лучше мне начать сначала. Меня зовут Джон Стюарт. Я прошу прощения, что побеспокоил вас своим ранним визитом.
– Нет, нет, я даже очень рад, – улыбнулся он. – Всегда лучше начинать со своего имени. Но прежде чем мы продолжим, мне хотелось быть точно узнать, какого рода интерес вы испытываете к моей дочери?
– Видите ли, сударь, я… я намерен жениться на ней.
Не могу объяснить, почему я осмелился дать такой ответ, разве что я действительно имел такое намерение.
Отец Франциски засмеялся.
– Ты не первый, кто это заявляет, – сказал он. – Но, конечно, гораздо важнее, – тут он взял меня за руку и провел в дом, – стать последним.
Он сообщил, что его зовут Эгидио Кастру да Силва Мартиш. У него было только три или четыре кривых зуба, но зато большие глаза светились дружелюбием, а губы все время расплывались в улыбке. Он сказал мне, что занимается продажей цветов, а его магазин находится рядом с госпиталем святого Антония.
Над каминной полкой висел портрет матери Франциски. Я увидел, что дочь унаследовала от нее густые черные волосы и загадочный взгляд. Они обе были похожи на женщин, которые знали, как хранить тайны и как создавать их. Сеньор Эгидио сообщил мне, что жена бросила его десять лет назад, когда Франциске было семь лет. Он погрозил портрету кулаком.
– Как ты посмела изменить мне, несчастная женщина?! – прокричал он.
Когда я заметил сходство дочери с матерью, он, казалось, быть потрясен и сказал:
– Я понимаю твой выбор, сынок.
Говоря о будущем дочери, он сообщил, что уже давно принял простое решение: предоставить ей самой сказать, кто будет ее мужем.
Затем я сказал, что хочу пригласить ее погулять со мной по набережной.
– Я передам ей твое предложение после обеда, молодой человек, и если ты вернешься в восемь часов вечера, то получишь ответ.
Я поблагодарил его за помощь, а затем признался, что через четыре дня мне придется уехать на два месяца в Англию.
– Может, это, и к лучшему, – заверил он меня. – Если Франциска даст согласие, ты сможешь обрадовать своих родных уже через несколько дней. А если между вами возникнет настоящая любовь, и несколько недель разлуки не разрушат ее, тогда мы все можем считать, что вас ожидает прекрасное будущее.
– И еще одна проблема, сударь…
– Не стесняйся, сынок, – сказал он, похлопав меня по спине.
– Я вынужден признаться, что мой отец был шотландцем, а моя мать, хотя и родилась в Португалии, но по происхождению относится к новым христианам. Другими словами, я наполовину еврей, и наполовину шотландец. Я с самого начала хотел признаться в этом. Я пойму, если вы сочтете это препятствием, но могу заверить вас, что…
Сеньор Эгидио остановил меня широким жестом и засмеялся.
– Сынок, молодых интересует только любовь. Все остальное не так важно.
Он сдержал слово, и в течение трех следующих вечеров Франциске и мне было разрешено гулять по городу. Каждый вечер она надевала новую мантилью, а я покупал ей цветные фонарики.
Я с удивлением обнаружил, насколько застенчивой была Франциска: долгое время она отказывалась смотреть мне в глаза. Лишь спустя несколько месяцев она призналась, что я был первым мужчиной, к которому она почувствовала расположение, и это чувство вызывало у нее дрожь по всему телу.
На второй вечер, проведенный вместе, мы стояли возле реки, и я рассказал ей о Даниэле.
– Я никогда не перестану переживать из-за его смерти, – сказал я.
– Но тебе и не следует желать этого. Ведь это говорит о том, что его жизнь действительно была дорога тебе. – Произнося эти слова, она слегка прикоснулась к моей руке. Я заметил, что у нее красивые тонкие пальцы.
– Да, – ответил я, – он был неуемным и замечательным парнем.
Вспомнив о своем предательстве, я добавил:
– И очень терпимым по отношению ко мне.
Будучи верным привычке раскрывать все свои недостатки с самого начала, я сказал:
– Смерти близких людей, которых мне пришлось пережить, надломили меня и сделали одиноким. Франциска, если ты когда-нибудь полюбишь меня, на что я очень надеюсь, тогда тебе придется отдать свое сердце человеку, совершившему много безрассудных поступков, человеку, который из-за своего своенравия плохо приспосабливается к окружающим условиям. Но самое ужасное, что, сознавая это, я не испытываю ни малейшего сожаления.
Пока мы возвращались домой в полном молчании, возникшем по моей вине, я пришел в отчаяние, думая, что испугал ее своей прямолинейностью.
Возле дверей ее дома я стал извиняться за свои неуместные речи.
– Джон, пожалуйста, не говори больше ни слова, – сказала она и на мгновение приложила свою руку к моим губам. – Я понимаю тебя гораздо лучше, чем ты думаешь. Я и мой отец каждый день скучаем по матери.
Она грустно улыбнулась.
– Пожалуйста, зайди домой и посиди с нами. Не нужно сдерживать свои чувства. Кому, как не нам, знать, что такое утраты.
Она взяла меня за руку и проникновенно заглянула в глаза.
– Знай, что я – твой друг, – заверила она меня.
Пять коротких слов… но то, как она сказала их – с бережным вниманием человека, расставляющего нежные цветы в простой вазе, – убедили меня: она поняла что я не просто хочу приятно провести с ней время. Я поднес к губам ее руку, чувствуя, что одиночество оставляет меня… Потом я улыбнулся и еще раз поцеловал ее, закрыв глаза, чтобы лучше ощущать аромат ее тела.
Мы зашли в дом. Сеньор Эгидио разводил огонь в камине. Меня трогало живое внимание, которое он проявлял по отношению к Франциске; благоприятное впечатление производили и его непринужденные манеры. Он предложил мне стакан вина.
– Мне хочется кое-что показать тебе, Джон, – сказал он, почесывая бакенбарды и с озорством косясь на меня. – Я сейчас вернусь. А ты, Франциска, не смей сплетничать обо мне.
С этими словами он скрылся наверху.
– Он не умеет сидеть спокойно. Иногда мне кажется, что я родилась за ткацким станком, – шепотом сказала Франциска.
Эгидио вернулся в комнату, неся на плече несколько мантилий. Увидев его, Франциска схватилась за голову и простонала.
– Что это? – спросил я ее.
– Эта умница смутилась, потому что сама сшила их, – заявил ее отец.
Он повесил мантильи на сгиб руки и стал показывать мне их, словно мы были детьми. У него были большие грубые руки с грязными ногтями, но его необычная нежность ко всему, что относилось к дочери, растрогала меня и убедила в том, что я не зря зашел в этот дом.
Франциска сидела как на иголках, отказавшись присоединиться к нам, пока мы обсуждали ее рукоделие.
– Нет, нет, нет, – сказала она, игриво отгородившись от нас.
Одну ярко-красную мантилью она украсила узорами в виде бордовых осенних листьев. В другой, каштанового цвета, белыми и желтыми нитками она вышила ослепительное солнце. Я никогда не видел ничего подобного, поскольку в Порту не носили ничего наряднее черных шалей. Но больше всего меня поразило ее богатое воображение.
Я поймал ее взгляд и улыбнулся, но она в ответ лишь вздохнула:
– Отцы созданы лишь для того, чтобы мучить своих детей.
– Хорошо сказано, детка, – подмигнул он ей.
Франциска продолжила умалять достоинства своей работы, когда я спросил у нее о технике и методе вязания.
– Ведь столько прекрасных вещей создается в мире, а разве можно обращать внимание на то, что делаю я? – ответила она.
Но я не согласился с ее скромной оценкой.
– Юная леди, – сказал я, подражая утонченным манерам английского джентльмена, – если бы я доверил вам сшить для меня жилет с изображением солнца или с другим узором на ваш выбор, вы бы поверили в искренность моего восхищения?
Поскольку она все еще думала, что я просто отдаю дань вежливости, я пристально посмотрел на нее и кинул ей монетку в сотню реалов, которую она поймала обеими руками. Она покачала головой в ответ на такой нелепый поступок, а потом усмехнулась. Я же мог утверждать, что хотя еще и не завоевал ее сердце, но уже добился доверия с ее стороны.
На следующий вечер она надела красный платок, который я ей подарил. Мы гуляли вместе по реке, и она предложила переправиться на пароме на другой берег.
Неожиданно она вызывающе посмотрела на меня, приподняла подол платья и со смехом побежала к лодке. Я даже не пытался догнать ее; этот поступок был настолько неподобающим для леди, что я не мог оторвать от нее изумленных глаз.
На пароме я думал лишь о том, как поцеловать ее, и почти не мог поддерживать разговор.
Почти в полуобморочном состоянии я осмелился прижать свои губы к ее губам.
Позже тем же вечером, отбросив все правила приличия, мы осмелились зайти ко мне домой. Мы оба нервничали так, что не могли говорить. Казалось, что мое сердце вот-вот выскочит из груди.
После того как мы поцеловались еще раз, мои пальцы проскользнули под ее платье. Она вздрогнула от моего прикосновения, и я попросил у нее прощения за свою нетерпеливость. Но она обняла меня и сказала:
– Просто у тебя холодные руки, Джон.
Потом она спросила, где моя комната.
Именно на моей старой кровати мы впервые занимались любовью, сплетая свои тела в одно целое и путешествуя по морям любви.
Потом на меня напало безумие. Я отплясывал голым по комнате и высоким голосом пел «Робина» Роберта Бернса.
На следующую ночь я попросил ее руки – и получил согласие.
На прощание я подарил Франциске письмо Хоакима к Лусии, которое выпало из «Лисьих басен», когда мне было семь лет, – ведь оно столько рассказало мне о языке любви! Она сидела на моей кровати, скрестив ноги, и читала его при свете свечи. Пока она изучала письмо, я подошел к окну и, смотря на звезды, шепотом помолился о благополучии Виолетты. Мне казалось, что таким образом я прощаюсь с ней навсегда.







