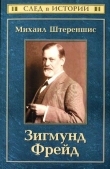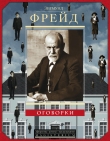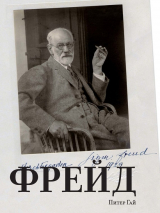
Текст книги "Фрейд"
Автор книги: Питер Гай
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 81 страниц)
На самом деле Ференци так и не смог полностью расстаться с зависимостью от Фрейда или от страха его неминуемого гнева. Ярким симптомом этой двойственности были потоки лести, которую мэтр не любил. «Похоже, вы – как всегда – правы», – характерная фраза, сказанная Ференци в 1915 году. Фрейд пытался защититься от такого обожания, указывая, что Ференци не должен делать из него идола. После войны, жалуясь на то, что не может свести концы с концами, принимая по десять пациентов в день, Ференци неумеренно восхищался неиссякаемым источником энергии мэтра. Ответ Фрейда на это был более резким, чем обычно: «Естественно, мне приятно слышать ваши восторги относительно моей юности и работоспособности, как в последнем письме. Но затем, обратившись к принципу реальности, я понимаю, что это неправда». В конце лета 1923 года в письме из чудесного, по его словам, Рима Ференци вспоминал время, когда они вместе посещали священные места города: «Я считаю те дни одними из самых прекрасных в жизни и с благодарностью думаю, каким несравненным гидом вы для меня были». Ференци не видел, не мог видеть, что Фрейд не был, как однажды выразился сам мэтр, сверхчеловеком психоанализа и хотел быть не гидом, а другом.
Комплименты Ференци были неприятны Фрейду, но еще большее недоумение вызывало его периодическое молчание. Однажды, в самом начале их дружбы, во время одного из таких периодов основатель психоанализа отправил Ференци письмо, в котором между приветствием и подписью стояли только вопросительные знаки. Это был предупреждающий жест, который мэтр мог повторить не раз. Следует отметить, что иногда вина лежала на самом Фрейде. «Наша переписка, некогда столь оживленная, в последние несколько лет угасла, – писал он Ференци в 1922 году. – Вы пишете редко, а я отвечаю еще реже». Но обычно молчал Ференци. В конце июня 1927-го по возвращении из Соединенных Штатов он посетил Лондон, но не заехал в Вену, и Фрейд выражал по этому поводу смешанные чувства. «То, что он не торопится меня увидеть, – писал мэтр Эйтингону, – это неприятно. Но мне трудно угодить. Очевидно, требуются некоторые усилия по раскрепощению». Но сохранить беспристрастность чистого анализа Фрейд все-таки не смог. «Когда вы станете достаточно старыми, – прибавил он с явной досадой, – то в конце концов обнаружите, что все против вас». Эйтингону тоже многое не нравилось. «Должен признаться, – писал он, – что после моей встречи с Ф[еренци] здесь в Берлине я был и остаюсь в сильной тревоге». В декабре основатель психоанализа прямо заявил Ференци о своем беспокойстве. «Дорогой друг, – писал он. – Что означает ваше молчание? Надеюсь, вы не заболели. Пришлите весточку до Рождества».
Но Ференци не менялся. Страдая, он продолжал метаться от многоречивости к холодности. Так, 8 августа 1927 года Фрейд сообщал Эйтингону: «Теперь наша переписка оживилась», – а уже через две недели все снова вернулось на круги своя. «Переписка с Ф[еренци] опять внезапно прервалась. Откровенного говоря, – признавался Фрейд, – я его не совсем понимаю». Одна вещь, которую в конце концов понял мэтр или, по крайней мере, думал, что понял, – его поразительные инновации в технике психоанализа, которые Фрейд сначала приветствовал, а затем критиковал, были не просто профессиональными поисками, а выражением внутренней неудовлетворенности.
Ференци предоставил массу свидетельств в доказательство этого умозрительного диагноза. В 1925 году в типичном для себя письме он сообщал Фрейду: «Относительно своего здоровья я не могу (даже при всем желании) сказать ничего плохого». Как будто он хотел заболеть… В начале 1930-го Ференци написал Фрейду длинное письмо с жалобами на неприятные симптомы, в том числе на страх преждевременно состариться. В ноябре этого же года мэтр сообщал, что у него нет новостей от Ференци и он боится, что тот, «несмотря на все наши усилия, все больше и больше изолирует себя». Сам Ференци полностью осознавал свое состояние. «Вы прекрасно представляете, – писал он Фрейду в середине сентября 1931 года, – как трудно начать снова после такой длительной паузы. Но на протяжении вашей жизни, – умолял он, смешивая желания с надеждами, – вы сталкивались с таким количеством человеческих проявлений, что поймете и простите такое состояние, как погружение в себя». Он занят, объяснял Ференци Фрейду, довольно трудной внутренней и внешней научной работой очищения, которая пока не дала определенных результатов. Основатель психоанализа, обрадовавшись любой весточке от Ференци, ответил без промедления. «Наконец вы снова подали признак жизни и любви! – с теплотой восклицал он. – После такого долгого молчания!» Фрейд честно признался Ференци, что у него «не было сомнения, что вы, с учетом этих перерывов в общении, все больше отдаляетесь от меня. Я говорю и надеюсь: это не разрыв». Однако ответственность за поведение Ференци он на себя не брал: «Вы сами свидетельствуете, что я всегда уважал вашу независимость». Но такая независимость, намекал он, не должна достигаться ценой прекращения отношений.
После многих лет доброжелательных наблюдений Фрейд пришел к выводу об опасности инноваций Ференци и решил, что необходимо подчеркнуть их значение для техники психоанализа – в отличие от симптоматики. В конце концов, Ференци был давним и уважаемым членом международного психоаналитического движения, влиятельным, оригинальным и плодовитым автором. «Похоже, между пациентом-учеником и врачом-учителем обычно устанавливаются интересные симбиотические отношения, – писал Ференци Фрейду еще летом 1922-го. – Я, например, беру своих с собой в Баден-Баден». В конце 20-х годов он пошел значительно дальше этого относительно невинного подхода к переносу пациента. Ференци до конца не раскрывал Фрейду, что он делает во время сеансов, но от его пациентов, например от Клары Томпсон, мэтр узнал, насколько активно их аналитик любил своих пациентов и позволял им любить себя.
Наконец в конце 1931 года усиливающееся недовольство Фрейда в отношении экспериментов с нежными чувствами пациентов победило уважение к независимости Ференци, о котором он так часто заявлял. «Мне было очень приятно, как и всегда, получить от вас письмо, хотя о его содержании я не могу сказать того же самого», – строго выговаривал основатель психоанализа в четырехстраничном послании, посвященном единственному предмету – психоаналитической технике Ференци. Мэтр считал маловероятным, что тот изменит мнение относительно своих новшеств, однако сам полагал, что дорога, на которую ступил Ференци, не является правильной. Он не ханжа, заверял Фрейд, и не связан буржуазными условностями, но поведение Ференци с пациентами представляется ему путем к катастрофе. «Вы не скрывали от меня тот факт, что целуете своих пациентов и позволяете им целовать себя». Конечно, поцелуй можно рассматривать как ничего не значащий. В Советском Союзе, например, люди спокойно относятся к такого рода приветствию. Но это не отменяет тот факт, что мы живем не в России и у нас поцелуй означает несомненную эротическую близость. Общепризнанные правила психоанализа в этом отношении были тверды и недвусмысленны: пациентам следует отказывать в чувственном удовлетворении. «Материнская нежность» Ференци нарушала это правило. Фрейд полагал, что у того есть выбор: либо он прекращает подобную практику, либо публикует ее, причем второй вариант поощрит сторонников крайних взглядов перейти от поцелуев к более интимным ласкам. «Теперь представьте себе, каким будет результат опубликования вами своей техники». Если Ференци нравится брать на себя роль нежной матери, то он, Фрейд, изображая «жестокого отца», может лишь предупредить его, но боится, что предупреждение окажется тщетным, поскольку Ференци, похоже, склонен идти своей дорогой. «Потребность в явной независимости, как мне кажется, в вас сильнее, нежели вы это осознаете». По крайней мере, пишет в заключение Фрейд, свой отцовский долг он исполнил.
Ференци ответил не сразу, но в примирительном тоне. «Ваши опасения, что я превращаюсь во второго Штекеля, мне кажутся необоснованными». Техника, которую он разработал в начале 20-х годов, так называемая активная терапия, нацеленная на ускорение анализа, теперь казалась ему излишне аскетической, и он попытался сделать относительной жесткость запретов и уклонений во время сеанса психотерапии, создавая атмосферу, которая была спокойной, лишенной страстей. Ференци заключил, что, преодолев боль, вызванную строгим выговором мэтра, он надеется, что разные точки зрения не будут препятствовать их дружескому личному и научному согласию.
В начале января 1932 года Ференци начал вести, как он его сам называл, клинический дневник – важное личное наглядное собрание психоаналитических эпизодов, размышлений о теории и технике анализа, а также ремарок о Фрейде, одновременно проницательных и неуважительных. Этот дневник объемом почти 200 страниц, в котором Ференци делал записи до конца лета, представляет собой довольно слабую, местами излишне эмоциональную попытку честного изложения событий и самоанализа. Он продолжал свою мучительную дискуссию с Фрейдом другими средствами, пытаясь самому себе прояснить процедуры и понять свое место и звание в армии основателя психоанализа. Бо2льшая часть того, что написал Ференци, не стала бы для мэтра сюрпризом, но многое испугало бы даже его.
Дневник Ференци открывается заявлением о нечувствительности аналитика, придерживающегося классических методов, о его манерном приветствии, формальной просьбе говорить все, о его так называемом свободно плавающем внимании. Все это притворство. Оно оскорбляет пациента, снижает качество коммуникации и заставляет сомневаться в реальности своих чувств. Аналитический подход, который предложил Ференци и который он будет раз за разом использовать в последующие месяцы, наоборот, основывался на естественности и искренности психоаналитика. Такое отношение, которое Ференци культивировал на протяжении многих лет, позволяло ему выражать «сильную эмпатию» к пациентам, легко преодолевая все проблемы, порождаемые подобным дружелюбием. Он отмечал – упреки Фрейда имели под собой основания, – что некоторые из пациенток целовали его. Это действие Ференци не запрещал и затем анализировал с полным, по его словам, отсутствием аффекта. Однако… «в некоторых случаях страдания других и мои собственные выжимают слезы из моих глаз». Такие «эмоциональные» моменты, настаивал он, не следует скрывать от пациентов. В практике Ференци не осталось ничего от холодного, бесстрастного аналитика – хирурга души, – о котором Фрейд так убедительно писал перед Первой мировой войной, несмотря на то что сам мэтр проявлял больше эмоций, чем предполагали его суровые метафоры.
Клинический дневник Ференци содержит массу свидетельств, что он стремился превратить пациентов в полноправных партнеров. Он рекомендовал и применял так называемый взаимный анализ. Когда пациент заявлял о праве анализировать его, Ференци признавал существование у себя бессознательного и даже доходил до того, что раскрывал пришедшему к нему человеку подробности своего прошлого. Следует отметить, что сама процедура вызывала у него некоторую неловкость: пациенту не шло на пользу, если он узнавал, что другой пациент анализирует Ференци, или если психоаналитик рассказывал о себе больше, чем мог воспринять пациент. Однако он полагал, что смиренное признание перед пациентом своей слабости, своего травмирующего опыта и разочарований в конечном счете уничтожит у страдающего человека чувство подчиненности и отстраненности в отношении аналитика. «Фактически мы даруем пациентам удовольствие оттого, что они способны помочь нам и стать на какое-то время нашими аналитиками, что должным образом поднимает их самооценку».
Энергичное отрицание традиционной методики психоанализа по природе своей было глубже, чем просто вопрос техники. Страстное стремление Ференци к гармонии чувств, в буквальном смысле слова к слиянию с пациентами, являлось неотъемлемой частью мистического ощущения единства с природой, своего рода доморощенного пантеизма. Фрейд писал, что психоанализ нанес высокомерному, склонному к нарциссизму человечеству третий удар: Коперник изгнал его из центра Вселенной, Дарвин заставил признать родство с животными, а он, Фрейд, показал, что разум не является хозяином в собственном доме. «Возможно, – дополнил Ференци это знаменитое высказывание, – нас ждет четвертая «нарциссическая травма»: даже разум, которым мы, психоаналитики, так гордимся, вовсе не наша собственность, а должен восстанавливаться или регенерировать посредством ритмических эманаций «Я» в природу, которая одна лишь является всемогущей – и значит, разумной». Шандор Ференци излагал подобные размышления с некоторой осторожностью, но явно гордился ими. «Смелые предположения, касающиеся контакта индивидуума со всей природой, следует рассматривать не просто с той точки зрения, что это всезнание наделяет индивидуума особыми качествами, но (и это, возможно, самое парадоксальное из всего, что когда-либо было сказано) что такой контакт также оказывает очеловечивающее влияние на всю природу». Его «утопия» была «устранением импульсов ненависти, концом кровавой, мстительной череды жестокостей, постепенным приручением всей природы через понимание». Будущее психоанализа, предполагал Ференци, может помочь в достижении этой в высшей степени желанной цели: наступит время, когда все эгоистичные импульсы в мире, которые идут через мозг человека, будут обузданы. Ференци прекрасно понимал, что уходит с наезженной колеи. Строя свои теории, он признавался Георгу Гроддеку, с которым подружился, что его «научное» воображение – показательны ироничные кавычки вокруг слова «научное» – иногда побуждало уходить за пределы бессознательного к так называемому метафизическому.
Эта запутанная, отвлеченная метафизика никоим образом не повлияла на критическое мышление Ференци. Доверившись только своему дневнику, он анализировал некоторые слабости Фрейда с проницательностью, одновременно обострявшейся и искажавшейся давними и тщательно скрывавшимися обидами. Он представлял себя человеком, которого основатель психоанализа «буквально усыновил, вопреки формальным правилам, которые сам же установил». Ференци вспоминал слова мэтра, говорившего, что он, Шандор, был самым подходящим наследником его идей[288]288
Я не нашел независимых подтверждений этой претензии, хотя, как нам известно, в начале их дружбы Фрейд какое-то время мечтал о том, чтобы Ференци стал его зятем. Авт.
[Закрыть]. Но независимо от того, кому предстояло стать наследником, Ференци или Юнгу, Фрейд, похоже, был убежден, что после того, как «сын» будет готов занять отцовское место, «отец» должен умереть. Поэтому, считал Ференци, основатель психоанализа не может позволить своим «сыновьям» повзрослеть, но, как свидетельствуют его истерические приступы, сам он был обречен на регресс в детство – Ференци называл детской обидой чувство, которое испытывал мэтр, когда «подавлял свое американское тщеславие». Развивая эту мысль, Ференци предложил оригинальное толкование антиамериканизма Фрейда: «Возможно, его презрение к американцам есть реакция на собственную слабость, которую он не мог скрыть от нас и от себя: «Как я могу радоваться американским почестям, если я так презираю американцев»?»
Страх смерти у основателя их движения, утверждал Ференци, демонстрировал, что Фрейд-сын желал смерти своему отцу. И это побудило его к созданию теории эдипова комплекса, отцеубийства. Шандор Ференци был убежден, что на самом деле сосредоточенность мэтра на отношениях отца и сына подталкивала к преувеличениям. Вне всяких сомнений, Ференци – по собственному признанию, обожавший Фрейда, становившийся в его присутствии косноязычным, неохотно противоречивший ему, переполненный фантазиями о «наследном принце» – мог иметь свой, особый взгляд на такие отношения. И все же Ференци был в чем-то прав. Подобная сосредоточенность, утверждал он, придала сексуальной теории Фрейда «одностороннее андрофильное направление», заставила его пожертвовать интересами женщины в пользу мужчины, а также идеализировать мать. Ференци предположил, что наблюдение за откровенной сценой могло сделать Фрейда относительно импотентным. Желание сына «кастрации отца, мощное, являющееся реакцией на перенесенное унижение, ведет к созданию теории, в которой отец кастрирует сына». Сам Ференци, как свидетельствуют другие пассажи из его клинического дневника, работал над пересмотром теории основателя психоанализа об эдиповом комплексе. Он не сомневался в существовании инфантильной сексуальности, но был убежден, что взрослые – как правило, родители – слишком часто искусственно стимулируют ее, нередко своими «развратными действиями в отношении детей».
Ференци осознавал свое рабское преклонение перед Фрейдом. Не осмеливаясь открыто противостоять ему, он впадал в крайности в собственных экспериментах по технике лечения. Но теперь он был исполнен «человечности и естественности», а также доброй воли, чтобы «работать ради знания, то есть как помощник». Однако в этом безжалостном самоанализе Ференци не оставляет сомнений, что, ставя себя ниже мэтра, втайне мечтая оказаться его «великим визирем», он в конечном счете приходит к неутешительному выводу, что Фрейд «никого не любит, только себя и свою работу». Следствием этого является амбивалентность. Только освободив свое либидо от основателя психоанализа, заключил Ференци, он осмелился приступить к революционным инновациям техники – таким как «активность, пассивность, эластичность, возвращение к травме (Брейер)» в качестве причины неврозов. Самоанализ Ференци был пропитан горечью, однако он обманывал себя. Несмотря на все свои старания, Шандор Ференци все равно остался «сыном» Фрейда – одаренным богатым воображением, непослушным, страдающим.
Неудивительно, что все попытки Ференци минимизировать свои разногласия с Фрейдом, а также усилия мэтра удержать споры на научном уровне не помешали основателю психоанализа воспринимать клинические методы «сына» как скрытый, но совершенно определенный бунт против него – против отца. Долгие перерывы между письмами Ференци были слишком красноречивыми, чтобы их игнорировать. «Разве Ференци крест, который нужно нести? – спрашивал Фрейд Эйтингона весной 1932 года. – Опять от него несколько месяцев нет новостей. Он обиделся, потому что мы не очарованы его играми в мать и дитя со своими ученицами». В конце лета он более подробно выразил свое беспокойство по поводу Ференци в письме к Джонсу: «Вот уже три года я наблюдаю за его усиливающейся враждебностью, за его невосприимчивостью к предупреждениям, что он ступил на неверный технический путь, и что самое главное, за его личной неприязнью ко мне, к которой я определенно давал меньше поводов, чем в других случаях». Это был тревожный признак: Фрейд в частном порядке сравнивал Ференци с другими отступниками. Как и со всеми остальными, особенно с Юнгом, он теперь воспринимал враждебность Ференци как желание его, учителя, смерти. Возможно, Ференци так себя ведет потому, что «…я еще здесь». Скорее всего, предсказывал Фрейд летом 1932 года, он пойдет по пути Ранка. И эта перспектива мэтра явно не радовала.
Разногласия между ними усугубляли и другие спорные вопросы, которых было немало в те неспокойные дни. Ференци хотел стать президентом Международной психоаналитической ассоциации – он заслужил этот пост годами преданности делу и упорного труда. Фрейд же признался в своих сомнениях: почетная должность, заявил он Ференци, может «принудительно» излечить его от изоляции и технических отступлений от правил. Но от Ференци потребуется покинуть «остров мечты, на котором вы живете со своими воображаемыми детьми» и снова присоединиться к остальному миру, а это, указывал Фрейд, будет трудно. Ференци возражал против такой оценки: мэтр не должен использовать его выражения – «жизнь мечты», «грезы», «кризис пубертатного периода» – как свидетельства того, что из его «относительной путаницы» ничего полезного может не получиться. Это было в мае 1932 года. В середине августа Ференци решил, «после долгих мучительных колебаний», снять свою кандидатуру. Он сказал Фрейду, что слишком глубоко погружен в переосмысление своих клинических процедур и поэтому соглашаться на пост президента было бы абсолютно нечестно.
Фрейд, вернувшийся в водоворот психоаналитической политики, попытался смягчить ситуацию. Он заявил, что сожалеет о решении Ференци, и отказывался соглашаться с его доводами. Однако, заключил мэтр, Ференци лучше знает, как поступить. Две недели спустя, после того как президентом Международной психоаналитической ассоциации избрали Эрнеста Джонса, Фрейд писал ему уже совсем в другом тоне: «Мне очень жаль, что явное желание Ференци не получило удовлетворения, но я ни на секунду не сомневался, что только вы можете быть назначены руководителем». Хотя это заявление нельзя считать до конца откровенным – у Фрейда имелись свои опасения относительно Джонса, – оно все-таки отражает истинное мнение мэтра. Его скепсис по поводу Ференци не был ни новым, ни неожиданным. «Поворот Ференци, без сомнения, самое прискорбное событие», – отмечал он. Однако этот процесс идет, по его мнению, уже три года. Но Фрейд ошибался – все началось гораздо раньше.
«Поворот» Ференци включал возврат к тому, от чего основатель психоанализа отказался несколько десятилетий назад, – к теории совращения. Пациенты снабдили Ференци свидетельствами совращения и изнасилования в детстве, причем не придуманными, а реальными, и он намеревался исследовать эти откровения в докладе, который готовил для международного конгресса в Висбадене. 30 августа Ференци нанес визит Фрейду и настоял на том, что прочитает доклад ему. Конечно, бо2льшая часть услышанного не стала для мэтра новостью, но он был потрясен – как поведением Ференци, так и сутью его замечаний. Три дня спустя Фрейд отправил Эйтингону телеграмму с кратким вердиктом: «Ференци прочел доклад вслух. Безвредный, глупый и неадекватный. Впечатление неприятное».
Насколько оно было неприятным, становится ясно из длинного письма, которое Фрейд отправил дочери Анне 3 сентября, когда впечатления от встречи с Ференци оставались еще свежими. Супруги Ференци пришли к вечеру. «Она, как всегда, очаровательна; от него веет ледяным холодом. Не задав ни одного вопроса и не сказав ни слова приветствия, он приступил к делу: я хочу прочесть вам свой доклад. Так он и сделал, а я слушал, потрясенный. Он полностью вернулся к этиологическим взглядам, которых я придерживался и от которых отказался 35 лет назад: что основной причиной неврозов служат детские сексуальные травмы, – и выражал это буквально теми же словами, что и я тогда». Ференци, отметил Фрейд, ничего не сказал о технике, с помощью которой собрал этот материал. Если бы у мэтра был доступ к клиническому журналу Ференци, он увидел бы, что тот принимал на веру слова пациентов – как и сам Фрейд в середине 90-х годов XIX столетия. «Во время чтения, – продолжал основатель психоанализа, – Ференци предложил замечания относительно враждебности пациентов и необходимости принимать их критику и признавать перед ними собственные ошибки». Конечно, это была техника взаимного анализа, с которым Ференци уже некоторое время экспериментировал с усиливающейся страстью.
Фрейд был действительно потрясен. Доклад Ференци, писал он Анне, был путаным, туманным, искусственным. Примерно на середине доклада пришел Брилл, выяснил, что он пропустил, стал слушать дальше вместе с мэтром и прошептал ему: «Он неискренен». К такому же выводу, к своему глубокому сожалению, пришел и Фрейд. Мэтр вытянул у Ференци – как тот сам выразился – неуверенные, противоречивые комментарии по поводу отступлений от классической формулировки эдипова комплекса, спросил, как удалось получить от пациентов сведения, недоступные другим аналитикам, а также поинтересовался, почему он настаивал на том, чтобы прочитать доклад вслух. «Он хочет стать президентом», – сделал заключение Фрейд. Доклад, полагал он, мог только повредить репутации Ференци, изменив настроение конгресса. «То же самое, что с Ранком, только гораздо печальнее». В конце августа он уже говорил об этом Эйтингону. Конечно, последний полет фантазии Ференци не мог удивить ни Фрейда, ни его дочь. «В конце концов, – отмечал мэтр в своем письме Анне, – ты уже слышала часть этого доклада и можешь судить о нем сама». Основатель психоанализа и его сторонники усиленно отговаривали Ференци от чтения доклада на конференции, но тот настаивал. Он приехал в Висбаден, выступил с докладом и увидел его опубликованным в журнале Internationale Zeitschrift, хотя и без перевода на английский язык в International Journal of Psychoanalysis. Язвительные замечания относительно содержания доклада и попыток предотвратить его публичное чтение не умолкали довольно долго. Все это должно было сильно расстраивать Фрейда, напоминая письма от вдовы Флисса больше четырех лет назад: сие было возрождение старой, мучительной истории, от которой, как считал мэтр, он избавился раз и навсегда.
Вне всяких сомнений, основатель психоанализа понимал, что все симптомы Ференци были невротическими посланиями от «рассерженного сына». «К сожалению, – писал он Эрнесту Джонсу в середине сентября 1932 года, – складывается впечатление, что за его регрессивным интеллектуальным и эмоциональным развитием стоит физический распад. Его мудрая жена сказала мне, что я должен думать о нем как о больном ребенке». Месяц спустя он сообщил Эйтингону, что врач диагностировал у Ференци злокачественную анемию. Фрейда очень беспокоило физическое и душевное состояние пылкого и некогда высоко ценимого друга, и он не хотел ускорять разрыв. В декабре мэтр, вероятно, с удовольствием отвлекся, переключившись с путаницы с выборами президента на давние признания. Он прочитал только что опубликованное исследование французского сюрреалиста Андре Бретона «Сообщающиеся сосуды», в котором тот отметил – справедливо, – что, анализируя собственные сны, Зигмунд Фрейд отбрасывал сексуальные мотивы, которые нашел в сновидениях других. Мэтр немедленно отверг обвинение и заявил, что полное изложение его снов потребует неуместных откровений об отношении к отцу. Бретон с этим оправданием не согласился, и их переписка угасла.
В любом случае ничто не могло надолго отвлечь Фрейда от Ференци. В январе 1933 года, отвечая на сердечное новогоднее поздравление Шандора, он вспоминал нежную общность жизни, чувств и интересов, которая некогда их объединяла, общность, теперь нарушенную какой-то психологической катастрофой. Затем письма из Будапешта перестали приходить – Ференци боролся с болезнью. В конце марта мэтр получил примирительное и самокритичное послание. Ференци обещал покончить с «детской обидой» и сообщал, что злокачественная анемия вернулась и он медленно восстанавливается после чего-то вроде нервного срыва. Встревоженный, Фрейд ответил в заботливом, отеческом тоне. Он призывал Ференци, уже безнадежно больного, получше следить за собой. Бурное обсуждение расхождений в вопросах теории и техники может подождать. Это было последнее письмо Фрейда к старому другу. На следующий день он сообщил Эйтингону, что у Ференци «сильный приступ бреда», хотя он, кажется, пошел на поправку. Но улучшение оказалось обманчивым. Шандор Ференци диктовал свое письмо 9 апреля, а 4 мая отправил весточку Фрейду со своей женой Гизелой. 22 мая он умер.
Несколько дней спустя в своем необычном ответе на соболезнования Эрнеста Джонса мэтр смешал скорбь и анализ, причем анализ стоял на первом месте. «Наша потеря, – писал он, – велика и тяжела». Ференци унес с собой часть старого времени, а остальная часть исчезнет после того, как сцену покинет и он, Фрейд. Но потеря, прибавил мэтр, «на самом деле не нова. Уже много лет Ференци был не с нами, и на самом деле даже не с самим собой. Теперь можно яснее увидеть медленный процесс разрушения, жертвой которого он стал. Его органическим проявлением стала злокачественная анемия, которая вскоре дополнилась серьезными нарушениями моторики». Лечение дало лишь ограниченный эффект. «В последние недели он совсем не мог ходить или стоять. Одновременно с необъяснимой логической последовательностью развивалась психическая дегенерация, которая приняла форму паранойи». Последняя была неизменно направлена на него – учителя. «Ее основой была убежденность, что я недостаточно его любил, не хотел оценить его работу и что я плохо выполнил его анализ». Это, в свою очередь, объясняло печально известные клинические эксперименты Ференци. Как уже на протяжении нескольких лет говорил он, Фрейд, «технические инновации» Шандора были связаны с его чувствами к нему, учителю. «Он хотел показать мне, с какой любовью следует относиться к пациентам, если хочешь им помочь. На самом деле это была регрессия к детским комплексам, когда самой большой травмой для него стал тот факт, что мать, как ни странно, не любила его, среднего сына из 11 или 13 детей. И поэтому он сам стал лучшей матерью и нашел детей, в которых нуждался». Одна из бредовых идей Шандора заключалась в том, что его американская пациентка, которой он посвящал четыре или пять часов в день, по возвращении в Соединенные Штаты влияла на него через океан посредством душевных вибраций и этим спасла его[289]289
Эрнест Джонс повторяет рассказ Фрейда или, возможно, опирается на независимый источник, который не указывает. По его свидетельству, Ференци рассказывал, как одна из его американских пациенток, которой он имел обыкновение посвящать четыре или пять часов в день, проанализировала его и тем самым излечила от всех недугов. Более того, она сделала это с помощью телепатии, через Атлантический океан. (См.: Jones III, 178.) Личный дневник Ференци усиливает правдоподобность этого описания его душевного состояния, но прямо его не подтверждает. Ференци там сообщает о своей пациентке, которая была настолько «сверхчувствительна», что «способна посылать «телефонные сообщения» на очень большие расстояния. (Она убеждена в возможности лечения на расстоянии посредством концентрации воли и мысли, но особенно симпатии.)» (7 июля 1932 года. Klinisches Tagebuch. Freud Collection, B22, LC.) Но Ференци не утверждал, что во все это верит. Авт.
[Закрыть]. «Таким образом, он играл обе роли, матери и ребенка». Рассказы пациентки о детских травмах Ференци принимал за чистую монету. Именно в таких «аберрациях», печально заключил Фрейд, погиб его некогда блестящий ум. «Но, – закончил он призывом к сдержанности, – пусть этот печальный конец останется нашей тайной»[290]290
В своем жизнеописании Фрейда Джонс опубликовал только первую, уважительную часть письма (См.: Jones III, 179) и опустил аналитическую. Поэтому никто не знал, что описание душевного состояния Ференци (которое воспринималось как отражение зависти и ревности к аналитику, оказавшемуся ближе Фрейду, чем он сам) на самом деле почти слово в слово повторяет диагноз мэтра. Авт.
[Закрыть].
Со смертью Ференци освободился пост вице-президента Международной психоаналитической ассоциации, и Фрейд предложил кандидатуру Мари Бонапарт, не «только потому, что она может представить себя в выгодном свете», но и потому, что «она человек исключительного ума, мужской работоспособности, написала превосходные работы, всецело предана нашему делу и, как нам хорошо известно, может оказать материальную поддержку. Теперь ей исполнится 50 лет, и она, наверное, будет постепенно отходить от личных интересов и погружаться в аналитическую работу. Мне нет нужды говорить о том, что она одна поддерживает единство ф[ранцузской] группы». Более того, Мари не имеет медицинского образования, и приглашение непрофессионала на такой высокий пост будет «недвусмысленной демонстрацией против неуместной заносчивости врачей, которые хотят забыть, что психоанализ все-таки не является частью психиатрии».
Это письмо к Джонсу читается как небольшой манифест старого человека, бросающего вызов судьбе. За последние 10 лет Фрейду пришлось пережить ужасные потери: ушли его дочь Софи, внук Хейнеле, партнеры по игре в тарок и последователи из числа психоаналитиков, от Абрахама до Ференци, а также – хотя и в другом смысле – Ранк. Сам он страдал от рака. Мир сходит с ума, но это не причина, чтобы перестать анализировать. И не причина отказываться от такого убежища, как язвительный юмор. Фрейд напоминал увязшую в клее птицу из знаменитого стихотворения Вильгельма Буша, поэта-юмориста и иллюстратора, которого он так любил цитировать. Птица тщетно пытается освободиться, а черный кот, предвкушающий легкую добычу, подкрадывается все ближе. Видя, что конец неизбежен, птица решает в последние секунды жизни петь и веселиться. «У птички юмор, видно, есть», – резюмирует Буш. Да уж, Der Vogel, scheint mir, hat Humor. Как есть юмор и у Фрейда, хотя он все чаще сомневался, стоит ли тратить на это силы.