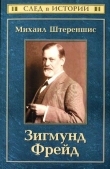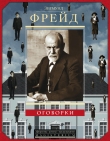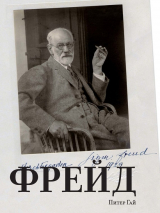
Текст книги "Фрейд"
Автор книги: Питер Гай
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 81 страниц)
Возможно, ни одна работа Фрейда, посвященная искусству, с такой яркостью не отражает их навязчивый характер, как статья о «Моисее» Микеланджело, опубликованная в 1914 году. Он в восхищении стоял перед этой гигантской статуей во время первого пребывания в Риме в 1901-м и никогда не уставал удивляться ее загадочности и красоте. Никакое другое произведение искусства не производило на мэтра такого сильного впечатления. В 1912 году, во время очередного отпуска в Вечном городе, он сообщал жене, что ежедневно приходит к «Моисею» и думает, что может написать о нем несколько слов. Как выяснилось, Фрейд очень гордился этими несколькими словами, которые он действительно написал, хотя и опубликовал их в журнале Imago под псевдонимом «***». Абрахам вполне резонно удивлялся, зачем понадобилась сия анонимность: «Неужели вы думаете, что никто не узнает коготь льва?» Фрейд между тем продолжал называть эту статью «дитя любви». В марте 1914-го, когда «Моисей» Микеланджело» только что вышел из печати, основатель психоанализа все еще сомневался и писал «дорогому Джонсу», что, «возможно, было бы лучше публично не признавать этого ребенка». Статья так и оставалась непризнанной на протяжении 10 лет… Тем не менее Фрейд ценил ее не меньше, чем статую, анализу которой она была посвящена. В разгар работы мэтра над статьей в Рим приехал Эрнест Джонс. Незадолго до этого Фрейд писал ему: «Я завидую вам, что скоро вы увидите Рим, да еще в таком молодом возрасте. Передайте мое глубокое почтение «Моисею» и напишите мне о нем». Джонс, всегда откликавшийся на просьбы, не преминул воспользоваться случаем. «Мое первое паломничество на следующий день после приезда, – писал он Фрейду, – состояло в том, чтобы передать ваш привет «Моисею», и мне кажется, что он высокомерно выпрямился, совсем чуть-чуть. Удивительная статуя!»
Больше всего в массивной работе Микеланджело Фрейда интриговало именно то, что и должно было интриговать. При каждом визите в Рим он приходил к «Моисею», причем специально. «В 1913 году в течение трех одиноких сентябрьских недель, – вспоминал он, – я ежедневно стоял в церкви перед статуей, изучал ее, измерял, рисовал, до тех пор пока ко мне не пришло понимание того, что я осмелился лишь анонимно изложить на бумаге». «Моисей» идеально подходил для возбуждения любопытства основателя психоанализа. Статуя уже давно вызывала восхищение и разного рода гипотезы. На лбу у монументальной фигуры имеются мифические рога, символизирующие сияние, которое исходило от лица Моисея после его встречи с Богом. Микеланджело, склонный к героике и преувеличению, изобразил Моисея решительным, мускулистым, властным стариком с длинной ниспадающей бородой, которую он поддерживает левой рукой и указательным пальцем правой. Моисей сидит и, нахмурившись, сурово смотрит влево, прижимая к себе скрижали Завета правой рукой. Фрейда занимала следующая проблема: какой именно момент решил изобразить Микеланджело? Основатель психоанализа с удовольствием процитировал историка искусства Макса Зауерландта, который отметил: «Ни о каком другом произведении мирового искусства не было высказано таких противоречивых мнений, как об этом «Моисее» с головой Пана. Даже несложный анализ фигуры вызывает крайние точки зрения». Напряженные ноги Моисея свидетельствуют о только что начавшемся или закончившемся движении. Но что делает Моисей: встает или только что сел? Эту загадку Фрейд считал себя обязанным разгадать. Изобразил ли Микеланджело Моисея как вечный символ законотворца, который видел Господа, или пророк показан в минуту гнева на свой народ, готовый разбить скрижали, принесенные с горы Синай?
В 1912 году Фрейд привез домой маленькую гипсовую копию статуи Моисея, однако еще не был готов изложить свои идеи в статье. Еще больше осложнил ему задачу Эрнест Джонс. «Джонс прислал мне фотографии статуи работы Донателло во Флоренции, – писал мэтр Ференци в ноябре, – которые значительно поколебали мою точку зрения». Фотографии предполагали возможность того, что Микеланджело вырезал свою статую, повинуясь скорее художественным, чем эмоциональным потребностям. В конце декабря 1912-го, благодаря Джонса за помощь, Фрейд почти робко просил его об одолжении: «Позвольте мне попросить вас еще кое о чем… это более чем нескромно… понимаете, мне нужна репродукция… даже рисунок поразительного нижнего контура скрижалей, которые изображены в моем письме». Он объяснил, что имеет в виду, при помощи неумелого, но вполне понятного маленького рисунка нижних краев скрижалей Завета. Джонс с готовностью откликнулся на просьбу. Он понимал, как много значат детали.
Обдумывая статью о «Моисее» и делая для нее заметки, Фрейд продолжал сомневаться. В августе 1913 года он отправил Ференци из Рима открытку с изображением загадочной статуи, а в сентябре писал Эрнесту Джонсу: «Я снова посетил старика Моисея и утвердился в своем объяснении его позы, но кое-что в сравнительном материале, который вы для меня собрали, пошатнуло мою уверенность, которая еще не восстановилась». В начале октября он сообщал из Вены, что только что вернулся, «все еще немного больной от прелести 17 дней в Риме». Но даже в феврале 1914 года основатель психоанализа не был уверен в себе: «В деле с «Моисеем» я снова начинаю сомневаться».
Как и следовало ожидать, Фрейд предложил собственное толкование. За исключением нескольких историков искусства, которые рассматривали статую Микеланджело как бессмертный памятник величию, большинство считали, что она олицетворяет затишье перед бурей: увидев, что сыны Израиля поклоняются золотому тельцу, Моисей готов обрушить на них свой гнев и разбить скрижали. Но Фрейд, внимательно изучив детали, в частности положение правой руки пророка и самих скрижалей, пришел к выводу, что Микеланджело хотел изобразить Моисея, который сдерживает внутреннюю бурю, и не преддверие вспышки гнева, а «следы подавленного движения». Фрейд прекрасно сознавал, что его интерпретация противоречит Библии, ведь, как сказано в Книге Исход, Моисей в ярости разбил скрижали. Однако и этот источник не мог изменить окончательный вывод основателя психоанализа. Его Моисей – это очень человечный Моисей, который, подобно Микеланджело, был подвержен приступам гнева и в этот важный момент мужественно сдерживает себя. Таким образом, Микеланджело «установил своего «Моисея» в гробнице папы как упрек умершему и предостережение самому себе, благодаря критике возвышаясь над собственной природой».
Очень похоже, что, анализируя личность Микеланджело, мэтр анализировал самого себя. По всей видимости, его жизнь была постоянной борьбой за самодисциплину, за контроль над своими творческими порывами и своим гневом – гневом на врагов и (его еще труднее сдерживать!) на тех своих сторонников, которые принесли мало пользы или оказались нелояльными[164]164
Как мы увидим дальше, этот гнев имел также и бессознательную основу, скорее всего обусловленную его разочарованием из-за постепенной утраты привилегированного положения как единственного ребенка матери, по мере того как Амалия Фрейд дарила своему первенцу братьев и сестер. Авт.
[Закрыть]. «Моисей» Микеланджело произвел впечатление на Фрейда при первом же «знакомстве», в 1901 году, однако основатель психоанализа не рассматривал статую как объект для истолкования вплоть до 1913-го, когда стал рушиться его союз с Юнгом. Статью «Моисей» Микеланджело» Фрейд написал в конце 1913 года, перед началом работы над историей психоаналитического движения – «бомбой», которую мэтр намеревался бросить в Юнга и Адлера. В этой полемике он будет сдерживать – с большим трудом – свою ярость, чтобы добиться результата[165]165
«На зиму 1913/14 года, после неудачного Мюнхенского конгресса в предыдущем сентябре, пришелся пик конфликта с Юнгом. «Моисей» Микеланджело» был написан в том же месяце, что и длинные очерки, в которых Фрейд объявил о серьезности своих расхождений с Юнгом («Введение в нарциссизм» и «Об истории психоаналитического движения»), и не подлежит сомнению, что в то время он чувствовал горькое разочарование из-за отступничества Юнга. Потребовались немалые усилия, чтобы сдержать свои эмоции и спокойно сказать то, что, как он считал, следовало сказать. Невольно приходишь к очевидному заключению, что в то время, а возможно и раньше, Фрейд отождествлял себя с Моисеем и старался повторить ту победу над чувствами, которую Микеланджело изобразил в своем великом произведении». (Jones II, 366–367.) Авт.
[Закрыть]. Но, чувствуя себя бесконечно усталым, Фрейд не был уверен, удастся ли ему сохранить железное самообладание, которое он приписывал любимой статуе. В октябре 1912 года он писал Ференци: «В теперешнем настроении я сравниваю себя скорее с историком, чем с «Моисеем» Микеланджело, которого я проанализировал». Таким образом, главная цель его экскурса в историю искусства состояла в том, чтобы научиться подражать мудрому государственному мужу, изображенному Микеланджело, а не импульсивному лидеру, несдержанный характер которого так ярко описан в Книге Исход. Только такая биографическая интерпретация может объяснить ежедневные визиты Фрейда к статуе Микеланджело, его тщательные измерения, подробные рисунки, изучение монографий – все это немного несоразмерно результату, который в лучшем случае будет всего лишь иллюстрацией к психоаналитическому толкованию искусства. Тем не менее многие часы перед «Моисеем» Микеланджело провел не только Фрейд-политик, стремившийся к самодисциплине. Это был также неутомимый исследователь, который просто не мог отказаться от искушения разгадать загадку, прочно засевшую у него в голове.
Зигмунд Фрейд ограничил свои соображения в области эстетики статьями и монографиями. Раскрытие тайн художественного творчества, к которому призывал Макс Граф во время одного из собраний по средам в конце 1907 года, в работах мэтра так и осталось незавершенным. Неудача в значительной степени объяснялась личными причинами. Как мы знаем, отношение Фрейда к людям искусства было неоднозначным. «Я часто с изумлением спрашивал себя, – писал он Артуру Шницлеру, благодаря за поздравление с 50-летием, – откуда вы взяли то или иное тайное знание, которое я приобрел путем напряженных исследований». Это звучит очень возвышенно, но слова благодарственного письма не стоит принимать за истину в последней инстанции. Тем не менее на протяжении многих лет Фрейда мучила загадка писателя, который как будто без всяких усилий проникал в психологию человека. Это был тот самый интуитивный, ничем не ограниченный дар воображения, который основатель психоанализа считал необходимым выработать у себя самого.
Личный характер трудностей подчеркивал тот факт, что способность художника очаровывать вызвала раздражение Фрейда еще много лет назад, когда он ухаживал за Мартой Бернайс. Нетерпеливый и властный, он был охвачен ревностью к двум молодым соперникам, людям искусства, и заявлял, что существует общая враждебность между художниками и теми, кто вовлечен в детали научной работы. С нескрываемой завистью он писал о поэтах и художниках: «…их искусство дает им ключ к женским сердцам, в то время как мы стоим беспомощными перед этой цитаделью и должны сперва помучиться, пока подберем к ней подходящий ключ». Иногда замечания Фрейда относительно поэтов выглядят как месть ученого художнику. Черепаха ругает зайца. Тот факт, что сам мэтр не был лишен определенных художественных амбиций, о чем убедительно свидетельствует его литературный стиль, лишь усиливал зависть к людям искусства.
Тем не менее письмо к Шницлеру показывает, что эта зависть соседствовала с восхищением. Несмотря на то что Фрейд всегда описывал художника как невротика, ищущего компенсации за неудачи в реальном мире, он безусловно признавал за ним необычный талант к психоанализу. Проанализировав «Градиву», небольшой роман немецкого драматурга Вильгельма Йенсена, впервые опубликованный в 1903 году, Фрейд отправил автору экземпляр своей статьи. Йенсен вежливо ответил, что принимает его толкование, но в то же время твердо дал понять, что до написания романа не был знаком с теорией психоанализа. Как же он тогда мог «проанализировать» придуманные для «Градивы» персонажи и составить сюжет романа в буквальном смысле слова как психоаналитическое исцеление? Фрейд разрешил поставленную перед собой загадку следующим образом: «Вероятно, мы – писатель и психоаналитик – черпаем из одного и того же источника, обрабатывая один и тот же объект, каждый из нас разными методами». Если аналитик наблюдает за бессознательной частью психики пациента, то писатель рассматривает собственное подсознание и облекает сделанные открытия в экспрессивную форму. Таким образом, писатель и поэт являются психоаналитиками-любителями, которые в своих лучших произведениях проникают в психику человека так же глубоко, как и профессионал. Похвала Фрейда абсолютно искренна, но это похвала художнику как психоаналитику.
Несмотря на то что психоаналитические исследования высокой культуры Фрейдом оставались фрагментарными, они затрагивали три главных аспекта эстетического опыта – психологию главных действующих лиц, психологию аудитории и психологию создателя. Эти аспекты неизбежно переплетаются и усиливают друг друга. Таким образом, психоаналитик может прочитать «Гамлета» как эстетический артефакт, в котором требует анализа главный герой, преследуемый неразрешенным эдиповым комплексом, увидеть его как ключ к комплексам широкой аудитории, глубоко тронутой трагедией, в которой люди узнают свою тайную историю[166]166
«Каждый слушатель, – писал Фрейд Флиссу в знаменитом письме от 15 октября 1897 года, – когда-то был эмбрионом и однажды бывал кем-то вроде Эдипа в своих фантазиях» (Фрейд Флиссу, 15 октября 1897. Freud – Fliess, 293 [272]). Авт.
[Закрыть], а также как косвенное свидетельство эдиповой драмы самого автора, неразрешенное эмоциональное противоречие, с которым он все еще борется[167]167
Ему в голову пришла мысль, писал Фрейд Флиссу, что нечто, подобное бессознательному эдипову комплексу, «…может лежать и у истоков «Гамлета». Я не думаю, что у Шекспира были на этот счет какие-то сознательные соображения, но убежден, что, скорее всего, к написанию этой трагедии его побудило собственное бессознательное, растревоженное смертью отца» (Фрейд Флиссу, 15 октября 1897. Freud – Fliess, 293 [272]). Авт.
[Закрыть]. Другими словами, психоаналитическое исследование Гамлета, придуманного персонажа, который восхищал и озадачивал многих исследователей, могло пролить свет на его самые тайные побудительные мотивы, его удивительное воздействие на почитателей на протяжении многих веков, а также на внутреннюю жизнь автора. Подобное исследование предполагало гораздо более внимательное и тонкое прочтение трагедии, чем это было доступно предыдущим толкователям, особенно критикам из числа формалистов, которые, как афористично выразился Эйтингон, «боялись содержания, а также сил, которые определяли это содержание».
Тем не менее противники фрейдовской эстетики вскоре возразили, что психоаналитическая критика страдает прямо противоположным недостатком – тенденцией к игнорированию мастерства, формы и стиля в угоду содержанию. Упорный поиск скрытого смысла в поэме, романе или картине, которым занят психоаналитик, обычно заставляет его уделять повышенное внимание сюжету, повествованию, метафоре и характеру, игнорируя тот факт, что продукт культуры является порождением талантливых и умелых рук, а также традиции, которой художник может следовать, но и которую он может изменять или решительно отбрасывать. Поэтому удовлетворительное, полное толкование произведения литературы или искусства, скорее всего, не будет таким гладким, как предполагают психоаналитические формулировки. Но Фрейд был уверен: «…анализ позволяет нам предположить, что огромное, поистине неистощимое богатство проблем и ситуаций, с которыми имеет дело наделенный воображением писатель, можно проследить к небольшому числу первичных мотивов, которые по большей части обусловлены вытесненным эмпирическим материалом из психической жизни ребенка, и поэтому творческие произведения соответствуют новым редакциям этих детских фантазий, замаскированным, приукрашенным, вытесненным».
Таким образом, главным искушением для психоаналитической критики были поверхностные аналогии между произведением и его создателем. Анализ художников, а также аудитории произведений искусства угрожал – даже в опытных и осторожных руках – скатиться к редукционизму[168]168
«Клинический анализ творческих личностей, – писал психоаналитик и историк искусства Эрнст Крис, – предполагает, что жизненный опыт художника иногда лишь в ограниченном смысле является источником его фантазии; таким образом, его способность вообразить конфликты может значительно превосходить его собственный опыт, или, если выразиться точнее, по крайней мере некоторые художники обладают особым даром обобщения своего опыта». Например, попытки обнаружить Шекспира, скажем, в Фальстафе или в принце Хэле были бы тщетными и «противоположны тому, на что, по всей видимости, указывает клинический опыт работы с художниками как объектами психоанализа. Некоторые великие художники, похоже, чрезвычайно близки к части своих персонажей и могут воспринимать их как часть самого себя. Художник создавал мир, а не предавался мечтам» (Kris E., Psychoanalytic Explorations in Art [1952], 288). Авт.
[Закрыть]. Фрейдист мог посчитать абсолютно очевидным, что Шекспир должен был пережить эдипов комплекс, который он так убедительно показал в своей пьесе. Разве он не человек? Разве у него не течет кровь, когда он поранится? Но правда заключается в том, что драматургу не обязательно в полной мере разделять чувства, которые он так увлекательно изображает. А эти чувства, скрытые или явные, не обязательно должны будить те же чувства у публики. Катарсис, как должно быть известно психоаналитику, формирует не имитацию, а избыточность: чтение насыщенного насилием романа или просмотр кровавой трагедии может вызывать отвращение, а не возбуждать злобу. В работах Фрейда встречаются намеки – не более того! – что он видел эти сложности, но его взгляды на искусство не только открывали широкие перспективы, но и поднимали проблемы, уже не столь приятные.
В целом читателей Фрейда раздражало не столько его двойственное отношение к художнику, сколько самоуверенные суждения об искусстве. Вероятно, самым спорным из его предположений была гипотеза, что литературных персонажей можно анализировать, как реальных людей. Большинство литературоведов опасались таких попыток: действующее лицо романа или пьесы, утверждали они, не реальное человеческое существо с реальной психикой, а ожившая кукла, которой дал фальшивую жизнь автор произведения. Гамлет не существовал ни до пьесы, получившей его имя, ни вне ее. Исследовать состояние психики этого персонажа, предшествовавшее его первой речи, или анализировать его чувства, словно он лежащий на кушетке пациент, – значит путать такие категории, как фантазия и реальность. Тем не менее не утративший присутствия духа Фрейд храбро ступил в это болото – стал исследовать «Градиву» Йенсена. Он сообщал Юнгу, что писал эту работу «в светлые деньки» и она доставила ему величайшее удовольствие. «Конечно, она не дает нам ничего нового, но я убежден, что она позволяет нам наслаждаться нашим богатством». Анализ Фрейда превосходно иллюстрирует, чего может достичь такая разновидность литературного психоанализа и с какими опасностями она сталкивается.
Главный герой «Градивы» Йенсена, Норберт Ганольд, занимается раскопками, он археолог. Скорее всего, именно профессия Ганольда и его специализация, Италия, первоначально привлекли внимание Фрейда к роману. Но у «Градивы» были и психологические аспекты, которые могли заинтересовать основателя психоанализа. Ганольд – замкнутый и немногословный человек, продукт северного климата, который обретет ясность и чисто фрейдистское исцеление посредством любви на высушенном солнцем юге, в Помпеях. Он подавляет воспоминания о девушке, Цоё Бертганг, с которой вырос и к которой был нежно привязан. В римском собрании древностей Ганольд увидел барельеф с изображением красивой молодой женщины и уловил ее необычную походку. Археолог называет ее Градивой, что означает «идущая вперед», и вешает гипсовую копию барельефа на видном месте – на стене своего кабинета. Впоследствии Фрейд поместит собственную гипсовую копию «Градивы» в кабинете, где он принимал пациентов.
Поза молодой женщины завораживает Ганольда, поскольку – хотя тот этого еще не осознает – напоминает ему девушку, которую он любил, но потом «забыл», чтобы полностью посвятить себя непубличной, отдаляющей от людей профессии. Ему снится сон, в котором он видит Градиву в день гибели Помпей, и у него возникает запутанная череда фантазий о ней. Ганольд оплакивает ее гибель, словно она его современница, а не одна из тысяч жертв, нашедших смерть в лаве Везувия почти две тысячи лет назад. «Вся его наука, – замечает Фрейд на полях своего экземпляра «Градивы» Йенсена, – на службе ф[антазии]». Под впечатлением непонятных чувств и необъяснимых побуждений Ганольд приезжает в Помпеи, где встречает Градиву и словно переносится в тот роковой день в 79 году до нашей эры, когда начал извергаться Везувий. Но видение превращается в реальность – разумеется, это любовь его юных лет.
Ганольд не имел никакого опыта в общении с женщинами – Фрейд на полях книги отмечает его «с[ексуальное] вытеснение» и «асексуальную атмосферу», в которой он живет, – но его Градива, к счастью, не только красива, но и сообразительна. Цоё, «источник» его недомогания, также становится средством исцеления. Распознав суть бреда Ганольда, она возвращает ему рассудок, отделив фантазии от действительности. Девушка ходит перед ним, имитируя Градиву с барельефа. Это и становится ключом к лечению: неповторимая походка позволяет вытесненным воспоминаниям о ней вернуться в сознание Ганольда.
Это был психоанализ посредством археологии. Одним из двух эпизодов «Градивы», против которых Фрейд на полях пометил «прекрасно» – schön, – оказалось мудрое высказывание героини, напомнившее его любимую метафору. «Кто-то должен вначале умереть, чтобы стать живым», – подумала девушка. Но, прибавила она, «для археологов это необходимо»[169]169
Как нам известно, он сравнивал свою технику лечения с раскопками погребенного города еще в 1895 году, обсуждая историю болезни своей пациентки Элизабет фон Р. (См.: Studies on Hysteria, SE II, 139.) Другой эпизод, который Фрейд отметил восклицанием «прекрасно!», свидетельствует о его сильных антирелигиозных чувствах: «Если спасение [Ганольду] принесла вера, ему пришлось повсюду сталкиваться со значительным количеством непонятных вещей» (Gradiva, 140. Freud Museum, London). Авт.
[Закрыть]. В своем экземпляре романа Фрейд снова обращается к этой метафоре: «В самом деле, для вытеснения, которое делает недоступным и одновременно консервирует нечто психическое, нет лучшей аналогии, чем погребение, ставшее судьбой Помпей и откуда город с помощью заступа и лопаты опять восстал»[170]170
Спустя почти три года Фрейд объяснял «человеку с крысами» работу вытеснения на этом же примере. Авт.
[Закрыть]. «Градива» демонстрирует триумф не только вытеснения, но и избавления от него. Факт излечения Ганольда молодой женщиной снова доказывает «целительную силу любви». Читая небольшую по объему книгу с карандашом в руке, Фрейд ясно дает понять чувственную основу этой любви. «Эротический интерес к ногам», – отмечает он напротив эпизода, когда Ганольд смотрит на туфли Цоё, а рядом с последним абзацем, в котором Йенсен заставляет своего героя попросить девушку пройтись перед ним и она с улыбкой соглашается, основатель психоанализа пишет: «Эротично! Принятие фантазии; примирение».
У Фрейда были некоторые сомнения относительно своего обращения с фантазией Йенсена. В конце концов, он анализировал и истолковывал «сновидения, которые вообще никто никогда не видел во сне». Основатель психоанализа изо всех сил старался тщательно штудировать роман Йенсена: он добросовестно делал пометки, читая три сна Ганольда и их последствия, словно на кушетке перед ним лежит очередная Дора, он обращал внимание на сопутствующие чувства героя, такие как тревога, агрессивные мысли и ревность; он отмечал неопределенности и двусмысленности, а также внимательно следил за ходом «лечения» по мере того, как Ганольд постепенно учился отличать бред от действительности. И все-таки заканчивает свою работу Фрейд благоразумным напоминанием: «Но здесь мы должны остановиться, иначе в самом деле забудем, что Ганольд и Градива – всего лишь творения художника».
Как бы то ни было, эти сомнения не остановили ни мэтра, ни его сторонников. Пренебрегая опасностями, психоаналитики тех лет не видели причин отказывать культуре в месте на кушетке. Конечно, их действия за пределами клинической работы с невротиками вызывали некоторый интерес у специалистов по эстетике, литературных критиков и кураторов выставок и способствовали переоценке взглядов практически во всех областях, куда вторгался Фрейд. Но если сам он предпочитал рассматривать свои рассуждения о снах и о творческом воображении писателей как «экскурсии в области, которых мы до сих пор едва касались и в которых можно устроиться с комфортом», то большинство специалистов пришли к мысли, что основатель психоанализа слишком заботится о своем комфорте.
У критиков мэтра имелись некоторые основания для беспокойства: наделенные творческим воображением художники, эти самые обожаемые из человеческих существ, в некоторых психоаналитических исследованиях представлялись всего лишь ловкими невротиками с хорошо подвешенным языком, которые обманывали доверчивый мир своими хитрыми выдумками. Исследования самого Фрейда, хотя и очень амбициозные, вряд ли можно назвать лестными. Основатель психоанализа просто не обсуждал «творческие способности» наделенных воображением художников, а также ограничивал их роль в культуре. Выдавая секреты общества, эти творцы лишь чуть лучше уполномоченных сплетников и годны только на то, чтобы снимать напряжение, накопившееся в общественном сознании. Фрейд рассматривал создание произведений литературы и искусства, а также их потребление как обычные человеческие занятия, не признавая за ними особого статуса. И совсем не случайно он назвал приятное чувство, получаемое от просмотра, чтения или прослушивания произведения искусства, термином – преддверие наслаждения, – позаимствованным у самого земного из удовольствий. По его мнению, эстетическая работа, подобно любви и войне, законам и установлениям, является способом подчинения мира или сокрытия своей неспособности его подчинить. Разница заключается в том, что романы и картины скрывают свои чисто утилитарные цели за искусно выполненными и зачастую неотразимыми декорациями.
При этом Фрейд был убежден, что способен избежать ловушки редукционизма. Он многократно и решительно отрицал, что психоаналитики могут пролить свет на тайны творчества. В «Воспоминаниях детства Леонардо да Винчи» основатель психоанализа честно открестился от намерения «сделать понятной деятельность великого человека» и заявил о готовности признать, «что и сущность художественной деятельности также недоступна для психоанализа»[171]171
В конце 20-х годов прошлого столетия он повторил эту мысль в своей часто цитируемой фразе: «К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие» («Dostojewski und die Vatertötung» [1928], GW XIV, 399 / «Dostoevsky and Parricide», SE XXI, 177). Авт.
[Закрыть]. Изучать законы психической жизни людей, особенно выдающихся личностей, чрезвычайно интересно, но такие исследования «не ставят себе целью объяснить гениальность поэта». Нам приходится принимать подобные оговорки за чистую монету. Фрейд открыто и точно указал свое отношение к собственным публикациям, от догматичной уверенности до полного агностицизма. В то же время, несмотря на огромное уважение к могучим тайным силам творчества, мэтр был готов в значительной степени поддержать психоаналитическое исследование личности художника, а также причины выбора им определенных тем или приверженности к тем или иным метафорам, не говоря уж о воздействии на публику. Однако даже у симпатизировавших ему читателей основатель психоанализа оставил впечатление, что сведение культуры к психологии выглядит не менее однобоким, чем изучение культуры совсем без учета психологии.
Вопреки сложившемуся впечатлению взгляды Зигмунда Фрейда на искусство не были направлены на полную дискредитацию последнего. Из чего бы ни была слеплена – из юмора, интриги, ярких красок или убедительной композиции – эстетическая маска для примитивных страстей, она доставляет удовольствие. И помогает сделать жизнь терпимой как для ее создателя, так и для публики. Таким образом, для Фрейда искусство является культурологическим наркотиком, но не вызывает отдаленных последствий, свойственных другим наркотическим веществам. Поэтому задача психоаналитического критика – проследить различные пути, которыми чтение, прослушивание или просмотр произведений искусства генерирует эстетическое наслаждение, не давая оценки значимости работы, ее автора или ее восприятия. Основатель психоанализа не нуждался в напоминании, что плод не похож на корень и что самые красивые цветы в саду не утрачивают своей прелести, если нам напоминают, что они растут на дурно пахнущем навозе. Но профессиональный долг призывал Фрейда исследовать корни. В то же время, если он хочет читать «Венецианского купца» и «Короля Лира» как размышления о любви и смерти, Шекспир не становится для него предметом чисто клинического интереса. Микеланджело, создавший «Моисея», был для Фрейда не просто интересным пациентом. В глазах основателя психоанализа Гёте не утрачивал статуса Dichter даже после того, как он проанализировал фрагмент из автобиографии поэта в работе «Поэзия и правда». Но факт остается фактом: несмотря на любовь к литературе, Фрейд всю жизнь больше интересовался правдой, чем поэзией.