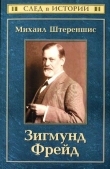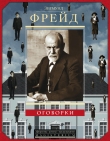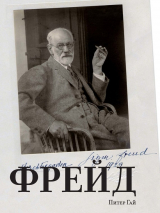
Текст книги "Фрейд"
Автор книги: Питер Гай
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 81 страниц)
Эти последствия были достаточно серьезными. Теперь психоанализ признавал, что бессознательное не ограничивается вытесненным. Все вытесненное является бессознательным, но не все бессознательное относится к вытесненному. «Также и часть «Я» – бог весть, какая важная часть «Я», – должна быть и, несомненно, является бессознательным». В развивающейся личности «Я» зарождается как часть «Оно», постепенно отделяя себя от него, а затем изменяется под влиянием внешнего мира. Проще говоря, «Я» репрезентирует то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность «Оно», содержащему страсти. В последующие полтора десятилетия, которые ему остались, Фрейд так и не смог окончательно определиться, какие силы следует приписывать «Я», а какие «Оно». При этом он почти не сомневался, что в большинстве случаев решающую роль играет «Оно». В своей знаменитой аналогии в работе «Я» и «Оно» мэтр писал, что «Я» похоже на всадника, который должен обуздать превосходящую его по силе лошадь, с той только разницей, что всадник пытается это сделать собственными силами, а «Я» – взятыми взаймы. Взятыми взаймы у «Оно». Фрейд продолжил эту аналогию: «Как и всадник, «Оно» не хочет расстаться с лошадью, зачастую ему не остается ничего другого, как вести ее туда, куда хочется ей; так и «Я» обычно превращает волю «Оно» в действие, словно это была его собственная воля».
«Оно» не единственный противник, причиняющий беспокойство «Я». Известно, что еще до войны в статье о нарциссизме, а затем и в «Психологии масс…» основатель психоанализа выделял особый элемент «Я», который критически наблюдает за ним. Фрейд назвал этот элемент «Сверх-Я», и попытка объяснить его красной нитью проходит через всю работу «Я» и «Оно». Можно сказать, что всадник, или «Я», не просто отчаянно пытается управлять упрямой лошадью («Оно»), но одновременно вынужден бороться с рассерженными пчелами, которые роятся вокруг него («Сверх-Я»). Мы рассматриваем «Я», писал мэтр, как несчастное существо, находящееся в тройном подчинении и поэтому страдающее от тройной опасности – со стороны внешнего мира, либидо «Оно» и строгости «Сверх-Я». Фрейд считал, что «Я», подверженное страхам, связанным с этими опасностями, является осаждаемым со всех сторон и очень слабым посредником, который искренне пытается примирить силы, угрожающие ему и воюющие друг с другом. «Я» старается, чтобы «Оно» прислушивалось к требованиям внешнего мира и «Сверх-Я», и в то же время пытается убедить внешний мир и «Сверх-Я» подчиниться желаниям «Оно». Находясь между «Оно» и реальностью, «Я» слишком часто поддается «искушению быть угодливым, оппортунистическим и лживым, примерно как государственный муж, который при всем своем благоразумии хочет заслужить благосклонность общественного мнения». Тем не менее этот подобострастный и уступчивый приспособленец управляет защитными механизмами, сомнительным даром тревоги, рационального дискурса, способности учиться на опыте. Возможно, «Я» – несчастное существо, однако это самый лучший инструмент, имеющийся у человека, чтобы справляться с внутренними и внешними требованиями.
Последствия приведенных Фрейдом метафор оказались намного более глубокими, чем он сам тогда осознавал. Основатель психоанализа настаивал на том, что «Я» прежде всего телесно, то есть «в конечном счете происходит от телесных ощущений». Тем не менее «Я» обретает не только знания, но и свою форму от взаимодействия с внешним миром – переосмысливая опыт увиденных картин, услышанных мелодий и звуков, прикосновений к телам, испытанных удовольствий. В работе «Я» и «Оно» мэтр подробно не углубляется в этот аспект, но в «Психологии масс…» он исследовал взаимоотношения «Я» с внешним воздействием. В некоторых своих последних статьях и очерках Фрейд расширяет применение этих идей[205]205
Знакомые с психоанализом антропологи, социологи и историки в 30-х годах прошлого столетия взяли на вооружение гипотезы Фрейда. Они опирались на новый взгляд мэтра, который считал «Я» обращенным не только внутрь, но и наружу, сражаясь, торгуясь и договариваясь с внешним миром, а не только с «Оно» и «Сверх-Я». Авт.
[Закрыть]. Его психология «Я» служила для того, чтобы преобразовать личную трагикомедию довоенного психоанализа в пьесу с гораздо более широким значением – шикарно костюмированную историческую драму. Тот способ психоаналитического исследования искусства, религии, политики, образования, юриспруденции, истории и биографии великих, который так увлекал Фрейда, существенно облегчался его представлением о «Я» как о всаднике, который, несмотря на всю сложность двойной задачи укрощения «Оно» и удовлетворения «Сверх-Я», все-таки способен видеть окружающую местность и, более того, учится на собственном опыте, продолжая скакать во весь опор.
Одного определения «Я» было бы достаточно для целой статьи, но Фрейд не ограничился тем, что значилось в названии. Более точным, хотя и не таким кратким, было бы название «Я», «Оно» и «Сверх-Я». Дело в том, что, как уже отмечалось выше, в своей модели психики мэтр также нашел место феномену, который он назвал «Я-Идеал». Если использовать привычные стандарты, писал основатель психоанализа, то следует сказать, что чем «выше» поднимаешься по шкале психической деятельности, тем ближе подходишь к сознанию. Однако все совсем не так. В работе «Я» и «Оно» Фрейд часто апеллирует к клиническому опыту, который свидетельствует, что самые возвышенные нравственные состояния, например чувство вины, могут никогда не осознаваться: «Не только самое глубокое, но и самое высокое в «Я» может быть бессознательным». Опыт практического психоанализа убедительно свидетельствует, что «есть люди, у которых самокритика и совесть, то есть чрезвычайно ценная работа души, являются бессознательными». Поэтому психоаналитики, несмотря на весь свой скепсис, вынуждены говорить о бессознательном чувстве вины. Фрейд предлагал читателям понятие «Сверх-Я».
Сознание и «Сверх-Я» – отнюдь не одно и то же. «Нормальное, осознанное чувство вины (совесть), – писал мэтр, – не представляет для толкования никаких затруднений». В сущности, оно является выражением осуждения «Я» со стороны его критической инстанции. Но «Сверх-Я» – не просто сложный отдел психики. Сознательное или бессознательное, оно, с одной стороны, содержит этические ценности человека, а с другой – наблюдает за его поведением, судит, одобряет или осуждает его. У пациентов с неврозом навязчивости и меланхоликов чувство вины в конечном счете достигает сознания, но у большинства других людей его можно только предполагать, поэтому психоаналитик распознает относительно недоступный источник нравственных мучений, который именно из-за своей бессознательности оставляет лишь фрагментарные, почти неразборчивые следы. Нравственная жизнь человека, предположил Фрейд, намного более склонна к крайностям, чем принято считать у моралистов, а значит, психоаналитик с готовностью подтверждает кажущийся парадоксальным тезис, что нормальный человек не только гораздо аморальнее, чем полагает, но и гораздо более моральнее, чем знает.
Основатель психоанализа демонстрирует феномен бессознательного чувства вины, цитируя пациентов, проходящих лечение, у которых симптомы усиливались, когда аналитик выражал надежду на их излечение или хвалил за успехи, которые они делают. Любые успехи тут же вызывают ухудшение их состояния. Это печально известная негативная терапевтическая реакция, утверждал Фрейд, и было бы ошибкой считать ее пренебрежением или хвастливой попыткой пациента возвыситься над врачом. Скорее нужно рассматривать эту несколько извращенную реакцию как серьезное, возможно отчаянное, послание. В происхождении негативной терапевтической реакции мэтр нисколько не сомневался: в ее основе лежит бессознательное чувство вины, желание наказания. Однако пациент этого не понимает. «Но это чувство вины у больного безмолвствует, оно не говорит ему, что он виновен, он чувствует себя не виноватым, а больным».
В «Новом цикле лекций по введению в психоанализ», написанном через 10 лет после «Я» и «Оно», Фрейд четко подвел итог этому исследованию. Новорожденные не обладают «Сверх-Я», и его возникновение представляет огромный интерес для психоанализа. По мнению основателя движения, формирование «Я» зависит от развития идентификаций. Фрейд предупреждал читателей, что намерен углубиться в сложный предмет, тесно переплетенный с судьбами эдипова комплекса. Эти судьбы, если говорить языком профессионалов, связаны с трансформацией объектного выбора в идентификации. Дети сначала выбирают отца и мать в качестве объектов любви, а затем, вынужденные отбросить этот выбор как неприемлемый, идентифицируют себя с родителями, перенимая их установки – нормы, запреты и ограничения. Другими словами, желание обладать своими родителями превращается в желание быть такими, как они. Но не точно такими же – как выразился Фрейд, «Сверх-Я» ребенка строится не по образу родителей, а по родительскому «Сверх-Я». В этом смысле оно «становится носителем традиции и неподвластных времени ценностей, передающихся таким путем от одного поколения к другому».
Это звучит довольно запутанно, но на самом деле все еще сложнее: «Сверх-Я», усваивающее требования и идеалы родителей, состоит не только из остатка раннего объектного выбора «Оно» или из своих идентификаций. «Сверх-Я» также включает элемент, который Фрейд называл формированием энергичной реакции против того и другого. Как и прежде, в работе «Я» и «Оно» мэтр объясняет свои новаторские идеи простым языком: «Сверх-Я» не исчерпывается призывом «Ты должен быть таким же (как отец)», оно включает также запрет: «Таким (как отец) ты не смеешь быть, то есть ты не вправе делать всего, что делает отец; кое-что остается только за ним». Сохранив характер отца, «Сверх-Я» будет действовать «в виде совести, возможно, в виде бессознательного чувства вины». Другими словами, «Я-Идеал» является наследником эдипова комплекса. «Высшая» природа человека и его культурные достижения объясняются с помощью психологии. Это объяснение, признался Фрейд, оказалось таким неуловимым для философов и, если уж на то пошло, психологов именно потому, что все «Оно», большая часть «Я» и, как выясняется, большая часть «Сверх-Я» остаются бессознательными[206]206
Еще одна сложность выявилась при пересмотре Фрейдом своего взгляда на эмоциональное развитие мальчиков и девочек – вопроса, которому он стал уделять внимание в тот период. Как мы увидим дальше, мэтр пришел к выводу о существенных различиях «Сверх-Я» у представителей разного пола. Авт.
[Закрыть].
Постаревший, одряхлевший и угасающий – по крайней мере, по своим собственным словам – Фрейд дал международному психоаналитическому сообществу массу материала для размышлений и обсуждения. Он многое изменил, многое прояснил, но кое-что оставил без ответа. Когда в 1926 году Эрнест Джонс прислал ему статью о «Сверх-Я», мэтр признал, что все неясности и трудности, которые тот отметил, действительно существуют. Однако он не верил, что выход укажут семантические упражнения Джонса. «Нужны абсолютно новые исследования, накопленные впечатления и опыт, и я знаю, насколько трудно их получить». Статья Джонса, считал он, это темное начало запутанного вопроса.
Очень многое зависело от того, как читать «Я» и «Оно». В 1930 году Пфистер говорил Фрейду, что снова перечитал очерк, «возможно, в десятый раз, и был рад видеть, что после этой работы вы обратились к садам людей, тогда как прежде исследовали только фундаменты и клоаки их домов». Это был разумный подход к пониманию новых формулировок основателя психоанализа, причем отчасти обоснованный в его текстах. В любом случае Пфистер был среди тех многочисленных сторонников Фрейда, которые верили во «влечение к смерти». Но не менее обоснованной была и более мрачная интерпретация: после работы «Печаль и меланхолия» мэтр предположил, что «Сверх-Я», обычно агрессивное и карательное, чаще стоит на службе смерти, чем жизни. Таким образом, споры продолжались и были весьма далеки от разрешения.
Глава девятая
Смерть против жизни
Напоминания о бренности бытияВ 1923-м, в год выхода «Я» и «Оно», смерть вновь напомнила Зигмунду Фрейду о себе. Он потерял одного из внуков и увидел угрожающий жест в сторону себя самого. Несчастья стали для основателя психоанализа неожиданными и жестокими ударами судьбы. Несмотря на периодические жалобы на желудок и кишечник, Фрейд весь год был достаточно бодрым. Как и раньше, он с нетерпением ждал лета – отпуск по-прежнему считался священным. Его мэтр собирался посвятить прогулкам в горах, лечебным процедурам на курорте, путешествию в Италию и работе над теорией психоанализа. Фрейд редко прерывал свой отдых, чтобы принять пациентов, хотя теперь его осаждали заманчивыми предложениями. В 1922 году, проводя каникулы в Берхтесгадене, он писал Ранку, что отказал жене медного короля, которая, вне всяких сомнений, компенсировала бы стоимость его пребывания там, а также еще одной американке, которая «…платила бы мне 50 долларов в день, поскольку привыкла платить Бриллу в Нью-Йорке 20 долларов за полчаса». Но Фрейд был тверд: здесь он не будет продавать свое время. Потребность в отвлечении и восстановлении, как не раз он говорил друзьям, была очень сильной, и обычно ради отдыха основатель психоанализа оставался непреклонен[207]207
Впрочем, время от времени он смягчался и уступал просьбам, особенно когда его просили уделить внимание не пациенту, а «ученику» – будущему психоаналитику. Так, например, летом 1928 года мэтр предложил проанализировать американского психиатра Филиппа Лермана «на горе Земмеринг (2 ½ ч. от Вены), что для меня является исключением» (Фрейд Лерману, 7 мая 1928. На английском. A. A. Brill Library, New York Psychoanalytic Institute). Авт.
[Закрыть].
Несмотря на жалобы, его плотный график, а также неуменьшавшийся поток писем и регулярная публикация серьезных работ свидетельствовали о завидных запасах энергии и в целом о крепком здоровье мэтра. Но… Летом 1922 года в его письмах появились тревожные нотки. В июне основатель психоанализа сообщал Эрнесту Джонсу, что не чувствовал усталости до настоящего времени, «когда стали очевидными мрачные перспективы политической ситуации». Сбежав из Вены, Фрейд сбежал от политики, от непримиримых разногласий между австрийскими социалистами и католиками, этими, как он их называл, напыщенными политическими фанатиками, – хотя бы на время. И действительно, уже в июле он с явным облегчением писал о приятной тишине проводимых в Бадгастайне дней. Они были свободными и радостными, а «чудесный воздух, вода, голландские сигары и хорошая еда – все напоминало идиллию, насколько это возможно в этом центральноевропейском аду». Но в августе, в конфиденциальном письме Ранку из Берхтесгадена, уже не чувствуется подобной жизнерадостности. Ранк интересовался его здоровьем, и Фрейд честно попросил его о лжи во спасение: в переписке с остальными нужно говорить, что здоровье у него в порядке. На самом деле он чувствовал себя неважно. «От вашего внимания не ускользнул тот факт, что я уже какое-то время не уверен насчет своего здоровья». Основатель психоанализа и не догадывался, насколько оправданны его подозрения…
Вскоре у него появились и другие причины для меланхолии. В середине августа покончила с собой его любимая племянница Цецилия Граф, «милая девушка 23 лет». Незамужняя и беременная, она вышла из затруднительного положения, приняв большую дозу веронала. В трогательной, полной любви записке матери, которую Цецилия написала, уже выпив лекарство, она просила никого, в том числе своего любовника, не винить. «Я не знала, – писала фрейлейн Граф, – что умереть так легко и так весело». Фрейд признался Джонсу, что был глубоко потрясен этой трагедией, а его дурное настроение лишь усиливалось «мрачными перспективами нашей страны и общей неуверенностью нашего времени». Но вызов Фрейду бросило не время, а собственное тело. Весной 1923-го появились пугающие признаки того, что у него развился рак нёба.
В середине февраля того года основатель психоанализа обнаружил, как он это назвал, лейкоплакический нарост на верхней челюсти и нёбе. Лейкоплакия – доброкачественное образование, ассоциирующееся с неумеренным курением, и Фрейд, опасаясь, что врач потребует отказаться от этой вредной привычки, какое-то время скрывал свое состояние от окружающих. Но два месяца спустя, 25 апреля, в ободряющем и одновременно тревожном письме Джонсу он сообщал, что потерял две недели из-за болезни (операции) – ему удалили новообразование. Впервые болезненный отек нёба Фрейд заметил еще несколько лет назад, в 1917 году. Горькая ирония здесь в том, что отек прошел после того, как пациент подарил ему желанную коробку сигар и мэтр тут же закурил одну. Теперь, в 1923-м, новообразование стало большим – игнорировать его было уже невозможно. «Меня заверили в доброкачественном характере опухоли, но, как вам известно, никто не может гарантировать, как она себя поведет, если ей позволить расти дальше». Фрейд с самого начала был настроен пессимистически. «По моему собственному диагнозу, у меня была эпителиома, – сообщал он Джонсу, называя одну из разновидностей злокачественных опухолей, – но с ним не согласились другие врачи». Основатель психоанализа честно признавался: «Причину бунта клеток видят в курении». Когда Фрейд наконец почувствовал себя готовым принять ужасное будущее без сигар, он обратился к дерматологу Максимилиану Штайнеру, с которым был в приятельских отношениях. Штайнер действительно порекомендовал ему бросить курить, но солгал, преуменьшив опасность новообразования.
По прошествии нескольких дней, 7 апреля, к Фрейду заглянул лечащий врач Феликс Дойч, и мэтр попросил осмотреть его. «Возможно, – предупредил он, – вам не понравится то, что вы увидите». Основатель психоанализа был прав. Как вспоминал впоследствии Дойч, он с первого взгляда понял, что опухоль злокачественная. Но вместо того, чтобы произнести страшное слово «рак» или хотя бы формальный диагноз – эпителиома, к которому склонялся сам Фрейд, Дойч прибег к уклончивому – плохая лейкоплакия. Он посоветовал мэтру как можно быстрее бросить курить и удалить опухоль.
Зигмунд Фрейд сам был врачом, и его окружали врачи. Однако он не стал обращаться за консультацией к авторитетному доктору и не пошел к хирургу, специализирующемуся на заболеваниях полости рта, в мастерстве которого у него не могло возникнуть сомнений. Вместо этого он выбрал ринолога Маркуса Хайека – можно сказать, еще одного Флисса, хотя раньше выражал определенные сомнения в его компетентности. Выбор – ошибку – основатель психоанализа сделал сам, ни с кем не посоветовавшись, как много лет спустя вспоминала его дочь Анна. В результате первоначальный скептицизм Фрейда в отношении Хайека полностью оправдался. В амбулаторном отделении собственной клиники врач выполнил операцию, хотя и знал, что рекомендованная им процедура чисто косметическая и на самом деле бесполезная. Фрейда сопровождал Феликс Дойч, но при вмешательстве он не присутствовал. Операция прошла крайне неудачно – во время и после нее у мэтра не прекращалось сильное кровотечение, и он был вынужден остаться «в одной из совершенно неприспособленных для этого маленьких комнат госпиталя (других там не было)». Компанию ему составил еще один пациент, которого Анна Фрейд потом описывала как милого и дружелюбного слабоумного карлика, но, возможно, именно он спас основателю психоанализа жизнь.
Жену и дочь Фрейда попросили принести в больницу его личные вещи, поскольку мэтру, по всей видимости, предстояло провести там ночь. Вернувшись, Марта и Анна нашли его, забрызганного кровью, сидящим на табурете.
Во время обеда посетителям находиться в клинике не разрешалось, и женщин отправили домой, уверив, что с пациентом все будет в порядке. Через час или два они пришли снова и узнали о случившемся за время их отсутствия сильнейшем кровотечении. Фрейд пытался позвать на помощь, но специально предназначенный для этого колокольчик не звонил… Сам он не мог говорить даже шепотом и поэтому был абсолютно беспомощен. К счастью, карлик побежал за медсестрой, и вскоре, несмотря на некоторые трудности, кровотечение удалось остановить.
Узнав об этом происшествии, Анна больше не согласилась оставить отца одного. «Медсестры, – вспоминала она, – которых мучили угрызения совести из-за неисправного колокольчика, были очень внимательны. Они принесли мне черный кофе и стул, и я провела ночь с отцом и карликом. Отец был слабым от потери крови и пребывал в полусне от лекарств и сильной боли». Ночью медсестра, встревоженная его состоянием, предложила Анне послать за домашним хирургом Фрейдов. Они так и сделали, но тот отказался идти в частную клинику. Утром Анне пришлось прятаться, пока Хайек с ассистентами делал ежедневный обход. Никакого раскаяния из-за неудачной операции, едва не закончившейся смертью пациента, он не проявил и в конце дня отпустил основателя психоанализа домой.
Больше скрывать свою болезнь Фрейд не мог, но теперь он обманывал своих корреспондентов, и в какой-то степени себя, бодрыми бюллетенями о состоянии собственного здоровья. «Могу сообщить вам, – писал он «дражайшей Лу» 10 мая, через четыре дня после своего дня рождения, – что я снова могу разговаривать, жевать и работать; мне даже позволено курить – умеренно, осторожно и, если так можно выразиться, на жалкий буржуазный манер». Прогноз, прибавил он, благоприятен. Повторяя в тот же день хорошие новости Абрахаму, основатель психоанализа сказал, что решил «попробовать вашу оптимистическую формулу: долгих лет жизни, и больше никаких опухолей!». Чуть позже он применил оптимистическую формулу собственного сочинения: «Два месяца назад у меня удалили опухоль мягкого нёба, которая могла переродиться, но пока этого не произошло».
На самом деле Фрейд все знал, хотя никто не говорил ему правду. Хайек назначил болезненное и бесполезное лечение рентгеновскими лучами и радием, что мэтр воспринял как подтверждение своих подозрений в злокачественном характере новообразования. Но официально обман продолжался; Хаейк разрешил мэтру, как обычно, отправиться на летний отдых, хотя просил регулярно сообщать о самочувствии, а в июле прийти на повторный прием, якобы для того, чтобы проверить состояние шрама. Фрейд поехал в Бадгастайн, а затем в Лавароне – теперь этот курорт находился по другую сторону австрийской границы, в Италии. Но лето не принесло облегчения. Боль была такой мучительной, что по настоянию Анны он попросил Дойча приехать к нему в Бадгастайн для консультации. Дойч явился без промедления и увидел, что необходимо еще одно, более радикальное вмешательство, но и на этот раз не сказал основателю психоанализа всю правду.
Неуместную щадящую уклончивость Дойча, а также других врачей можно объяснить определенным благоговением перед великим человеком, а также сознательным нежеланием признавать, что он смертен. Впрочем, у Дойча имелись и другие основания для обмана. Он опасался за сердце Фрейда, не зная, как оно отреагирует, если сообщить мэтру правду, и надеялся, что вторая операция устранит причину для тревоги и основатель психоанализа будет жить дальше, не подозревая, что у него был рак. Кроме того, Дойча беспокоило настроение Фрейда, которое он истолковал как готовность к самоубийству. Во время их серьезного разговора 7 апреля тот сказал Дойчу, что готов «уйти из этого мира достойно», если судьбой уготовлены долгие страдания. Врач решил, что, если Фрейду прямо сказать, что у него рак, может возникнуть желание реализовать эту скрытую угрозу.
И, словно этого было недостаточно, летом 1923 года появилась еще одна причина для того, чтобы щадить чувства пациента. Фрейд скорбел по своему любимому внуку Хейнеле, который умер в июне. Несколько месяцев четырехлетний малыш, младший сын дочери мэтра Софи, жил в Вене. Его обожала вся семья. «Мой маленький внук самый умный из детей его возраста (4 г[ода]), – хвастался гордый дед Абрахаму в апреле 1923-го. – Но он также очень худой и болезненный, одни глаза, волосы и кости». Основатель психоанализа очень любил внука и переживал за него. «Моя старшая дочь Мат[ильда] и ее муж, – писал Фрейд друзьям в Будапешт в начале июня, когда мальчик умирал, – практически усыновили его, окружив любовью и заботой. Он был, – смирившись с неизбежным, мэтр использовал глагол прошедшего времени, – в самом деле очаровательный малыш, и я чувствую, что никогда еще никого не любил так сильно»[208]208
В 1896 году, когда его отец был при смерти, Фрейд тоже использовал в письме прошедшее время – символ того, что он смирился с неизбежным. Авт.
[Закрыть].
Хейнеле уже достаточно давно страдал от высокой температуры и головных болей, а отсутствие специфических симптомов не позволяло поставить диагноз. Тем не менее в июне врачи пришли к выводу, что у него милиарный туберкулез, и это означало, что ребенок фактически обречен. Фрейд писал, что Хейнеле впал в кому, но изредка приходил в себя, «и тогда снова становился самим собой, так что в это было трудно поверить». Основатель психоанализа даже не подозревал, что способен так сильно страдать. «Я очень тяжело переживаю эту утрату. Не думаю, что когда-либо испытывал подобное горе». Работал он словно по привычке: «Все утратило для меня смысл».
Фрейд считал, что его болезнь обострилась из-за перенесенного стресса, но он больше переживал из-за внука, чем из-за себя. «Не пытайтесь жить вечно, – цитировал мэтр предисловие Бернарда Шоу к пьесе «Дилемма доктора», – из этого ничего не выйдет». Конец наступил 19 июня. После того как Хейнеле, «милый малыш», умер, Зигмунд Фрейд, в жизни не проливший ни слезинки, заплакал[209]209
Психотерапевт Хильда Браунталь, во время учебы работавшая в доме Матильды и Роберта Холличер, где Хейнеле провел последние месяцы жизни, полагает, что мэтр «не слишком часто виделся с внуком. Фрейды жили неподалеку от Холличеров. Я часто видела, как Фрейд идет по улице со своей собакой. Он казался глубоко погруженным в свои мысли» (личное письмо, 4 января 1986 года). Но даже если основатель психоанализа редко навещал внука, часть мыслей, которые его так поглощали, похоже, была о мальчике. Авт.
[Закрыть]. Когда в середине июля Ференци, эгоцентричный и немного бестактный, спросил, почему мэтр не поздравил его с 50-летием, Фрейд ответил, что никогда бы не отказал в такой дани вежливости чужому человеку. Однако, как он утверждал, сие не является следствием какой-то обиды. «Скорее, это связано с моим нынешним отвращением к жизни. У меня никогда не было депрессий, но теперь, должно быть, я пребываю именно в таком состоянии». Заявление удивительное: основатель психоанализа был подвержен периодам плохого настроения, но этот приступ, вероятно, оказался особенно сильным. «Меня все еще мучает мой нос, – писал мэтр Эйтингону в середине августа, – и я одержим бессильной тоской по милому малышу». Он говорил, что стал чужим для жизни и клиентом смерти. В письме к близкому другу всей своей жизни Оскару Рие Фрейд признавался, что никак не может примириться с тем, что мальчика больше нет. «Он олицетворял для меня будущее, а теперь унес будущее с собой».
По крайней мере, тогда ему так казалось… Три года спустя, когда Людвиг Бинсвангер, у которого от туберкулезного менингита умер восьмилетний сын, в письме деликатно поделился с Фрейдом своим горем, мэтр вспомнил о том, что сам пережил в 1923 году. Он написал пространный ответ – «не ради простого сочувствия, а из внутреннего побуждения, поскольку Ваше письмо пробудило во мне воспоминания, которые никогда меня не оставляют». Фрейд вспоминал все свои утраты, особенно смерть в возрасте 27 лет любимой дочери Софи. Основатель психоанализа сказал, что «…смог стойко перенести эту утрату. Это случилось в 1920 году, когда только что закончилась война, в годы которой мы постоянно были готовы получить известие о гибели одного из наших сыновей или даже всех троих. Так что мы заранее покорились судьбе». Но смерть младшего сына Софи лишила его душевного равновесия. Для него мальчик «был дороже, чем все мои дети и внуки, вместе взятые. С тех пор как Хейнеле умер, я не только больше уже не нахожу утешения в других моих внуках, но и утратил вкус к самой жизни. Здесь и кроется секрет моего безразличия – люди называют это храбростью – к опасности, угрожающей моей жизни». Выражая сочувствие Бинсвангеру, Фрейд понял, что воспоминания вновь и вновь бередят его душевные раны. У него было в запасе достаточно жизненной энергии, а чувства еще не остыли. Но Хейнеле навсегда остался его любимцем… Когда летом 1923 года старший брат умершего мальчика Эрнст два месяца жил у Фрейдов, его дедушка – что бы ни чувствовали другие – «не нашел в нем никакого утешения».
Таковы были обстоятельства жизни Зигмунда Фрейда летом 1923 года, с которыми столкнулся и которые не мог принять Дойч: основатель психоанализа раним и смертен, как и все люди. Дойч все рассказал Ранку, а затем и «дворцовой страже» Фрейда – «комитету». Затем небольшая группа близких друзей мэтра – Абрахам, Эйтингон, Джонс, Ранк, Ференци, Закс – собралась в Сан-Кристофоро в Доломитовых Альпах, недалеко от Лавароне, где остановился основатель психоанализа. Отношения среди «стражи» были непростыми, если не сказать неприязненными. Трения начались уже после войны. Ежедневные циркуляры, Rundbriefe, которые они начали рассылать с конца октября 1920 года, помогали мало. Эти письма должны были поддерживать постоянную связь между верными сторонниками Фрейда в Вене, Будапеште, Берлине и Лондоне. «Мне не терпится узнать, – писал мэтр Эрнесту Джонсу, когда письма только задумывались, – как будет работать эта система. Полагаю, она окажется очень полезной». Но примерно в это же время Джонс основал International Journal of Psycho-Analysis, и деятельность по руководству журналом испортила его отношения с Ранком. Джонс был недоволен тем, что он считал надменным вмешательством Ранка в дела редакции. Желавший минимизировать вклад немцев в литературу по психоанализу в тот период, когда антигерманские настроения еще были сильны, и так же страстно желавший увеличить долю американцев, Джонс принял несколько статей, не удовлетворявших строгим критериям, которым придавали такое значение венцы, и Ранк тут же раскритиковал этот выбор. Фрейд считал данную дискуссию угрозой так необходимому им миру. Зависимый от Ранка в делах психоаналитического сообщества, он несколько раз хвалил его в письмах Джонсу и мягко укорял последнего за раздражительность. «Без Ранка я почти беспомощен и неполноценен», – писал он в конце 1919 года, а чуть позже выговаривал: «…в ваших замечаниях относительно Ранка я заметил резкость, которая напоминает мне подобное отношение к Абрахаму. Даже во время войны вы были мягче. Надеюсь, в наших с вами отношениях все в порядке». Фрейд винил Джонса, что тот не способен управлять своими чувствами и настроениями, и надеялся на лучшие времена.
Между тем атмосфера в «комитете» становилась все мрачнее. «Молот Ранка опустился еще раз, – жаловался Джонс в циркулярном письме летом 1922 года, – на этот раз на Лондон и, как мне кажется, совсем несправедливо». Отношения Джонса с Абрахамом, которого беспокоило отступление Ранка от ортодоксальной техники психоанализа, наоборот, начали восстанавливаться. В тесном кружке из семи человек Фрейд оставался особенно близок с Ранком и Ференци, но и остальные были ему нужны не меньше. Теперь, летом 1923-го, осаждаемый болезнью и горем, он надеялся, что в «комитете» удастся восстановить хотя бы видимость согласия. «Я слишком стар, чтобы бросать старых друзей, – писал он вскоре после встречи. – Если бы молодые люди могли задуматься об этой перемене в жизни, им было бы легче поддерживать добрые отношения друг с другом».
Однако в тот момент надежды Фрейда на то, что его более молодые сторонники прислушаются к его примирительному настроению, были лишены оснований. 26 августа в подробном письме к жене Джонс описывал атмосферу в Сан-Кристофоро, раздраженную и одновременно тревожную. «Главная новость состоит в том, что у Фрейда действительно рак; опухоль растет медленно, и это может растянуться на годы. Он ничего не знает, и это самая страшная тайна». Что касается ссоры с Ранком, «комитет» «…потратил целый день на обсуждение дела Ранка – Джонса. Очень болезненно, но я надеюсь, что теперь наши отношения улучшатся». Однако он понимал, что никакого улучшения не предвидится – напряженность усилил один неприятный эпизод. «Думаю, Ференци не будет со мной разговаривать, поскольку здесь был Брилл и в разговоре с ним я назвал Ранка жуликоватым евреем». Он частично отрицал подобную нетерпимость, утверждая, что это сильное преувеличение – stark übertrieben.