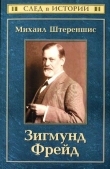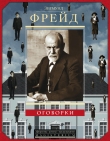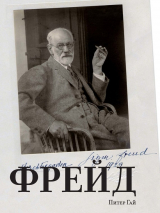
Текст книги "Фрейд"
Автор книги: Питер Гай
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 81 страниц)
Не обращая внимания на чувства «дикарей», Фрейд говорил своим корреспондентам из США, что их странности или необычная реакция на психоаналитическое лечение – национальные черты. «Но вы, американцы, особенные люди, – писал он своему пациенту Леонарду Блумгарту после того, как тот признался, что обручился с будущей женой прямо перед шестимесячной разлукой. – Вы никогда не умели найти правильного подхода к своим женщинам». Когда другой американский пациент мэтра, Филипп Лерман, прислал ему критические замечания к «Недовольству культурой», Фрейд ответил грубым комментарием: «Разумеется, они в точности такие глупые и невежественные, как можно было ожидать от американского журналиста». Через несколько месяцев основатель психоанализа так же грубо выразил свое несколько удивленное удовлетворение от известия о благополучии Лермана и его семьи. В Америке, конечно, депрессия, но разве бывают непроцветающие американцы? В подобном настроении – а оно бывало довольно часто – Фрейд небрежно отбрасывал воспоминания о таких достойных восхищения американцах, как Джеймс Джексон Патнем и Уильям Джеймс.
Основатель психоанализа даже считал возможным ворчать, что эти жалкие янки не в состоянии сохранять рассудок, когда в них есть нужда. В 1924 году с Хорасом Фринком, одаренным пациентом и учеником Фрейда, случился приступ психоза. Мэтр считал Хораса одним из редких исключений среди американцев: он был о нем высокого мнения и хотел, чтобы Фринк возглавил психоаналитическую организацию в Соединенных Штатах. Нервный срыв Фринка, который привел к его госпитализации, явно нарушил планы Фрейда. Говоря об ужасающем душевном состоянии своего ученика, основатель психоанализа рассматривал эту личную трагедию как характерную черту американского провала. «Моя попытка дать им руководителя в лице Фринка, которая, к сожалению, окончилась неудачей, – это последнее, что я для них делаю, даже если, – поклялся мэтр, – я проживу еще сто лет, которые вы отвели на включение психоанализа в психиатрию». Эта яростная вспышка, следует отметить, случилась в сентябре 1924 года, когда Фрейд боролся с последствиями рака, но его общее отношение к американцам оставалось неизменным[283]283
Есть основания предполагать, что бессердечные обвинения Фринка в значительной степени были обусловлены не высказанным, но явно осознанным чувством вины. Прежде всего, Фрейд сначала не смог распознать потенциальный психоз, скрывавшийся за нервными проблемами Хораса, а затем отказался воспринимать приступ психоза всерьез. Более того, мэтр – с лучшими намерениями, но некоторым безразличным высокомерием – ухудшил эмоциональное состояние Фринка, вмешавшись в его личную жизнь. Проходя психоанализ у Фрейда, Хорас решил развестись с супругой и жениться на одной из своих пациенток, и мэтр поддержал его в этом намерении. Но когда в 1923-м, через месяц после развода, умерла первая жена Фринка, его душевное здоровье было серьезно подорвано, а год спустя распался и второй брак. В 1936-м, незадолго до его смерти, в возрасте 53 лет, дочь Фринка, Хелен Крафт, спросила, что передать Фрейду, если она когда-либо с ним увидится. «Скажи ему, что он был великим человеком, – ответил Фринк, – даже если бы не изобрел психоанализ». (Слова Хелен Крафт приведены в: Specter M. Sigmund Freud and a Family Torn Asunder: Revelations of an Analysis Gone Awry // Washington Post, November 8, 1987, sec. G, 5.) Авт.
[Закрыть]. В 1929-м, когда Эрнест Джонс советовался с ним по поводу предложения американцев, чтобы он выступил редактором сборника психоаналитических работ Фрейда, предназначенного для заокеанской аудитории, мэтр ответил в характерном для себя стиле: «По существу, все это предприятие, будучи типично американским, мне крайне неприятно. В одном можно не сомневаться: если такая книга будет доступна, ни один американец не обратится к оригиналу. Хотя, возможно, он и так бы этого не сделал, а черпал бы информацию из самого мутного популярного источника».
Подобные комментарии не ограничивались личной перепиской. Фрейд без колебаний делал их достоянием читателей. В 1930 году в кратком предисловии к «Медицинскому обзору обзоров», редактором которого был американский психоаналитик Дориан Фейгенбаум, он признался, что предполагаемый прогресс психоанализа в Америке принес ему только «неопределенное» удовлетворение. Психоанализ получил широкую известность, но серьезная практика и финансовая поддержка были редкими явлениями; врачи и публицисты удовлетворялись психоаналитическими девизами. Они гордились своей широтой взглядов, которая на самом деле лишь демонстрировала их неспособность к пониманию. Фрейд считал, что популярность слова «психоанализ» в Америке не свидетельствует ни о дружелюбном отношении к самому предмету, ни о каком-либо широком или глубоком его знании. Он говорил то, что думал.
Таким образом, неприязнь основателя психоанализа отчасти объяснялась его беспокойством по поводу импульсивной восприимчивости американцев, дополнявшейся, как ему казалось, чрезвычайно вредным отсутствием твердости и не менее вредным страхом перед сексуальностью, не говоря уж о контрпродуктивном эгалитаризме, то есть политической практике, имеющей целью достижение всеобщего равенства. Еще в 1912 году мэтр советовал Эрнесту Джонсу держать себя с Джеймсом Джексоном Патнемом тепло, чтобы Америка могла оставаться на стороне либидо. Он думал тогда и продолжал думать, что это будет неблагодарная работа, поскольку среди американских психоаналитиков лидерство было политическим вопросом, а совершенство в профессии оставалось без вознаграждения. В 20-х годах ХХ столетия мэтр гневно обрушивался на аналитиков в Соединенных Штатах за то, как они управляли своей организацией. «Американцы, – писал Фрейд Шандору Радо, – переносят демократический принцип из политики в науку. Каждый должен один раз побывать президентом; никто не может оставаться президентом; никому не позволено превосходить других, и поэтому все они ничему не учатся и ничего не добиваются». Когда в 1929 году группа американских психиатров – некоторые из них были сторонниками Ранка – предложила созвать конгресс и обратилась к Фрейду с вопросом об участии его дочери, он отверг это предложение в своей обычной нелюбезной манере. «Я не могу надеяться, что конгресс – которому я желаю всяческих успехов – будет иметь большое значение для психоанализа, – сказал мэтр одному из организаторов, Фрэнквуду Уильямсу. – По американскому обыкновению в нем количество заменит качество». Его беспокойство не было таким уж безосновательным, но казалось нереальным, почти пугающим порождением нездорового воображения.
Далеко не все жалобы основателя психоанализа были чистой фантазией. Например, его диспепсия являлась реальной. После возвращения из Университета Кларка осенью 1909 года Фрейд жаловался, что его здоровье ухудшилось и он знает, кого в этом винить: «Америка мне дорого обошлась». В конце той же зимы он провел три недели в Карлсбаде, лечил свой колит, приобретенный, по словам мэтра, в Нью-Йорке. Когда после войны у Фрейда возникли проблемы с предстательной железой, он признался Ференци, что иногда оказывался в «крайне неловкой ситуации, как впервые десять лет назад, в Америке». Мэтр не придумывал эти болезни, но свое раздражение направлял на одну, удобную мишень. В профессиональном плане его тоже многое раздражало. Однако энергичный протест американских психоаналитиков против дилетантского анализа не был причиной его антипатии – этот протест лишь окончательно убедил основателя психоанализа, что американцы не наивные ханжи, а жадные обыватели. Их погубит, считал Фрейд, сама манера выражаться. «Этому народу, – однажды сказал он своему врачу Максу Шуру, – суждено погибнуть. Они больше не в состоянии открыть рот, чтобы говорить; скоро они не смогут открыть рот, чтобы есть».
Из всего этого следует неизбежный вывод, что, обрушившись на американцев – на всех, без разбора, – с изощренной яростью, Фрейд не прислушивался к своему опыту, а давал выход некой внутренней потребности. Даже верный Эрнест Джонс, как известно, был вынужден признать, что антиамериканизм мэтра на самом деле вовсе не связан с Америкой. Основатель психоанализа все-таки догадывался, что его чувства не совсем объективны – или совсем не объективны. В 20-х годах он даже предпринимал слабые попытки поставить диагноз «ускользающим от анализа» американцам. Рассердившись на две статьи по психоанализу авторов из США, он в 1921 году сказал Джонсу: «Американцы, в сущности, очень плохи». Однако, благоразумно прибавил мэтр, следует воздержаться от суждения, почему они такие, не имея лучшей возможности для наблюдения. Фрейд склонялся к мысли, что у них более острая конкуренция, а неудача означает для каждого гражданскую смерть. «У них нет личных ресурсов, кроме профессии, нет хобби, игр, любви или других интересов культурного человека. А успех означает деньги. Может ли американец жить в оппозиции к общественному мнению, как это готовы делать мы?»[284]284
В работе «Недовольство культурой» Фрейд отказался от безоговорочных учреждений и заявил о своем желании избегать соблазна заняться критикой американской культуры, чтобы самому не использовать американские методы. (См.: Das Unbehagen in der Kultur, GW XIV, 475 / Civilization and Its Discontents, SE XXI, 116.) Авт.
[Закрыть] Похоже, американцы неудачно соединили материализм с конформизмом. Три года спустя основатель психоанализа воспользовался визитом Ранка в Соединенные Штаты как поводом поставить уничижительный диагноз: «Нигде так не потрясает бесчувственность человеческих действий, как здесь, где даже приятное удовлетворение естественных животных потребностей больше не считается целью в жизни. Это безумный анальный Adlerei». В устах Фрейда не было ничего оскорбительнее, чем связать американцев с именем своего самого презираемого бывшего ученика. Если объяснить это в профессиональных терминах, то он представлял американцев, всех до одного, жертвами анально-садистской задерживающей способности, враждебной удовольствию, но в то же время способствующей агрессивному поведению в бизнесе и политике. Вот почему жизнь американцев суматошна. Поэтому неутилитарные стороны бытия, будь то невинные хобби или высшие достижения культуры, американцам и недоступны!
Зигмунд Фрейд находил эти проявления характера американцев везде. Начать с того, что среди них трудно отыскать честного человека. Именно это имел в виду мэтр, когда описывал своего племянника Эдварда Бернайса, успешного основателя фирмы по связям с общественностью, как честного парня, каким он его помнил: «Не знаю, до какой степени он американизировался». Более того, в Соединенных Штатах было неуютно любовникам. Именно таков смысл замечания Фрейда в письме Блумгарту, что американские мужчины никогда не умели правильно относиться к своим женщинам. Но хуже всего то, что Америку поработил любимый продукт «анальных взрослых» – деньги. Для основателя психоанализа Америка описывалась одним словом: «Доллария».
Все это совсем не оригинально, если не считать психоаналитической терминологии. Большинству эпитетов Фрейда было уже сто лет, и многие из них считались банальностями в тех кругах, к которым он принадлежал[285]285
Вот один яркий пример. В 1908 году Эрнест Джонс писал Фрейду: «Американцы – особенная нация с собственными привычками. Они проявляют любопытство, но редко истинный интерес… Их отношение к прогрессу прискорбно. Они хотят узнать «новейший» метод лечения, ни на секунду не забывая о всемогущем долларе и думая только о выгоде или «славе», как они это называют. В последнее время было написано много хвалебных статей о психотерапии Фрейда, но они до абсурда поверхностны, и я боюсь, что американцы решительно проклянут ее, как только услышат о ее сексуальной основе и поймут, что это значит» (Джонс Фрейду, 10 декабря [1908 года]. С разрешения Sigmund Freud Copyrights, Wivenhoe). Авт.
[Закрыть]. В 1927 году французский психоаналитик Рене Лафорг описывал американца, некоего П., фразой, с которой мог бы полностью согласиться Фрейд: «Настоящий американец, П. всегда считал, что можно купить себе аналитика». В том же году Ференци, покидавший Соединенные Штаты после продолжительного визита, беспокоился, что страдающие неврозом американцы, которых так много, нуждаются в расширении и улучшении психоаналитической помощи по сравнению с той, которую получают. «Я вернулся сюда через много лет, – говорил он, – и обнаружил гораздо больший интерес к психоанализу, чем в Европе, но я также обнаружил, что этот интерес несколько поверхностен, а более глубокий аспект игнорируется».
Подобные мнения делают очевидным тот факт, что мэтр и его сторонники копировали, зачастую дословно, снисходительные слова, которые утонченные европейцы произносили уже много лет. А те, в свою очередь, выражали взгляды своих отцов и дедов, которые на протяжении столетия приписывали американцам какие-либо пороки, подчас реальные, но в большинстве своем воображаемые. В обществе было принято осуждать стремление американцев к равенству, не менее выраженное стремление к новизне, а также их материализм. Еще в 1822 году Стендаль в своей остроумной книге «О любви» необоснованно назвал их олицетворением существ без воображения. По его мнению, они были не способны любить: «В Бостоне вы можете оставить молодую девушку наедине с красивым незнакомцем, будучи уверенным, что она будет думать только о состоянии будущего мужа». Американцы, повторял Стендаль в незаконченном романе «Люсьен Левен», несмотря на все свое благоразумие, думают только о деньгах и о том, как их скопить. Несколькими годами позже Чарльз Диккенс во время визита в Соединенные Штаты был до крайности возмущен контрафактными изданиями своих книг. Его едкая сатира в «Жизни и приключениях Мартина Чезлвита» – это победа негодования над сочувствием. Американцы, узнаем мы из романа, проповедуют свободу, но боятся общественного мнения, разглагольствуют о равенстве и держат рабов, они снобы и стяжатели. Все разговоры американцев «можно было свести к одному слову – доллары! Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары». Это обвинение, превратившееся к тому времени, когда основатель психоанализа начал писать свои работы, в клише, не потеряло ценности в глазах европейских наблюдателей. В 1904 году сэр Филип Берн-Джонс сжал старое обвинение в заголовок своей книги о Соединенных Штатах – «Доллары и демократия». «А как они говорят о деньгах! – восклицал автор. – Из обрывков разговоров на улицах, в ресторанах и автомобилях можно разобрать только «доллары-доллары-доллары». У Фрейда было преимущество перед Стендалем. Он, по крайней мере, как Диккенс и Берн-Джонс, видел Америку. Но его взгляды в отношении американцев оставались столь же дремучими.
Остается вопрос, почему основатель психоанализа так некритично воспринял эту сильнодействующую, но к тому времени уже дурнопахнущую смесь из тенденциозных наблюдений и нескрываемого культурологического высокомерия. Дело в том, что конформизм Фрейда и его радикализм странным образом объединились в поддержке антиамериканизма. Будучи обыкновенным, консервативным европейским буржуа, он думал об американцах так же, как остальные. По сравнению с этим бездумным согласием с общепринятыми клише реальные основания для недовольства американцами – мессианская политика, сопротивление дилетантскому анализу, не говоря уж об американской кухне, – выглядят несущественными. Но в то же время, оставаясь радикально антибуржуазным в своей идее свободных сексуальных связей, мэтр считал американцев образцом ханжества в сексуальных вопросах. По всей видимости, сексуальный реформатор Фрейд представлял Соединенные Штаты воплощением лицемерия, с которым он был обязан бороться.
И совсем не случайно, что самые первые комментарии основателя психоанализа об американцах были сосредоточены именно на их неспособности – как он сие понимал – чувствовать или выражать любовь. За несколько месяцев до посещения Университета Кларка Фрейд писал Ференци, что боится ханжества нового континента. Сразу после возвращения из Соединенных Штатов он сообщил Юнгу, что у американцев нет времени на либидо. От этого обвинения Фрейд никогда не отступал. Он жаловался на строгость американского целомудрия, презрительно говорил о ханжеской и добродетельной Америке. Когда в 1915 году в своем знаменитом письме Джеймсу Джексону Патнему мэтр объявил достойными презрения современные нормы приличия в области секса, он не преминул заметить, что в своем худшем виде эти нормы существуют в Соединенных Штатах. Такая страна обязана либо отвергнуть неудобные и непривычные истины психоанализа, либо принять их в свои объятия. В «Толковании сновидений» Фрейд достаточно откровенно признался, что в жизни ему был необходим не только друг, но и враг. Возможно, в такой регрессивной потребности присутствует след чрезмерного упрощения и откровенной грубости: воин, подобно ребенку, четко делит мир на героев и злодеев, чтобы поддержать боевой дух и оправдать собственную жестокость. Америка, придуманная Зигмундом Фрейдом, служила гигантским коллективным олицетворением врага, который, как он сам сказал, был ему необходим.
После Первой мировой войны у основателя психоанализа имелись собственные причины еще крепче цепляться за эту резкую, черно-белую карикатуру. Ему было противно «работать за доллар»[286]286
В конце 1920 года он написал дочери Анне, что только что отказался от предложения провести шесть месяцев в Нью-Йорке за 10 000 долларов. По оценке Фрейда, половина ушла бы на расходы. Конечно, даже 5000 долларов – это 2,5 миллиона австрийских крон, но, с учетом налогов и прочих издержек, он примерно столько мог бы заработать дома. «В другие времена, – раздраженно заметил мэтр, – ни один американец не посмел бы обратиться ко мне с таким предложением. Но они рассчитывают на нашу бедность [основатель психоанализа использовал древнееврейское слово Dalles] и хотят дешево нас купить» (Фрейд Анне Фрейд, 6 декабря 1920 года. Freud Collection, LC). Авт.
[Закрыть]. Эта зависимость уязвляла гордость мэтра, но он не мог найти способ избавиться от нее. В 20-х годах ХХ столетия американцы умоляли его принять их, и американцы же приносили твердую валюту, которая была нужна мэтру и которую он якобы презирал. Внутренние конфликты, порожденные этой безвыходной ситуацией, не ослабевали. Уже в 1932-м Фрейд признался Эйтингону: «Моя подозрительность в отношении Америки непобедима». Другими словами, его потребность в американцах росла, а вместе с ней росла враждебность. Если при анализе американцев он показывал в действии человеческую природу, то невольно показывал и свою природу.
В те годы, когда Фрейд работал вместе с Буллитом над исследованием личности Вудро Вильсона, цикл публичного признания и личных горестей ускорился. В конце июля 1930 года мэтру сообщили, что город Франкфурт присвоил ему престижную премию Гёте. Официальное письмо было торжественно подписано мэром Франкфурта. «В строгой естественно-научной манере, – начиналось оно в хвалебном, как и положено, стиле, – и в то же время смело интерпретируя созданные поэтами метафоры, ваше исследование открыло доступ к движущим силам души и тем самым предоставило возможность основательно понять происхождение и структуру многих форм культуры и лечить болезни, ключом к которым врачебное искусство до сих пор не обладало. Впрочем, ваша психология взбудоражила и обогатила не только медицину, но и мир представлений художника и духовника, историографа и воспитателя». Найдя соответствующие случаю метафоры, авторы письма указывали на зачатки психоанализа в очерке Гёте о природе, на мефистофелевскую тягу к срыванию всех завес, на его фаустовскую ненасытность, дополненную благоговением перед таящимися в бессознательном художественно-созидательными силами. В заключение не обошлось без некоторой доли самовосхваления: до сих пор Фрейду, великому ученому, писателю и борцу, было отказано в каких-либо внешних почестях. Это не совсем точно (за долгие годы работы он получил несколько знаков признания), но суть передавалась верно: наградами Зигмунд Фрейд не был избалован. В ноябре 1930 года он еще раз лаконично отметил в своем дневнике: «Определенно не прошел на Нобелевскую премию».
Таким образом, премия Гёте была для него словно луч солнца на хмуром, грозовом небе. Она на короткое время отвлекла внимание от борьбы с болезнями, лишающими возможности работать, и от наблюдений за быстро ухудшающейся обстановкой в мире. Прилагавшиеся к почетной премии 10000 рейхсмарок – около 2500 долларов – стали желанным дополнением к доходам мэтра. Немного озадаченный, что выбрали именно его, Фрейд считал, что тут сыграл роль любопытный факт: мэр Франкфурта был евреем, хотя и крещеным. Тем не менее основатель психоанализа искренне радовался, что премия носит имя его любимого Гёте. Основанная в 1927 году премия Гёте города Франкфурт уже присуждалась Стефану Георге, знаменитому поэту и культовой фигуре тех лет, Альберту Швейцеру, миссионеру и биографу Баха, а также философу Леопольду Циглеру. Зигмунд Фрейд оказался в хорошей компании. Он написал краткую благодарственную речь и предложил, чтобы на церемонии вручения премии его представляла дочь Анна. Сам он слишком слаб для поездки в Германию, сообщил Фрейд доктору Альфонсу Паке, секретарю попечительского совета премии, но полагал, что собравшиеся ничего при этом не потеряют: «…на мою дочь Анну конечно же приятнее смотреть и приятнее слушать ее, чем меня». Мэтр пересказал Джонсу впечатления дочери – церемония, которая проводилась 28 августа, в день рождения Гёте, была очень торжественной, и люди выражали уважение и симпатию к психоанализу.
Премия подняла настроение Фрейда, но несущественно и ненадолго. Он опасался, что эта приятная и громкая награда привлечет к нему ненужное внимание. «Я убежден, – писал мэтр Эрнесту Джонсу в конце августа, – что этот удивительный эпизод не будет иметь никаких последствий ни для Нобелевской премии, ни для общего отношения к психоанализу в Германии. Наоборот, я буду удивлен, если сопротивление не усилится». Это продолжало беспокоить основателя движения. Две недели спустя он сообщал Джонсу, что зарубежные газеты печатают тревожные сообщения о состоянии его здоровья, и связывал сие с присуждением ему премии Гёте: «Поэтому они торопятся покончить со мной»[287]287
В июне 1931 года он писал Джонсу: «Со времени присуждения мне премии имени Гёте мир изменил ко мне свое отношение в сторону неохотного признания, но лишь для того, чтобы показать мне, как мало все это в действительности значит. Каким контрастом всему этому были бы сносные протезы, которые не кричат во всю глотку о том, что они являются главной целью человеческого существования» (Фрейд Джонсу, 2 июня 1931 года. Продиктовано Анне Фрейд. Freud Collection, D2, LC). Авт.
[Закрыть]. Но, несмотря на возможную зависть других, премия Гёте дала Фрейду возможность, которой он особенно обрадовался: мэтр отправил Лу Андреас-Саломе – ей уже было под семьдесят, она часто болела и испытывала финансовые затруднения – 1000 рейхсмарок. В письме он постарался убедить фрау Лу принять их: «Так я могу уменьшить несправедливость, совершенную присуждением мне премии». Тот факт, что он по-прежнему способен чем-то помочь людям, помогал мэтру чувствовать себя нужным и, возможно, даже чуть моложе.
Фрейд нуждался в подобном утешении. Времена дальних поездок явно миновали. Бодрящие путешествия, которые он предпринимал с братом Александром, Ференци, Минной Бернайс и дочерью Анной в солнечный античный мир Средиземноморья, теперь остались только в воспоминаниях… Чтобы не уезжать далеко от своего хирурга, основатель психоанализа выбирал летние курорты поближе к Вене. Сигара была для него праздником, тайным и редким удовольствием, достойным упоминания. Весной 1930 года Фрейд сообщал Джонсу из Берлина, что у него развилась абсолютная непереносимость сигар. Джонс, прекрасно знавший о вредной привычке мэтра, посочувствовал ему, на что тот через несколько дней ответил письмом, исполненным надежды: «Только вчера я осторожно попробовал первую и, на данный момент, единственную сигару в день». В те месяцы, когда Фрейд работал в городе, он продолжал принимать молодых психоаналитиков, хотя и в меньшем количестве, а доктор Пихлер часто приходил к нему, чтобы проверить, не появились ли новые доброкачественные образования, и выполнял мелкие, но болезненные операции на подозрительных участках. В мае 1930 года, благодаря Лу Андреас-Саломе за трогательное письмо к его семьдесят четвертому дню рождения, мэтр жаловался, что платит высокую цену за то здоровье, которое у него еще осталось: «Я полностью отказался от курения, которое пятьдесят лет служило мне защитой и оружием в борьбе с жизнью. Поэтому я лучше, чем прежде, но не счастливее». Подписался он так: очень старый Фрейд. Это был знак нежности, словно бодрый взмах слегка дрожащей руки.
Тем временем основатель психоанализа продолжал терять близких друзей. Ушли старинные партнеры по тароку, с которыми он играл каждую субботу. Офтальмолог Леопольд Кенигштейн, приятель Фрейда со студенческих лет, умер в 1924-м, Людвиг Розенберг, еще один давний друг из числа врачей, – в 1928-м. За ним, в 1931 году, последовал Оскар Рие. Они принадлежали к тому узкому кругу людей, с кем Фрейд был на «ты». Из тех, кто не был связан с психоанализом, только археолог Эмануэль Леви, увлеченный древностями не меньше мэтра и, конечно, гораздо лучше разбиравшийся в них, продолжал навещать его – они вели долгие беседы.
Время не пощадило и семью. В сентябре 1930-го умерла мать Фрейда – в возрасте 95 лет. Он попрощался с ней в конце августа, в тот самый день, когда на Берггассе, 19, прибыла делегация из Франкфурта с дипломом премии Гёте. Амалия Фрейд до самого конца сохранила энергию, жажду жизни и тщеславие. Ее смерть вызвала мысли, которые основатель психоанализа долгое время гнал от себя. Всего годом раньше, когда скончалась мать Эйтингона, Фрейд в своем письме с соболезнованиями рассуждал, что утрата матери должна быть чем-то особенным, что нельзя сравнить ни с чем, и вызвать чувства, которые трудно описать. Теперь он переживал и пытался описать именно эти чувства.
«Естественно, невозможно сказать, какое воздействие такое переживание может вызвать в более глубоких областях, – писал мэтр Эрнесту Джонсу, – но на поверхности я могу обнаружить лишь две вещи: возрастание личной свободы, так как меня всегда страшила мысль о том, что она может услышать о моей смерти, и, второе, удовлетворение при мысли, что наконец она достигла избавления, право на которое заработала после такой длинной жизни». Он не испытывает печали, прибавил Фрейд, и не страдает. На похоронах матери основатель психоанализа не присутствовал. Оправдываясь перед братом Александром, он сказал, что чувствует себя не так хорошо, как думают другие, и не любит церемоний. Его представителем была дочь Анна, как и на вручении премии во Франкфурте двумя неделями раньше. «Ее место в моей жизни, – писал мэтр Эрнесту Джонсу, – едва ли можно переоценить». Главным чувством Фрейда в связи со смертью матери было облегчение. Теперь и он мог умереть.
Но жить и страдать – а иногда и радоваться – Фрейду предстояло еще долго. В январе 1931 года Дэвид Форсайт, один из его английских учеников, пользовавшийся уважением мэтра, пригласил его прочитать лекцию о зоологе Томасе Генри Гексли, популяризаторе науки и защитнике теории эволюции (кстати, за свои яркие полемические выступления Гексли получил прозвище Бульдог Дарвина). Мероприятие было престижное, проводилось раз в два года, и Форсайт описывал его как высшую, в пределах нашего понимания, оценку научной работы, которой была посвящена жизнь основателя психоанализа. Он предусмотрительно приложил к письму список ораторов предыдущих лет. Среди них был великий английский хирург Джозеф Листер, прославившийся введением анестезии, и знаменитый русский физиолог Иван Петрович Павлов. Фрейд прекрасно понимал, что значит это приглашение. «Это великая честь, – сообщал он Эйтингону, – и после Р. Вирхова, в 1898 году, такого приглашения не получал ни один немец». Несмотря на все раздражительные и безапелляционные заявления, в душе Фрейд все еще продолжал ассоциировать себя с немецкой культурой. Но, к его великому сожалению, от лекции пришлось отказаться – приглашение опоздало на несколько лет. Он просто уже не мог путешествовать и не мог выступать с лекциями. В конце апреля мэтру пришлось перенести очередную болезненную хирургическую манипуляцию, которая отняла у него много сил – и физических, и психологических. Он чувствовал себя так же, как в 1923 году, перед серьезной операцией, – его жизнь была под угрозой. «Эта последняя болезнь, – чуть позже признался Фрейд Эрнесту Джонсу, – уничтожила ощущение безопасности, которым я наслаждался последние 8 лет». И еще основатель психоанализа жаловался, что лишился почти всех сил, необходимых для работы. Он был слабым, немощным, не мог разговаривать, писал Фрейд Арнольду Цвейгу. «Не слишком приятные остатки реальности». Мэтр вернулся из больницы только 5 мая, накануне своего семьдесят пятого дня рождения.
На следующий день начались торжества, которых Фрейд изо всех сил старался избежать, но у него ничего не вышло. Они нахлынули на него, писал мэтр Лу Андреас-Саломе, как потоп. Основатель психоанализа мог запретить празднование, но не остановить лавину писем от друзей и незнакомцев, психоаналитиков, психиатров и восхищенных почитателей. Телеграммы приходили от организаций и государственных деятелей, и квартира на Берггассе, 19, была завалена цветами. Немецкий конгресс психотерапевтов представил доклады в его честь, а почитатели в Нью-Йорке организовали праздничный банкет в отеле Ritz-Carlton, где речи произносили Алансон Уайт, А.А. Брилл, а затем такие знаменитости, как Теодор Драйзер и Кларенс Дэрроу. «Мужчины и женщины из числа психоаналитиков, врачей и социологов, – говорилось в телеграмме, отправленной Фрейду присутствующими, – собрались в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать 75-летие отважного исследователя, который открыл подводные континенты «Я» и направил по новому пути и науку, и саму жизнь». Об этом дне помнили все – и мэр Франкфурта, и Альфонс Паке, и Ромен Роллан. Особенно теплое письмо прислал Альберт Эйнштейн: каждый вторник он читал Фрейда с одной своей знакомой и не переставал восхищаться красотой и ясностью его произведений. Однако победа идей Фрейда над скепсисом Эйнштейна была неполной. Будучи «толстокожим», отмечал Эйнштейн, он колебался между верой и неверием. Клуб Герцля с благоговением приветствовал Фрейда как «сына нашего народа, чей семьдесят пятый день рождения является днем радости и гордости для всего еврейства», а венские учреждения, такие как клиника психиатрии и неврологии и Ассоциация прикладной психопатологии, прислали ему свои самые теплые поздравления.
Некоторые из этих восхвалений основатель психоанализа принимал равнодушно, а некоторые даже с отвращением. Когда в марте Общество врачей предложило ему почетное членство, мэтр с горечью вспоминал обвинения, которые когда-то предъявлял ему медицинский истеблишмент. В письме Эйтингону он назвал данное предложение отвратительной, трусливой реакцией на его недавний успех. Фрейд считал, что должен согласиться, ответив холодным благодарственным письмом. Хотя одно поздравление, вероятно, его удивило. Его автором был Давид Фейхтванг, главный раввин Вены, который заявлял, что автор «Будущего одной иллюзии» ему ближе, чем верующие. Без такой близости Зигмунд Фрейд мог бы обойтись.
Постепенно поток поздравлений уменьшился, и основатель психоанализа приступил к горé сообщений, требовавших ответа. Но впереди было еще одно торжество, честь, которую он ценил намного выше, чем юбилей, и которая вызывала у него явную ностальгию. Как гласило отпечатанное приглашение на немного неуклюжем немецком, в воскресенье 25 октября должно было состояться открытие мемориальной доски на доме, где родился профессор доктор Зигмунд Фрейд, в Пршиборе – Фрайберге, Моравия. Разумеется, сам мэтр не смог присутствовать, но численность и состав его делегации – сын Мартин и дочь Анна, брат Александр и верные сторонники Пауль Федерн и Макс Эйтингон – указывают, какое значение он придавал тому событию. Маленький город был украшен флагами, и Анна Фрейд снова, в который раз за эти годы, произнесла речь вместо отца. Письмо, прочитанное ею, было кратким, но выразительным. Зигмунд Фрейд благодарил мэра и всех присутствующих за ту честь, которая ему оказана – при жизни и несмотря на то, что мир все еще не определился относительно ценности его работы. Он покинул Фрайберг трехлетним и вернулся, насколько ему помнится, в шестнадцать, во время школьных каникул. Теперь, в возрасте 75 лет, ему трудно перенестись в те далекие годы, но в одном он уверен: «Глубоко внутри меня, скрытый от всех, все еще живет счастливый ребенок из Фрайберга, первенец молодой матери, получивший свои неизгладимые впечатления от земли и воздуха тех мест».
В день своего 75-летия Фрейд чувствовал себя слишком измученным, чтобы видеть кого-то кроме ближайших родственников. Исключением – возможно, единственным – стал Шандор Ференци, который в это время был в Вене. Мэтр уделил ему около двух минут, что явилось свидетельством особых отношений, которые связывали их более двух десятилетий. Ференци был преданным слушателем Фрейда, не боявшимся полетов его фантазии, и, что еще важнее, автором блестящих работ. Тем не менее уже несколько лет в их отношениях наблюдалось заметное охлаждение. Они никогда не ссорились, но отличавшая Ференци ненасытная жажда дружеского общения и поддержки, не говоря уж о тлеющей обиде на обожаемого мэтра, давали себя знать. Временами дружба приносила обоим не меньше мучений, чем удовольствия. Анализируемый Фрейдом, Ференци эксплуатировал свою привилегию быть откровенным в беседах и письмах. Основатель психоанализа, со своей стороны, часто выглядел смущенным, а временами раздраженным отцом. В 1922 году Ференци размышлял, немного углубившись в самоанализ, почему не пишет Фрейду чаще: «Не подлежит сомнению, что я также не мог сопротивляться искушению «сделать вам подарок» в виде полной меры чрезмерно нежных и чрезмерно чувствительных эмоций, уместных в отношении моего биологического отца. Стадия, на которой я теперь, похоже, обнаружил себя, – это постоянно откладываемое отвыкание и попытка смириться с судьбой». Он считал, что с этого момента станет более приятным коллегой, чем был в том неудачном путешествии на юг, которое они с Фрейдом предприняли до войны.