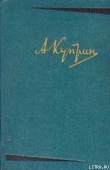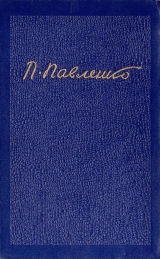
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
– Я много раз слышал это от тебя.
– Ну, и как? Я не прав? Пролей кровь, если тебе страшно, – и станешь смелым. Трусит только тот, кто мало пролил крови.
– Я не трушу, я болен.
– Все равно. Нет лучшего средства стать на ноги, как кого-нибудь убить. Когда сердце почувствует, что ему все можно, оно забьется у тебя иначе.
– Есть много других средств…
– Нет других средств, – сказал Штарк. Он раскладывал в тарелки картофель с капустой и размахивал ножом, как капельмейстер. – Картофель чуть-чуть подморожен. Но выручает уксус. Нет других средств. Кровь – одно средство. Понял? Если ты немец, это должно доставлять тебе удовольствие. Когда она течет, лоснясь, как бархат… Да что рассказывать! Убей и насладись… Будешь здоров…
Он поднял стакан с пивом, в который уже заранее влил две рюмки коньяку, и поболтал им в воздухе. Потом, закрыв глаза, выпил и вздохнул с удовлетворением.
– Кроме того, я тебе скажу, убивать надо систематически. Когда долго не проливаешь крови, это вредно.
– Может быть, может быть, – произнес капитан с безразличной усмешкой.
– И наконец, капитан, если мы будем воротить нос от крови, мы с тобой погибнем. Надо привыкнуть к тому, что мы еще много прольем ее. Я пьян, но говорю верно. Согласен, что я говорю верно? То-то. Я всегда говорю верно, когда пьян.
Солдаты уже спали. Дневальный вытанцовывал чечетку на мокрой веранде. Ночь была очень длинная. Офицеры пили, пили и все-таки никак не могли пересидеть ее и, наконец, заснули, не раздеваясь, положив головы на стол.
А ночь и впрямь была темна по-партизански. Еще с вечера Коротеев добрался к пруду, но не пересекал его до совершенной темноты. Лишь заполночь пересек он пруд и ползком, в сопровождении мальчика – сынишки домохозяина, у которого пересиживал вечер, полз мимо часового в санаторный парк. Расстояние было невелико, около двухсот метров, но одолевать его пришлось более часа. Хрустни под телом ветка, зашурши сухой лист – и все кончено, и бежать некуда, смерть.
За исключением этого смертного пути, место было замечательное, под самым носом у немцев, и учитель был здорово осведомлен.
Ветер в эту ночь партизанил вовсю. Часовой не слышал, как проползли двое. В заборе щель. Затем аллея. Здесь опасность уже гораздо меньше, разве что какая-нибудь случайная встреча.
Теперь самое главное: спуститься по лестнице в подвал, пролезть узким ходом, почти без воздуха, – и вот они в сыром подвальном коридоре. Тут можно, закрыв рот руками, и кашлянуть, и отдышаться. Потом тихий стук. Молчание. Второй стук. Молчание. Третий стук. И черная дверь из черного коридора бесшумно открывается в новое черное пространство.
Коротеева бросило в пот. Никто не встретил их ни одним, словом, и, казалось, кроме него и мальчика, нет ни одной живой души в этом смрадном подземелье.
Но тотчас же он услышал едва уловимый шелест человеческих губ:
– Ты, Вася?
– Я, – так же тихо ответил мальчик.
– Ты привел кого-то? Вас двое?
– Да.
И дверь тихо-тихо закрылась за ними. Коротеев дрожал. Голос, по-видимому учителя, несколько громче произнес:
– Вы ко мне?
– Да, – ответил Коротеев, – от Медникова.
– По какому делу?
– Мне к Александру Ивановичу.
Молчание.
– Мне нужно в его отряд, – сказал Коротеев.
– Отряда больше нет, – услышал он.
– Что же мне делать? Вы не можете зажечь свет, чтобы мы поговорили с вами?
– Нет, не могу. Вам нельзя быть у меня: я открыт немцами. Слышишь, Вася? Не ходи больше ко мне.
– Зажгите свет, я умоляю, – сказал Коротеев. – Вы должны мне посоветовать. Я же не могу вернуться в город, не побывав в отряде. Вы слышите меня?
– Да, я зажгу свет, но вы одни останетесь со мною, вашего проводника я сейчас отпущу… Уходи, Вася.
Шорох двери. Тишина. Чирканье спички.
– У меня сегодня большое горе. При свете вы увидите тяжелую картину, возьмите себя в руки, – услышал Коротеев, и, когда зажегся свет, он призакрыл глаза.
Помещение было маленьким, тесным. Высокий худой учитель укрепил свечу в горлышке бутылки.
– В городе вы, должно быть, привыкли ко многому, и мое горе едва ли покажется вам серьезным, но поглядите…
И Коротеев взглянул, куда показал рукою учитель.
Три маленьких тела лежали на куче соломы, небрежно покрытой темной дерюгой. «Нет, это же кровь – не дерюга», – сразу разобрался Коротеев.
– Один жив, но что я буду с ним делать? – прошептал учитель. – Я кое-как перевязал его. Вы не врач, кстати? Жаль. Утром они его все равно умертвят.
Не было сил оторвать взгляд от детских тел. Одно из них, скрюченное предсмертной болью, было таким худым, что как бы всосало в себя рубашонку. Лица не было видно, оно было прикрыто шапкой, но руки с бледными пальчиками, вымазанными в чернилах, еще казались живыми.
Коротеев коснулся их. Они были уже тверды.
– Этот мальчик – любимец мой, – сказал учитель. – Способный, даровитый. Все время писал отцу письма на фронт. А как остались мы у немца, он вел дневник. Какая трогательная и страшная книга! Ребенок на войне… Такой книги еще не было в мире… Ему попало первому, но, думаю, все кончилось у него быстро. Шесть пуль в голову – много даже для такой умной головы, как его. А этот… – и учитель потянул Коротеева за плечо ко второму телу.
Оно лежало навзничь, свет нервно бегал по его лицу, словно ища лазейки внутрь, туда, где еще, может быть, теплилась жизнь. Белый помятый вихор, белый крутой лоб, и голубая щелка страшных своей неподвижностью глаз, и губы, умершие на вскрике, и белые ряды зубов… и все такое жалкое, страшное, как всегда бывает страшна детская гибель.
– Этого я октябрил когда-то. Сирота. Жил у бабки. Ему шел девятый год. Какой поразительной душевной чистоты был он, если б вы знали…
Коротеев взял учителя за плечо.
– Как это произошло?
– Сегодня один из здешних офицеров случайно нашел нас. Я ведь тут сторожем числился. Ребятки, по старой памяти, лазали ко мне. То расскажи им, как война идет, то сказку придумай. Сколько раз запрещал им ходить ко мне – лезут все-таки. А ведь и мне без них было тяжело. Выходить на деревню не могу, так что через них только и была связь с миром…
Коротеев остановил его:
– Надо думать, как выбраться отсюда.
Учитель с трудом понял, что ему говорит Коротеев.
– Да, да, конечно, – ответил он. – Но я еще не сказал вам, что и я ранен тоже. И плохо ранен – в грудь.
Он погладил рукой лицо мальчика, которого когда-то октябрил.
– Милый мой, сирота ты моя родная…
Коротеев понял, что нужно немедленно что-то предпринимать. «Бросить третьего раненого мальчугана, ничего не поделаешь, вытащить учителя и уйти». Он взглянул на третьего мальчика и виновато отвел глаза в сторону. Кидалось, тот спит или в обмороке. Но два маленьких заплаканных глаза не мигая смотрели на Коротеева со страхом и вместе с тем с трепетной надеждой.
– Вы способны итти? – спросил Коротеев учителя.
– Могу попробовать.
– Вставайте. Я возьму раненого, а вы пойдете самостоятельно.
– Куда же? – спросил учитель. – Тело Коростелева только что опознавали в этом селе. Отряд его рассеян. По-видимому, там завелся предатель. Я ничего не знаю, кроме того, что с предателем связан некий Бочаров. Куда ж мы пройдем? На деревню? Чтобы ее наутро вырезали?
– В другой отряд.
Учитель поглядел на раненого.
– У Константина перебито плечо и прострелена нога, кажется, с повреждением кости. Кроме того, он раздет. Этот палач снял с него даже мокрый от крови валенок, а на дворе холодно.
– Вставайте и пойдем.
– Мы приняли с Константином другое решение, – сказал учитель. – Мы их подожжем сегодня, спалим весь дом – вот и все.
– Мальчик из этой деревни?
– Ага, – тоненько, радостным, дрожащим голосом пискнул Константин. – Чупрова сын я.
– Так вот. Я дорогу помню. Я заберу Константина и донесу его до дому, сдам отцу. Чупров сможет проводить меня к партизанам или по крайней мере объяснить дорогу?
– Папка-то? – бойчей стал Константин. – Папка-то может. Он у Коростелева связной, все знает… До емельковского лесника Петра Семеновича дойдешь, а там скажут.
– А я их сожгу, спалю, – сказал учитель. – Я их сегодня погрею, Костя. За всех вас, ребятишки мои родные…
Он обернулся к Коротееву.
– Убивать детей – это ведь страшно. Не смотрите никогда, как убивают детей. В маленькое, слабое тельце вгоняют свинец, и оно тает на глазах. Дети – они даже сопротивляться боли не умеют, они – как стеклянные – бьются сразу…
Глаза Коротеева давно были полны слез, и он едва сдерживался от рыданий.
– Теперь о вас, – с трудом сказал он. – Чем вам помочь?
– Все свое я сделаю сам, – ответил учитель, проводя рукой по глазам. – По совести говоря, весь вопрос был в Константине. Но если вы возьмете его, тогда все.
– Я бы взял и вас, но не под силу.
– Понятно. А дело – всегда дело. На всякий случай, если доберетесь до Чупрова, скажите ему – сегодня я жгу немцев.
– Хорошо.
Коротеев подобрался к раненому мальчику и взял его на руки. Дрожащие руки доверчиво охватили его шею. Коротеев уткнулся в ручонку и заплакал, заплакал навзрыд.
– Тихо, не плачь, дядя, – услышал он тихий шопот на ухо. – Выберемся, дяденька, ты только меня не бросай.
И, целуя грязные, шершавые детские пальцы, Коротеев едва выждал, пока учитель погасит свет и выпустит их в коридор. И как вышел в опасность – забыл обо всем. Сказал только одно:
– Молчи. Как бы ни было больно – молчи.
И Константин в ответ только прижал к себе его голову.
С тех пор как Сухов отправился в штаб фронта, прошло много дней. О нем не было ни слуху, ни духу. Между тем народ сходился к Петру Семеновичу Невскому со всех сторон, и надо было решать, как поступить с отрядом. Чупров настаивал на том, чтобы не ждать Сухова, а самим взяться за формирование, и писал, что такого же мнения и представитель райкома, который сейчас живет у него, у Чупрова, и скоро будет в штабе. Невский медлил.
Но однажды глубокою ночью Чупров постучался в строжку лесника и, не снимая тулупа, не сбив снега с валенок, вошел в горницу, сердито разбудил Невского и, показывая рукой на входящего Коротеева, сказал:
– Вот это и есть делегат из райкома, я тебе писал. Вот, пожалуйста, обсудите положение.
Петр Семенович, спавший одетым на печи, быстро спустился вниз.
– С прибытием. В чем дело?
Коротеев поздоровался, раскрыл блокнотик и, морща лоб, перелистал его.
– Я, Петр Семенович, к вам двух колхозников по срочному делу привез.
– А на какой предмет? – спросил Невский.
– Как на какой предмет? – Коротеев откинулся и удивленно поглядел на Невского. – А, как по-вашему, политической работой будем мы заниматься или нет?
– Политической? – переспросил Невский.
– Вот именно.
– Вам видней, поскольку вы из райкома, – ответил лесник.
– Значит, будем вести, – закончил Коротеев.
Вошли двое колхозников. Невский взглянул на них – обоих он знал лет десять.
– Вот они обращаются к вам за помощью, – сказал Коротеев. – Немецкий комендант велел сдать всех коней к завтрашнему полдню, по двум колхозам это даст семьдесят пять коней и семьдесят пять саней…
– Выручи, Семеныч, угони наших лошадок к себе в лес, – сказал один из пришедших. – Сделай набег на нас, а мы организуемся, чтобы тебе полегче было.
– Ежели ты не поможешь, больше не к кому, – сказал и второй.
– Как, Федор? – спросил Невский Чупрова. – Ты что скажешь?
– Да чего тут говорить, угнать – и все. Подавай приказ, завтра сделаем. Только вот при тебе предупреждаю: будет какая измена – они первые под наган. Это уж так условимся.
Колхозники встали.
– Спасибо за выручку… Пойдем, Федор, договоримся.
Невский с Коротеевым остались одни. Наталья и Павел спали на другой половине, их дружный храп отдаленно доносился, как скрип раскрытых на ветру ворот.
Коротеев долго не начинал разговора, выжидая, не начнет ли Невский. И точно – лесник не выдержал.
– Бери-ка ты, товарищ Коротеев, команду, а я у тебя на послуге буду, – сказал он, взял Коротеева за руку и хлопнул ладонь о ладонь. – Какой я командир?
– Ты командир неплохой, народ тебя знает и верит тебе, – так же, как и Невский, на «ты», просто ответил Коротеев. – Мое дело – помочь тебе.
– Дал бы ты мне книжку какую или инструкцию… Может, написано где обо всем, как действовать?
– Книг много, да тебе они сейчас не нужны, Петр Семенович.
– Как не нужны? Партизанское дело не новое, оно исстари велось, опыт есть.
– Нет, дорогой мой, никакого опыта для нашей войны. Таких партизан, как мы, было совсем не так уж много. Те, что были, мало на нас похожи. Ну что ж, были партизаны и у Петра Первого, их действия против Карла Двенадцатого на Украине отличались большим размахом, да кто они были – драгуны, часть регулярной армии, они только на время отрывались от основных войск, да и решали несложные тактические задачи. Австрийцы, в эпоху войн с пруссаками Фридриха Великого, создали тип партизана, уже более близкий к нам. Венгры, хорваты и сербы пронеслись тогда через всю Германию и даже перебрались за Рейн. Да что тебе сказать! Наш Александр Васильевич Суворов первую свою известность получил за партизанский набег на Ландсберг в Семилетнюю войну… А Платов, а Денис Давыдов, а Фигнер!.. Большие люди. Нам: с тобой надо и у них учиться, и у старостихи Василисы, – слыхал о такой? – да она, к сожалению, дневников после себя не оставила. Нам с тобой надо учиться и у старых большевиков-подпольщиков, у наших партизан гражданской войны, а больше всего – у самих себя… Мы с тобой обязаны и о посевной думать, и школы мы обязаны открывать… Кстати, сколько школ у тебя закрыто немцами?
Невский с грустной нежностью поглядел на Коротеева.
– Двадцать три школы, – сказал Коротеев, заглянув в блокнот. – Видишь, какое оно дело?
– Вижу. Не по мне.
– Н-ну… Лишь бы дым прямо шел, не беда, что труба кривая, – рассмеялся Коротеев. – Не годы растят, а работа. Захочешь – справишься.
– А что, Никита Васильевич, если мне самому в штаб сходить? – спросил Невский. – Вот я слушаю тебя и слушаю, и страх меня берет за этого Сухова. Сходить разве мне самому?
– Я хотел было сам тебе это предложить, да боялся, как бы ты не понял моего предложения… ну, как, понимаешь… как недоверие, что ли. А, вообще-то говоря, сходить тебе просто необходимо.
– Завтра же и пойду. А ты все на себя возьми.
– Завтра – так завтра. Хорошо. В таком случае я хочу тебя поставить в известность, что произойдет, пока тебя не будет.
– Загадал, что ли?
– Зачем загадал? Запланировал. А вместо себя ты все-таки Федора Чупрова поставь. Так лучше.
И Коротеев, опять перелистав свой блокнот, прочел план действий примерно на десять дней, составленный им еще вчера.
Было намечено в плане несколько докладов на сельских собраниях о положении на фронтах, три приговора над предателями, которые он тоже хотел провести через сельские собрания, набег на авторемонтную немецкую мастерскую и – самое серьезное – захват железнодорожного полустанка X., где, по данным разведки, стоял только что прибывший эшелон с провиантом, для разгрузки которого и собирали крестьянских лошадей.
– Быть тебе генералом, Никита Васильевич, с такой головой, – и лесник сжал Коротеева в своих могучих руках.
Спустя три дня Петр Семенович сидел в штабе у одного небольшого начальника, ведающего партизанами, пил чай внакладку и рассказывал о делах отряда. Сухов не появлялся в штабе.
Ночью, когда рассказ его был перепечатан на машинке, начальник наскоро вымыл руки, надушился одеколоном, пришил чистый воротничок к гимнастерке и, подмигивая Петру Семеновичу, поехал с ним в штаб.
– А духи-то зачем на себя вылил? – с любопытством спросил Петр Семенович.
– Захарьин, брат! – многозначительно ответил начальник.
– Кто это Захарьин?
– Не слыхал? Ну, сам увидишь, – и он захохотал, очевидно предвидя впереди что-то очень веселое.
Ехали вдоль красивого озера с капризным профилем. Стояла полная луна. Вода была словно никелирована. Белый монастырь на острове нежно сиял на голубом лунном фоне.
Обгоняя воинские колонны и встречаясь с колоннами беженцев, объезжая трупы павших колхозных коров, сталкиваясь с брошенными телегами и подскакивая на ямках для мин, они довольно быстро добрались до штаба.
Ждать приема пришлось недолго. Но Петр Семенович, утомленный опасной дорогой из отряда в штаб, после горячего чая с водкой, которым угостил его небольшой начальник, и несколько волнуясь в ожидании ответственной встречи, стал засыпать на глазах у всех. Когда заснул всерьез, их как раз и вызвали.
Разговаривать с ними должен был знаменитый Захарьин, комиссар, только что приехавший из Москвы.
Когда сегодня днем небольшой начальник по партизанским делам доложил ему о гибели Коростелева и что-то промямлил относительно плохой связи с отрядом, Захарьин велел немедленно доставить к нему емельковского лесника.
– Ну, Петр Семеныч, следи за собой, – успел шепнуть Невскому начальник и, шумно вобрав в себя воздух, нежным и ласковым движением, приоткрыл дверь в кабинет.
Высокий, плотный человек встретил их на пороге кабинета. Он нетерпеливо поводил плечами, точно готовился к рукопашной.
– Из отряда Коростелева? – и, не ожидая ответа: – Сами кто будете, как зовут?
– В обиходе зовусь Емельковым, поскольку я емельковский участковый лесник. А по бумагам звонко значусь – Петр Семенович Невский.
Захарьин, усмехнувшись и осторожно поправляя маленькое пенсне на своем широком энергичном лице, сказал:
– Вот если б вы так воевали, как вам по фамилии надлежит… хорошо было бы. Садитесь. Рассказывайте.
И Петр Семенович начал снова рассказывать то, что он только что доложил и что было уже напечатано и лежало перед начальником, но Захарьин то и дело перебивал его, задавая вопрос за вопросом, и доклад благодаря им становился другим, новым – все обыкновенное приобретало теперь, в новом повествовании, гораздо большее значение и смысл.
Захарьин расспрашивал о настроении жителей, о положении с тяглом, о том, есть ли соль и спички, сколько закрыто школ, то есть как раз о том, что Невский считал не партизанским делом и что знал кое-как.
Чистенькая, аккуратная девушка принесла два стакана чаю и бутерброды, и Петр Семенович, не сообразив, что один стакан принесен Захарьину, выпил оба. Тогда немного погодя она принесла еще два стакана и, с укоризною поглядев на лесника, теперь уже поставила стаканы не вместе, а порознь, перед каждым в отдельности.
«Нехорошо», – подумал Петр Семенович и, вспотев от смущения, стал быстро заканчивать свой доклад.
Захарьин встал, осторожненько положил пенсне на тетрадь, сказал, поднимая плечо:
– В любом деле главное – не терять перспективы. Кто ее потерял, тот пропал. Это твердо запомните…
Он прошелся по комнате, вздрагивая плечом, приблизился к карте, занимавшей всю боковую стену, и прочертил рукой волнистую линию от уровня своей головы вниз.
– Надо, чтобы там всюду земля горела под их ногами… Мстить надо конкретно. Убили у вас ребенка – мстите именно за него, не вообще за ребят, а за этого, с именем и фамилией. Сожгли деревню? Мстите за нее. Наш колхозник – человек точный. Когда за его избу, за его сынишку мстят, он это всей душой поймет, он и сам возьмет винтовку. Как, товарищ Невский, возьмет?
Петр Семенович показал рукой, что, мол, возьмет безусловно.
Захарьин продолжал:
– Партизанская война – на народе. Там ваш театр войны. Где горе, где беда – там вы нужны более всего. Партизан – общественный деятель, не забывайте. Не только сражаться, но и воспитывать вокруг себя людей политически. И главное – ни одного дня без борьбы!
Командиром коростелевского отряда назначаю вас. Отдохните и возвращайтесь к себе… Сводки посылайте короткие и правильные. Не бойтесь давать нам советы и предложения, делитесь опытом. Война – это все время поиски нового. Кто зевает – проигрывает. Солдат куется в бою, мы, начальники, – тоже. Кто рассчитывает получить все готовое – ошибается… От неудач не расстраивайтесь. У вас еще будут неудачи, но на этом проверится и отберется народ…
Петр Семенович встал и первый протянул руку этому страшному Захарьину и, – как уж вышло, не помнил, – сказал ему:
– Дорогой товарищ комиссар, золотые твои слова. Так, не разжимая рук, вышли они в коридор, как два родных брата.
Сонные порученцы встали при их появлении.
– Проводите к полковнику Богодухову. Он уже знает.
…Светало, когда, получив все нужные ему сведения, Невский возвращался из штаба.
Где-то близко работали зенитки.
В голубом, но уже потускневшем небе слышен был рокот моторов.
На чистом горизонте нежно розовели зарева горящих деревень.
Невский закрыл глаза.
– А у меня сейчас бой!.. Что-то там – увидеть бы!
4
Чупров благополучно «отбил» у двух колхозов семьдесят пять коней с санями и держал их наготове в лесу. Набег на коней был первой частью налета на полустанок. Немцы, торопясь разгрузить эшелон, быстро собрали десятка два саней по всем соседним колхозам и с конвоем из четырех солдат направили их к полустанку. Не успели те подойти к месту, как их нагнал другой обоз из двадцати саней, с Коротеевым в немецкой форме.
Стали грузиться сразу сорок саней. Час спустя подошел третий обоз, стали грузить и на него.
С последними пятнадцатью санями прибыл Чупров. Начинало темнеть.
– Наше время подходит, – шепнул Чупров Коротееву, который, поминутно козыряя немцам, спокойно выправлял какие-то бумаги на груз и только едва кивнул головой.
Партизаны таскали кули и ящики из вагонов и укладывали на сани. Те, что погрузились раньше, вытянулись на дороге за полустанком, поджидая остальных.
Два солдата, пританцовывая на морозе, стояли в голове обоза.
Все немцы были на самом полустанке, в комнате, где выписывались документы, или у вагонов, возле которых они велели зажечь костры, чтобы видней было отбирать груз.
Чупров прошел вдоль поезда. Ребята стояли, где надо. Коротеев, выправив документы, шел, чеканя шаг, к обозу. Тогда Чупров быстрым и легким движением вынул из-за пазухи гранату и метнул ее в окно станционного здания.
Разом загрохотало и у эшелона. Полетели вверх поленья из костров, затрещали вагоны, вспыхнуло сено, как бы невзначай наваленное у вагонов, и застучали скороговоркой партизанские автоматы.
Чупров, бросив гранату в станционное здание, увидел, что там сразу погас свет, и, прислонясь к ящику, лежавшему на платформе, внимательно держал здание под контролем.
Он не оглядывался на то, что происходит на путях, а вслушивался. Но когда занялся озорным огнем близко стоящий возле него вагон, оставаться на свету стало рискованно, и он отбежал к киоску.
Положение сразу стало яснее.
Поезд горел уже почти весь. Немцы, успевшие живыми выбраться из вагонов, стреляли, укрывшись за полотно дороги.
Слышны были робкие очереди и на дороге, у обоза.
– Федор! – услышал он крик. – Пора или нет?
– Огня мало. Погасят, сволочи, – ответил Чупров.
– Огонь сейчас будет. Спирт загорится.
– Подождем.
Кривоногий Федорченков пробежал, согнувшись, вдоль поезда, бросая бутылки с бензином в настежь открытые вагоны. Огонь сразу повеселел. Миша Буряев поддал огня в хвосте поезда. Коробейник, любивший делать все медленно и точно нехотя, поджег выход из станционного помещения.
– Ну, теперь пора! – крикнул Чупров. – Все ко мне!
И, хоронясь за каждый выступ стены, припадая к земле, партизаны проскочили освещенную полосу и скрылись за домами железнодорожного поселка.
Выстрелы немцев сразу усилились, охватили полустанок со всех сторон, приближаясь к дороге.
– Бегом! – скомандовал Чупров.
Он сбросил с себя длинную волчью шубу, побежал в одной куртке.
– Замерзнешь, Федор, подними шубу! – кричали ему.
– Ничего!.. Хоть на час, да вскачь!
За последним бараком стояли розвальни, запряженные парой коней.
– Груня?
– Я, дядя.
– Сбрось наши лыжи и гони вовсю! Обоз далеко?
– Обоз хорош! – просмеялась Груня, племянница Чупрова, и щелкнула языком. – Ну, родные!..
Кони уже неслись.
Партизаны быстро порасхватали лыжи.
– Целиной!
– Есть целиной!
– А, может, ну их к чертям, пойдем трактом?.. На чем они будут догонять?
– Тихо. Не разговаривать. Пошли целиной.
Когда отошли километра за три, Чупров спросил:
– А что грузили-то, известно?
– «Тринкен» главным образом, выпивку, – не без удовольствия сообщил Федорченков.
– И газеты есть и консервы. Зачем же! Умно подобрано.
– Будет теперь Наталье работеха, – засмеялся Чупров. – Сейчас она это в двадцать пять ящиков позароет, потом не допросишься. Я у нее недавно муки просил, ну, дала она, как говорится, адрес, нашел я то место, копаю – спирт. Я к ней. Ошибка, говорю. Покраснела, бедная. «Извините, говорит, дядя Федор», – и дает мне другое место. Что за чорт! Опять спирт.
– Везет тебе! – сказал Федорченков. – Со мной вот таких чудес никогда не бывает. Хоть бы разок ошиблась.
Выстрелы давно замолкли за спинами партизан, а зарево сильными рывками поднималось, подпрыгивало все выше и выше, часто вздрагивало и темнело.
Точно сговорясь, партизаны не поминали о набеге. Поговорив о том, о сем, о пустяках, они замолчали, потому что итти было трудно, а они устали и были голодны. Но, не глядя на их усталость, Чупров упрямо вел группу по целине.
5
Был вечер. Наталья не зажигала огня. Прислонясь спиною к печи, сидела она на низенькой табуретке и, закутавшись в шаль, громко разучивала наизусть:
– Картошки двенадцать мер на Иваньковском кладбище… двенадцать мер под могилой с чугунным крестом… У колодца на тракте патроны… патроны у колодца на тракте… Керосину пять бочек…
Дверь в сенях шумно раскрылась, вбежал возбужденный Павел.
– Где лыжи?
– Где-то отец схоронил, не знаю. Куда собрался?
– Сбегаю к большой сторожке. Слышно – саней пятнадцать туда прошло, голоса слышны, песни.
– На полатях лыжи. Да и мои сними, вместе сходим, одна боюсь оставаться.
– Боюсь, боюсь, – недовольно проворчал Павел. – Я же говорил, как тебе поступать. Вышла б за Сухова и горя не знала. Да и сейчас в общем не поздно. Вернется он из штаба, отряд наверняка распустит, в Москву поедет. Вот и я бы с тобой.
– Молчал бы уж со своими советами, – сказала Наталья.
Лес был подернут вечернею мглою, все таяло в нем, все терялось, и даже голос падал у самых губ, не распространяясь в воздухе.
Шли осторожно, боязливо. Не доходя версты до старой поляны, где стояла их большая изба, почувствовали запах дыма, и мгла впереди пожелтела.
Пять или шесть костров трещали на поляне, и черные силуэты людей со светящимися головами качались вокруг них.
– Поди-ка, разнюхай, – сказал Павел сестре. – Смотри, только к мужикам особо не суйся, а то дадут тебе пряника.
Но тут же усовестился и, остановив сестру, вышел из леса сам.
Наталья подумала и двинулась следом за ним. И только вышла на поляну, поняла – Сухов здесь.
Он – Наталья увидела сразу – стоял на крылечке, в новом черном полушубке и серой барашковой папахе, и держал речь. Наталья оглянулась – Павла нигде не было, и она одна подошла к последнему костру и стала в сторонке, за чьими-то санями, груженными мясом.
Поляна напоминала колхозный рынок в канун базарного дня. Тесными рядами стояли розвальни, груженные мясом и мукою. Мычали телята. Попискивали в лукошках куры. Из раскрытых кадушек розово-белыми комьями выглядывала мороженая клюква. В пахнущих сушками рогожных кулях поблескивала рыба. На кулях лежали завернутые в тряпье винтовки, а у двух саней торчало по станковому пулемету. Коростелевские партизаны и приехавшие с ними вступать в отряд новички набивали патронами пулеметные ленты и сушили у костров валенки. Мальчишки, приехавшие со старшими, возбужденно носили воду, наливали ее в черные, прокопченные на кострах ведра, набрасывали тулупы и одеяла на прозябших коней и, перекликаясь друг с другом, помогали отцам стряпать ужин.
Все было возбужденно, приподнято и, несмотря на будничную обычность, звучало новыми голосами. Наталья подошла ближе к сторожке.
– Вижу я, без меня отклонения от директивы произошли, – услышала она голос Сухова. – Откуда народ, зачем? Кто велел собирать? Был я в штабе и получил указание отвести партизан за линию фронта. Так и сделаем, как нам приказано. И всех вас, кто сюда прибыл неизвестно зачем, с собой заберем.
– Куда же нас из родных мест уводишь, Аркаша? – сказал Чупров. – Собирались мы по приказу Петра Семеновича. Я сам двадцать человек сагитировал, вот они. Народ все крепкий, известный нам. А тут еще и товарищ из города прибыл, – и он показал на человека в зеленой немецкой шинели (это был Коротеев), с интересом следившего за партизанским сходом.
– Кого ты привел мне, немца? – закричал Сухов. – Под суд за это, под суд!
Народ недовольно зашумел:
– Это, Аркаша, не порядок… Нельзя так… Где лесник?
И тут Наталья увидела Павла. Размахивая руками, он вертелся у крыльца сторожки.
– Вот послушайте, что его сын говорит! – прокричал Сухов. – В разведку, говорит, отец ушел. Слыхали? А какая такая разведка? Сиди дома да чай попивай – вот и все задание. Боюсь я, граждане дорогие, таких разведчиков. Потому и повторяю приказ – готовиться к выходу за линию фронта.
– Мы тебе присяги не давали, – сказал пожилой колхозник, из тех, что пришли вступать в отряд. – Как, ребята? – спросил он поляну.
– Видали разложение? – сказал Сухов двум-трем стоявшим поблизости от него партизанам. – Боюсь я – чужеродных элементов тут много.
Не успел договорить он, как перед ним вырос худой, изможденный человек с темною всклокоченною бородой, одетый в латаную суконную куртку, немецкие брюки и деревенские сапоги. Левый рукав куртки был пуст.
– Ты кто, слушай, будешь? – вызывающе спросил он Сухова звучным, нерусского тона голосом, в котором слышался легкий южный акцент. Так говорят русские, много лет прожившие на Кавказе и перенявшие и тамошний лад речи и тамошние ухватки.
– Откуда ты взялся? Кто такой? Зачем командуешь? – все более горячась, спрашивал безрукий.
При первых звуках его голоса Наталья вздрогнула и, сжав руки в почти несбыточной, обманчивой надежде, замерла, прислушиваясь к тому, что он скажет дальше.
– Раньше доложи нам, как вы Коростелева потеряли, – продолжал безрукий.
«Он!» – мелькнуло, но она еще не верила себе. Шаг за шагом приближалась она к нему, все более узнавая и все-таки еще боясь ошибиться.
Коротеев тронул Чупрова за руку.
– Хорош парень. Откуда он?
– Похоже, армейский.
– А ну, ребята, ведите его в избу, сейчас разберемся, кто откуда, – сказал Сухов, и Павел с двумя другими повели Алексея.
– Пойдем-ка и мы за ними, – сказал Коротеев. – Послушаем, что и как. Пора бы кончить беспорядок.
6
Расталкивая стоящих в сенях партизан, Наталья вбежала в горницу. Сухов, держа в руке маузер, сидел у стола. Он, Алексей, – теперь Наталья точно знала, что это он, – стоял в двух шагах от Сухова.
– Я, товарищи, ефрейтор Н-ского кавполка, Алексей Овчаренко, – заговорил он непринужденно. – Был ранен летом под Витебском, скрывался в колхозах. Как маленько на ноги встал, решил двигаться к фронту, к частям Красной Армии. Много я видел, много запомнил, это должно пригодиться. Долго я шел. Выбирал места знакомые, через которые наш полк проходил в свое время. Я и в ваших местах в начале войны был, полк наш тогда стоял здесь лагерем, за рекою.