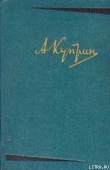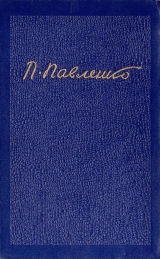
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Его голос и звуки гыджака легко проникают в мятущийся воздух, как запахи или как свет, и распространяются в нем естественно. И когда ветер срывает с Елены бурку и она видна сидящей на корточках перед тазиком, голая, Адорину кажется, что это гипноз музыкального образа, и он не отводит глаз. Но раздается смех Хилкова. Бахши оглядывается, видит женщину, которая догоняет свою скачущую одежду, делает паузу и начинает новую песню о том, что в кооперативе есть папиросы, которых туркмены не курят, и нет табаку «нас», есть маркизет, неизвестно на что, и нет материи для халатов. Старик может еще спеть о любви, но он учтиво ждал заказа. Кто же знает, что именно нужно людям, которые интересуются всем и ни на что не жалуются, и не сообщают, влюблены ли они, готовятся ли к свадьбе, или ожидают рождения сына? Он может петь песню, от которой худеют кони, или песню о комсомольцах, идущих в Красную Армию, или о женщинах, которые разъезжают по аулам и говорят речи.
Салтан-Нияз не читает газет по неграмотности и слепоте и никогда не был ни на каком заседании.
– А откуда ты все знаешь?
Он хитро смеется.
– Пока есть конь, выбирай дорогу. Пока гыджак в руках… – и поет о себе, как он пересекал однажды пустыню на старом белом осле.
Становится совсем темно. Елена, закутавшись в бурку, дрожит и спрашивает испуганно:
– Кто это смеялся?.. Все видели?..
– Ты чего, товарищ Елена? – спрашивает Ключаренков. – Ну, посмотрели на тебя, ну – что? Не полиняла, небось? Кто смеялся? Дурак и смеялся, а умный с толком на тебя смотрел – с толком и с уважением, – он хитро оглядывается на Адорина и отходит в сторону.
Костры сегодня разведены в ямах и прикрыты с боков. Ключаренков садится помолчать у огня. Ночью он становится моложе, память его, собравшись ко сну, вдруг расходится, как гуляка, и бедокурит напропалую, самого его удивляя смелостью. Отворяются двери во все прожитые года, и материал их событий заменяет небогатое красноречие.
Если бы изложить его мысли логически, они вылились бы в глубокую систему. Он был твердо уверен, что инженер вовсе не мастер домов, мостов и паровозов, а организатор рабочих сил для стройки домов и мостов, что врач – организатор масс по созданию общественного здоровья, а писатель – организатор масс для обретения здоровых, жизнеобильных эмоций.
Впрочем, для писателя он, может быть, и сделал бы исключение, назвав его, как это сделал когда-то один француз, следователем по важнейшим делам человеческого характера. Он бы задал писателю вопрос – счастлив ли Манасеин? Честен ли техник Хилков? Чем кончит Елена? – и остался бы без конца удивленным, не получив ответа, потому что тот или иной человек еще не был до конца сочинен писателем.
Семен Емельянович принадлежал к пионерам новой профессии, родившейся на наших глазах. Слесарь мехмастерской на одной из тверских текстильных, он последний год целиком пробыл в рабочих бригадах, чистил колхозы под Нижним, ревизовал сельскую кооперацию, ударничал на Турксибе, и вот был послан, в числе двадцати пяти тысяч, крепить связь текстильщиков с хлопководами. Он выбрал Ильджик за глушь, за трудность, – чинил плуги, объезжал одряхлевшие «катерпиллеры» и контрактовал каракуль и шерсть в пустыне.
Пустыня не раздражала его, как Манасеина, и не пугала, как Максимова. То, что Манасеин с детства организовал себя на строительство нового моря, нисколько не умиляло его. Сам он, придись ему такой случай, давно уже поднял бы села и племена на полюбившееся дело. Что касается идей Максимова, Семен Емельянович сочувствовал им гораздо больше, чем манасеинской. В его мозгу слово «колодец» было более простым: и дешевым, чем «море». Ближе всего ему было чувство Елены, любившей пески обыденной, потому что они есть, потому что среди них идет жизнь, любовью. Он принимал пустыню, потому что она существует, и искал средства сделать ее жилой. Ему не хватало образов, то есть цифр, чтобы показать наибольшую практичность своей точки зрения. И вот он рассказывает у костра о хлопке, колхозах, семнадцатом годе, и Ахундов, которому, как дышать, хочется говорить, трясет его за рукав и хрипло шепчет:
– Чемён! Подожди, Чемён! Я переведу. Пей чай, теперь я скажу.
9
Полоса барханных песков походила на море в мертвую зыбь. Сорокаметровые волны барханов и сорокаметровые впадины между ними казались бешеной зыбью, омертвевшей на всплеске. Елену тошнило от одного вида этой конвульсивно застывшей волны, которая в любую минуту могла отойти от оцепенения и забиться страшным раскатом. Ее тошнило, даже когда она шла пешком. К ней в качестве няни приставили Анну, кухарку, но та, не понимая, что существуют слабые нервы, говорила:
– Да она ж в доску беременна, уверяю.
– От кого бы? – серьезно удивлялся Хилков. – От мужа? В отпуске человек.
Он прищурено посматривал на Адорина.
– От ихнего мужа ничего такого не может быть, уверяю, – сжав зубы, замечала Анна.
Она вскидывала глаза и говорила с уверенностью:
– Уверяю, что от кого-нибудь новенького.
– Вуаля ля ливр! Кого-то бог послал ей? Не знаете? – вдруг спрашивал Адорина техник.
…Верблюдов спускали с обрывов, как груз на талях. Дороги не было.
– Анна, что про нее говорят?
– Да что про нее говорить: шлюха, шлюха и есть. Вот тебе и весь анкет.
Адорин стал догонять Хилкова. Он шел и полз, версты были непроходимы, он шел и полз два или три часа, – и добрых десять верст тянулась от Анны до Хилкова еленина жизнь.
– Я не совсем понял, что вы сказали об Иловайской. В чем дело?
– Очень вам надо понимать. – Хилков записывал что-то в книжку, роясь в кустах гребенщика и озирая местность.
– Мне показалось, что вы связываете наши имена.
– Ну, извините, если показалось обидным.
Адорин разыскивал жизнь Елены, как потерянного в пути товарища. Вот он только что был здесь, прошел туда, свернул в сторону и на глазах потерялся.
К ней относились, – он это выяснил, – с презрительным уважением, как к человеку с общественно-нужной, но грязной и мало приятной работой. Она имела столько любовников, что вслух имен их нельзя было произносить, ибо всегда из двух мужчин один был, а другой собирался стать им. Это была женщина, тело которой возбуждалось не мужчиной, а для него чем-то своим, от себя исходящим.
Ее тянула к себе безвольность, расхлябанность, неприспособленность человеческая, ее страстью было устраивать, определять, выводить в люди. Ей нужен был нытик, чтобы излечить его от меланхолии, и неудачник, которого она сумела бы сделать счастливым, или безработный, чтобы устроить его на службу.
Пустыня была тем участком жизни, который она застраивала людьми. Она хотела, чтобы вокруг нее были люди, и если для этого надо было сначала принадлежать им, она принадлежала. Заболев малярией и получив предписание врачей выехать на север, она осталась, так как необходимо было найти агронома. В конце концов она уехала в Кисловодск, и вернулась с молодым, застенчивым юношей-тимирязевцем. Когда выяснилась нужда в получении мелиоратора и возможный кандидат оказался в лице заезжего аспиранта из столичного института, она уступила ему одну из своих комнат, послала тимирязевца в район и пережила героическую любовь, отрывая аспиранта от надежд на кафедру и погружая его в любовь к пустыне и к себе.
– Семен Емельяныч, а вы?
И все, что осело в душе, вдруг отдал Адорин надежде, что все сейчас объяснится.
– Знаете, – сказал Ключаренков, – не осуждаю. Она, чорт, крутится с нашим братом, будто всю свою жизнь в научной командировке какой. В данном положении даже полезно, скажу тебе. Даже полезно.
Но он сказал это так, что не мог бы защитить своего мнения ни перед какой контрольной комиссией.
Чайники неистощимы. Ночь закипает в чаю. Ночь огромна, высока и отстраняет небо так, что то едва просвечивает звездами сквозь голубизну. Луна оказывается вся в зеленой ночи и ныряет, как утопающий пловец, на самое дно ночи, все не умея выскользнуть вверх, на поверхность, над ночью.
– Чемён! – говорит Ахундов, – скажи что-нибудь, я переведу!
– Спать пойдем, вот что, – отвечает Ключаренков, – спать пойдем, браток. Товарищ Адорин больной, как вернувшийся из тяжелой поездки. Жар у него.
Он трогает голову Адорина.
– Смотри, до чего горяч. Интеллигенция, сукины дети, красоты добиваются – загорают без штанов на солнце, а тут – одна лихорадка от солнца. Солнце-то тут лихорадочное, – говорит он задумчиво.
«Меня укусила змея», – хочет сказать Адорин, но видит – никого нет, ночь, шорох песков, все это было сном, сном, и завтра с утра на коня, догонять отряд. Он еще думает предупредить о чем-то Евгению, но откладывает: «Пусть спит. Вот Елена – та милая, той все можно сказать».
У Елены заболел слух, не уши, а самый слух, как может заболеть голос. Это было от страшных – в ожидании ветра, басмачей или воды – ночей, когда предметы и расстояние познаются на слух. Она устала выслушивать голоса стад, кочевников, зверей, гадов и везде могущего появиться потока.
Часть третья1
Хасаптан Илиа, бывший борец, только что получил письмо курбаши Магзума. Ему читал его ученик и племянник Мамед, парень с нарывающим, как сплошной фурункул, лицом, по прозвищу Еловач.
Новости были тревожные. Курбаши писал, что, после того как он ушел прошлой весной из Кара-Кумов, чтобы пробиться в Афганистан или Персию, двое из его ближайших, Шараф и Якуб, передались пограничникам и стали служить у них на постах. Тогда он распустил отряд, а было у него двадцать семь человек, и с четырьмя своими племянниками ушел в пески за станцию Уч-Уджи обжигать уголь из саксаула. За зиму добрались и до них и наложили налог, тогда они взяли пять лошадей, – он так и писал – просто взяли, но Мамед прочел это слово с определенным акцентом, а Илиа кивнул головой в ответ, что именно так и следует понимать его, – и ушли на юг, к керкинским кочевкам, где и нанялись в чабаны в новый совхоз. Оттуда завязали связь со всеми людьми отряда и постепенно привлекли их к себе. В начале весны Якуб, как и следовало по заслугам его, умер, – здесь Мамед опять сделал особое ударение, и Илиа ответил кивком головы, – а Шараф перевелся на другое место, к Термезу, но о нем написано друзьям, и все будут знать, как быть с ним.
Потом курбаши сообщал, что весною было много работы с колхозами, уважаемые люди уходили в Афганистан, других приходилось учить, и здесь забрали каракульчи на три тысячи семьсот афганских рупий, которую и продали одному человеку из Герата.
«Когда мы узнали здесь о том, что сделали инженеры, – писал курбаши, – и что выпущенная ими вода, – так утверждаем мы здесь и просим вас распространить это в ваших краях, – губит стада и расстраивает жизнь, мы решили снова набрать честных и смелых людей, чтобы восстановить у нас все, как было. Вода не должна быть проведена, – писал он далее, – потому что сейчас же начнут строить колхозы, и вы объясните нашим людям, что тогда бежать надо будет всем сразу и что тогда никто не спасет нас. Мы распространили здесь, что за воду, которая идет гибелью, на нас еще наложат налог, и так вы распространите у себя среди всех. Я выйду и возьму всех русских и отвезу их в кочевки, а туркмен, которые есть с ними, предам смерти. От имени всех ваших доброжелателей, находящихся с нами, желаю вам, чтобы милость божия, которая поставила вас в высокое положение, не покинула вас, чтобы это большое счастье осталось при вас навсегда».
Под письмом стояла именная печать с надписью:
Магзум Бек-Темир.
– Все? – спросил Илиа.
– Все, – ответил племянник и спросил: – Что будем делать? Надо кочевать в другое место. Через Магзума погибнем мы.
– Зачем кочевать? – сказал Илиа, но сам подумал то же.
– Ты иди, – сказал он Еловачу, – я подумаю, что делать. Да не болтай пока, что письмо есть.
Илиа смолоду был борцом и выступал на базарах. Когда ему минуло двадцать шесть лет, вышел случай ему жениться, невеста была выбрана, все уговорено, но в последний момент ее отбил этот самый Магзум, служивший стражником. Илиа с горя ушел тогда из аула и два года боролся на базарах в Чарджуе и Мерве, а когда вернулся, чтобы хозяйствовать, его «су», водный надел, оказался в пользовании мираба. Он начал тяжбу и проиграл ее. Проиграв тяжбу, Илиа поручил дело силе и определил убить мираба и убил бы, но собрались старики и вместе с ишаном вырешили считать его лишенным разума и посадить его на цепь, и чтобы мираб кормил его до кончины. Было это дело за два года до большой войны. Когда начали брать туркмен на войну, все кричали – отпустить Илию, потому что он был еще сильный и храбрый, но ишан настоял – не пускать. Так сидел Илиа до тех дней, пока не пришли красные и не арестовали ишана, и его выпустили на волю, и чтоб аулсовет кормил его. Но кормить было некому, потому что мираб убежал, и Илию старики опять посадили на цепь, отдав на попечение брата мирабова. И еще он сидел пять лет, а с прежними одиннадцать, пока Магзум не пришел управлять аулсоветом. Он выпустил Илию, и кормил его, и дал ему лошадь, и смотрел, чтобы раны зажили у него, и оповестил его имя как человека мудрого и угодного богу. Но сила уже не вернулась к Илие, и глаза стали видеть только вдаль.
Потом много было всего, и скоро Магзум ушел с ханом Джунаидом басмачить, вернулся, опять уходил, а возвращаясь, жил в доме у Илии, хотя жена его была в том же ауле. В последний раз, уходя на юг, Магзум сказал ему, что пришлет за женой, и просил Илию помочь ей отправиться с его посланным. Несколько раз заходил Илиа в дом к ней и справлялся, все ли имеет она и нет ли какой нужды, и однажды спросил ее, помнит ли она его.
– Нет, – сказала она.
– А палавана Илию? – спросил он. – Молодого палавана Илию, который был сильнее всех мужчин?
– Нет, не помню, – сказала она.
– А кто тебя сватал до Магзума? – спросил он.
– Не знаю, – сказала она. – Какой-то человек сватал, но почему не взял к себе, неизвестно мне.
И с тех пор появилась у него обида на Магзума, и забыть он ее никак не мог. Теперь настало время решать, как быть.
Он лег на кошму и накрыл голову халатом, чтобы думать. Его разбудил Еловач, говоря:
– Инженеры приехали. Что делать будем?
И тут же вошел Адорин, поднял его и начал допрос. И как будто не засыпал Илиа, а продолжал свои мысли о прошлом, потому что все, кроме знакомства с Магзумом, пришлось повторить заново.
Изучать звезды он начал еще в детстве, от деда, но по-настоящему взялся за них, сидя на цепи. Знал он четыре главнейших звезды – юлькер, яралак, югийлдыз и ялдырак, и по ним все определял.
– Расскажи, как ты определяешь? – сказал Адорин.
– А вот как, – начал Илиа. – Когда наступают степные жары, выходит звезда юлькер. Если ее не видно, – лета еще нет. Она закатывается в полночь, потом все раньше – в десять, в девять, в восемь часов, пока не наступит время, когда она заходит вместе с солнцем, и тогда ее не видно сорок дней. Через десять дней после сорока она будет видна немного яснее, а затем все лучше, и, как станет совсем ясной, – пшеница готова. Через пятнадцать дней после выхода юлькер выходит яралак. Из-за света ее еще не видно десять дней. В это время начало летней жары. Через двадцать пять дней после яралака выходит югийлдыз, – готовы дыни, и цветет камыш. Пока не вышла ялдырак, нельзя выезжать без воды. После ее выхода ночи будут влажными, можно воду не брать. Через десять дней после выхода ялдырака у верблюжат начинает расти шерсть, через сорок пять – время случать баранов, через сто двадцать после выхода – случка верблюдов и начало зимы. Все.
– А как ты предсказал относительно Февзи и воды, тоже по звездам? – спросил Адорин.
– Нет, то другое, – ответил Илиа, смущенно вскинув голову.
– Что другое?
– Нельзя сказать. Грех. Я тебе просто пример приведу, сам решай.
И он легко и не задумываясь, как давно известную и на память выученную задачу, рассказал ему сон своего соседа, который он объяснил недавно.
За ним гнался верблюд, он бросился от него в первый попавшийся колодец и повис на его деревянных перекладинах. Видит – внизу змея, а по бокам две крысы подгрызают перекладины. Стал кричать – проснулся. Я ему так сказал: верблюд – жизнь, которая тебя мучает. Змея – земля. Крысы – день и ночь. А все вместе – скоро умереть. Вот и решай сам, как я объясняю.
– А сосед что? – спросила Евгения.
– Как что? Я же сказал – скоро смерть, и он вчера помер, – довольно и спокойно ответил хасаптан.
Адорин приказал ему быстро собраться и, вынув револьвер, упростил все приготовления. Снаружи собиралась толпа.
– Если что спросят, скажешь, что тебя вызывают лечить инженера, – сказал Адорин.
Через два часа они нагнали караван из четырех верблюдов с небольшим стадом овец.
– Куда идете? – спросил проводник-комсомолец.
Караван шел к такыру, где в суматохе передвижений возник сумасшедший базар. Все продавали овец и уходили прочь. Покупатели наехали из дальнего далека и покупали сколько ни предложи, хоть десять тысяч голов.
– Аму-Дарья ищет старый свой путь, беда нам будет, все Кара-Кумы зальет. Надо уходить.
– Придется пустить в ход хасаптана, – сказал Адорин и вечером у такыра долго объяснял комсомольцу, что ему надо сказать Илие. Не вытерпев, сам объяснил ему по-русски задачу завтрашнего дня.
– Если не скажешь, что я приказал, убью на месте.
Ночью спали по очереди. Илиа лежал и смотрел звезды. Куда его везут, он не знал, но не боялся, что ему будет плохо; одно пугало – что нагрянет Магзум и за речи отстегает плетьми, если не сделает хуже. И не знал Илиа, говорить ли завтра то, что приказали ему, или молчать, или взять да и выдать все про письмо и замыслы курбаши.
С утра хоть и не было ветра, пошел дождь пыли. Пыль поднималась далеко за такыром, как пламя дымящего вулкана, и долго и лениво кропила людей своим сухим и колючим дождиком. Пыль поднимали кумли – люди песков – своими стадами. На ровной долинке за колодцами с рассветом начался торг. Многие покупали и продавали, не слезая с коней. Бродячие пилавчи раскинули кошмы и натянули навесы для чайханы, на чувалы насыпали зеленые горы табаку наса, в медных чанах заварили плов.
Старики пошли помолиться к мазару, могиле святого, и в кольцо, ввинченное в стену, в кольцо с остриями, вправленными внутрь, просовывали руки, чтобы узнать, грешны ли они? Гвозди рвали кожу, и люди поникали в смятенной и жуткой покорности.
Потом прошел базарный глашатай с большим барабаном и пронес сладостный вопль хитрого и сложного напева.
– Откуда он? – спросила Евгения, готовясь записывать.
Глашатай, старик невероятных лет, бежал, как и все, из Моора, где он был базарным смотрителем, – и вот в пустыне базар, и он считает своей законной властью открыть его, как положено. Сморщив лоб и закрыв глаза, он поет, опираясь на палку, с вдохновением дервиша. Да, он бежал из Моора, но он честный работник. Вот он увидел базар, открывает его и блюдет по всем догматам коммунального права.
Кумли собираются вокруг него оцепенелой толпой. Они любят пение и слушают его как певца.
– Берекелля! Молодец! – кричат они ему.
– О чем он поет?
– О декретах, – говорит комсомолец. – Он поет новые декреты, но я уже слышал их у себя в Ильджике. Еще он поет, что если кто найдет без хозяина лошадь или хурджины, пусть доставит ему, у него – сохранение, также – штраф за драку.
– Илиа, иди и скажи базару, что условлено.
– Я скажу, – говорит Илиа, – пусть еще соберутся люди.
Они идут сквозь толпу. Туркмен в украинской косоворотке под старым халатом, приторговав барана, но еще не решив, купить или не купить, расспрашивает о местных делах.
– Колхозы делали? – спрашивает он.
– Отложили на осень. Воды у нас было мало. Хотели осенью думать.
– Ха, осенью, думаешь, вода будет? Водой черепах поят инженеры.
– Вода пущена, чтобы нас выгнать. Как нас уничтожат, вода опять будет. Слыхали про случай с Февзи?
– Илиа! – говорит комсомолец.
Под навесом из тонкой серой кошмы старик рассказывает, как он в прошлом году пересек пустыню с автомобилями Ферсмана. Он не хочет лгать и открыто признается в своей старческой трусости и еще в том, что если бы не деньги, так сроду не пошел бы он на такое опасное дело, как ездить на автомобиле. Он рассказывает, что машины шли, разрывая под собой песок, и слушатели перестают жевать и слушают его зачарованно.
В воздухе, как шум морского прибоя, стоит блеяние стад. Из почтения перед рассказчиком никто не ест, и пилавчи с тревогой глядит на ошалевшего от красноречия старика. А тот рассказывает, как пело радио и как ели в пути вкусные мясные консервы, и что русские пьют чай с сахаром, а он один – правильный человек – пил сначала чай, а потом съедал сахар и в общем-де съел фунта два за дорогу Люди, которые преодолевают пустыню на ишаках и верблюдах в течение пятнадцати дней, с уважением смотрят на старика, неделю проездившего на автомобиле. На верблюде спокойнее, а что такое пустыня, когда ее знаешь?
Илиа встает и, прерывая рассказ старика, говорит:
– Я – хасаптан Илиа. Кто меня знает? Вот мое лицо и мои глаза, пусть скажет, кто меня знает.
Он выжидает.
Адорин говорит ему тихо:
– Ты был борцом, Илиа? У нас с тобой борьба. Я держу револьвер у твоей спины. Думай, что скажешь, Илиа.
Народ сбегается со всех сторон.
– Ну да, это слепой Илиа, – раздаются голоса.
– Это он видел Февзи. Илиа, ты видел его?
– Я, хасаптан Илиа, говорю вам – я видел Февзи и знаю звезды, которые всем управляют, и вот мое слово – будет беда вам, идет на вас курбаши Магзум взять овец. Пусть мое слово запомнят. Он возьмет овец и разграбит кибитки. Вот – беда. А вода кончена, я знаю, что говорю, река вернулась к себе. Закройте базар, ступайте по своим кочевкам, не продавайте овец, – тот, кто покупает их, имеет злой умысел. Магзум придет, – говорит он, – придет Магзум, ничего не оставит, если не объединитесь и не прогоните его.
Все превращается в беспорядок. Навес дрожит и падает, как сорванный ветром парус, пилавчи шныряет, ловя своих посетителей, и молодой кумли верхом на коне пробирается к Илие и кричит ему:
– Илиа, слова твои отвезу, как письмо. Помни, Илиа!
– Сабля свою ножну не режет, – говорит Илиа.
Беспорядочно быстро пустеет такыр. Дождь пыли уходит прочь. Глашатай грустно стоит посреди брошенной котловинки, на остатках растерзанного базара.
– Нехорошо поступил, Илиа, – говорит он резонно. – Надо было мне сначала базарный сбор собрать. Базар нельзя разгонять, декрет такой есть, – говорит он и остается один.
2
Дни, ночи, сутки спутались, и время измерялось теперь кострами. Они прожили время в семнадцать костров, как потом сказал Илиа своему следователю.
3
Солнце не заходило, но тени с восточной стороны уже ползли на барханы. Пустыня двигалась, оставаясь безмолвно-безжизненной. Глаза кружились от ее ползущих теневых пейзажей. Прикрываясь широко распахнутыми тенями, из ее недр вывертывались змеи. Они пробегали, не обращая внимания на людей, тихие, похожие на клочки теней, гонимых по песку ветром. Легкое падающее солнце тончайше отражало металлический блеск их расписных тел.
– Ты что читаешь, товарищ Елена? – спросил Ключаренков.
– Книгу мне подарил один писатель. Бригада их была в Ильджике.
– Бригада? – Ага. Адрес их знаешь? Ну вот, напиши-ка им письмо. Жарь на «Туркменскую искру». Сегодня сдадим товарищу Итыбаю, он колдуна повезет куда надо, заодно сдаст и наше письмо.
Написав и отдав письмо Итыбаю, она возвращается к книге, на титульной странице которой сделана длинная надпись.
Адорин храпит и бьется во сне.
– Какие сны одолевают, хоть хасаптана зови, – говорит он. – Все о пустыне, чорт бы ее побрал. Две недели живу в ней, а что она такое – чорт ее знает!
Елена стирает пот с его лба. У нее такие горячие, значительно горячие руки.
– Нет, в самом деле, что такое пустыня? Вот смотрите, какая стоит тишина. Не тишина движения, а тишина состояния, биологическая, страшная и восторженная тишина, рождающая космические неврозы. Страх тишины переходит в страх перед пространством, перед так дико растянутыми километрами, ожидающими преодоления. Так может быть страшно, когда бы увидел вокруг все мясо, съеденное за всю жизнь, или бумагу исписанную, начиная с гимназии, или всех знакомых, со дня рождения. Смотрите, Елена, смотрите, пустыня вобрала небо в свои края, как голубую прозрачную воду…
4
Колебля голову над серым, запыленным телом, ощупывая мерцающим языком темноту на своем пути, бросая тело подвижною узкою волной, змея подпрыгивала и кусала воздух. Она угорала от звука, исходящего от огня у ее небольшого колодца. Она шла на тепло, скосив глаза на стороны, один глаз – в одну, другой – в другую, и теплый воздух, проносясь от огня, щекотал ее напряженную кожу. Но, когда она приблизилась, огонь издал звук, а за ним другой. Они продлились, как прыжок ветра, и вернулись в огонь, не оставив эха. Потом они возобновились, медленно колыхая ее сознание, и повлекли к себе, лишали язык чутья и кожу напряженности, они шли цепкими течениями в рассеявшемся под луною воздухе. Противоборствуя их опасным токам, змея кусала воздух. Глаза ее переставали видеть, и язык не говорил о том, что лежит впереди нее.
Был свет луны, как всегда, и была тишина, как всегда, и, ничего не волнуя, кроме ее тела, пел огонь. Она подвигалась к нему с бешенством и восхищением. Звук облекал всю ее теплою одурью и тащил к себе. Она подобралась к самому огню и бесновалась перед его теплом, но звук увлекал ее по другую сторону огня. Змея пыталась отбросить соблазнительно поющее пламя и грудью бросилась на него, опадая в мучительных ожогах. Потом, рассвирепев, долго кусала свою верткую тень и, смирясь, поползла на звук за огнем.
Вдруг в стороне зашумела ночь, и шум врассыпную раскидал звуки. Тяжесть отлегла от ее тела, и она ринулась в воздух, как рыба из продранной сети. Припав к голубому песку, она вошла в него острым сверлом и быстро двинулась в нем, как в туннеле, подальше от необъяснимого в этот вечер и страшного своею опасностью дня.
Человек за костром поднялся, отложив дудку, и сказал самому себе с горечью:
– Опять прошли люди. Вспугнули четвертую. Ночь прошла даром.
И пошел вслед каравану – попросить пиалу зеленого чаю и рассказать о своей неудаче, потому что был он охотником Туркменгосторга и бил змей на экспорт, по договору – полтинник с метра, и дорожил длинной змеей.
5
Тишина. Пески. Древен воздух над ними. Он ничего не держит в себе. Песок, третьего дня взбитый ветром, сыплется теперь сверху, как крупицы самого воздуха, бессильно распадающегося от времени. На горизонте замер облик ослепительного белого города. Он покоится на резких голубых туманах и напоминает возносящийся на небо скит с дешевой афонской олеографии.
– Аул у колодца Юсуп, – говорит Итыбай. – Два дома и восемьдесят кибиток.
Время, потерявшееся в песках, вдруг находится и организует людей, как сторожевой пес свое заблудшее стадо.
– Есть ли тут почта? – спрашивает Адорин и сам смеется над нелепостью своего беспокойства.
– Я чувствую запах дыма, – говорит Евгения. – Ведь миражей обоняния нет?
Верблюды качаются на песчаной волне. Так корабли из тяжелого моря облегченно и нервно входят в порты. Манасеин распоряжается.
– Верблюдам влить в желудки не меньше чем по восьми ведер воды. Выспаться и отдохнуть. Наполнить турсуки местной водой, мы опередили поток, – впереди сухо.
Вечерняя туманность относит белый город все дальше и дальше, все выше и выше над горизонтом. Теперь он вознесен в окружение первых звезд. Так проходит час, другой, третий, и вот осел, идущий впереди, спотыкается о камышовые берданы, все вокруг развертывается лаем, верблюды пятятся в сторону, и Хилков слезает у самой стены крайнего белого дома.
Из домика выбегает человек в белом и по-туркменски спрашивает:
– Больные? Откуда?
Торопясь на этот озабоченно-мирный голос, все начинают раздраженно укладывать на землю верблюдов, звать погонщиков и вытаскивать из чувалов свои вещи, вдруг ставшие совершенно необходимыми. Потом они входят в дом, это – больница, и блеск никелированных кипятильников кружит глаза.
– Инженер Манасеин! – говорит фельдшер и кому-то кричит: – Сходи в кооператив, позови приезжих! Тут кто-то из ваших есть, утром пришли.
Слова: больница, кооператив, самовар – радуют очень смешно.
– А баня? – кричит Хилков. – А баня? Какая же это культура без бани?
– Это уже завтра, – смущенно говорит фельдшер. – Не баня, конечно, а просто ванну устроим вам.
Все тогда поднимаются разом и идут в домик кооперации.
– А радио? – спрашивает Елена.
– К осени будет.
– А почта? – вдруг вспоминает Адорин.
– Ящик у входной двери. Найдете?
В кооперативе Семен Емельянович накрыт за примеркой исподников. Первой на него наталкивается Евгения и в смятении отступает перед его окриком:
– Дура какая! Что ж ты лезешь без голосу, без никакого? Какой тебя фольклор приволок? Подождите, ребята.
Но все уже рядом и обступают его, восхищенно трогая за ноги и умиляясь товаром. Розовые исподники блестят на нем нервно, как на акробате.
У стойки начинается маскарад. Елене через головы, на руках, подают нечто с машинной кружевной отделкой и с голубенькой ленточкой, продернутой сквозь кружева.
– Не малы? Вы бы примерили?.. Елена Павловна, берите пример с Ключаренкова.
И вот по рукам растекаются рубашки, кальсоны, носки. Пышные подвязки танго с лихим розаном надолго привлекают внимание Ахундова, пока их не покупает Адорин.
– Зачем вам? Кому же здесь дарить?
– Я подарю Семену Емельяновичу.
– Отдайте мне их, пожалуйста, – говорит Евгения. – Ну вот, голубчик, ради той простоты, о которой вы говорили. На что они вам?
Шоколад «Золотой ярлык» и папиросы «Моссельпром», конфеты, хинная вода, – все оказывается очень нужным. Цивилизация рекомендуется очень мелочной розничной лавкой.
Они вышли из кооператива, таща за собой Ключаренкова и Ахундова. Ночь зеленым ливнем затопляет становище. Ее зеленые космы стекают с белых стен домиков, и зеленые лужи теней колеблются на песке перед ними. Головою взволнованной кобры глядит луна на огни аула.
Фельдшер, в самом новом белом халате внакидку, встречает гостей у стола. На нем легкий защитный френч, усыпанный коллекцией разнообразнейших значков и жетонов.
– Что это с вами случилось? – спрашивает Елена. – Откуда эти значки? Как генерал в орденах!
– Я считаю себя нисколько не хуже любого генерал-губернатора, – говорит фельдшер. – Садитесь, пожалуйста. Вот консервы, вот мед. Хотите сыру? Хозяйничайте, пожалуйста, – говорит он женщинам, – а я успокою любопытство и расскажу о значках. Впрочем, вопрос не о них, вопрос философский – об активизме. Раньше, в царское время, были медали. Выслужил время – получай, отличился – носи такую-то Анну. Теперь этого нет, да и не нужно нам раздражать человеческую гордость и самомнение, но как раньше грудь в орденах была позором, теперь грудь в значках пролетарских обществ есть положительный случай. Значки мои не означают, что я кого-то лучше, они упрекают тех, у кого их нет. Что за пассивность! Все имеют право на тот или иной жетон, вноси лишь взнос и веди работу, но не платят и пассивны. Поняли? За два года я прошел в девятнадцать обществ. Плачу взносы и работаю в каждом. Все больные мои то в «Осоавиахиме», то в «Друге детей», и мы соревнуемся.