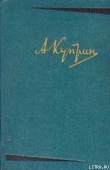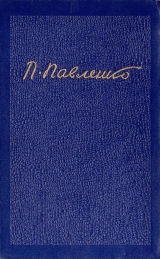
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Ураган
Заветрило еще с ночи и до рассвета выло не умолкая. Сухое море Крымской степи ходило ходуном. Поезд вздрагивал, его трясло, и казалось – вот-вот сбросит с рельс и, как перекати-поле, потащит куда-то в глубину мутных, без горизонта, пространств. Рассвет не угомонил урагана, солнце сделало его еще злее.
Редко приходится слышать, как воет ветер при солнечном свете, и есть в этом что-то страшное, противоестественное. В окна вагона бились разные травы и бурые клочья морских водорослей, а когда мы удалились от Сиваша на юг и по бокам железной дороги пошли поля, в окна забила жесткая пыль. Трудно было понять, откуда ее столько взялось в степи, засеянной насколько хватал глаз.
Хлеба были уже убраны. Гигантские скирды теснились на побуревшей стерне, а вблизи сел и железнодорожных станций золотистыми курганами высились горы обмолоченной пшеницы, подвезенной для отправки.
Не будь урагана, опустились бы все окна в поезде, и теплый, густо-душистый, чуть-чуть отдающий пылью запах зерна помчался бы вместе с нами. Но окна были закрыты, и в них все время неприятно стучало чем-то твердым и быстрым, как град.
– Товарищи, это же хлеб! – неожиданно громко крикнула женщина из соседнего купе.
Все бросились к окнам.
– Смотрите, это же хлеб бьет в окна! – еще раз растерянно прокричала женщина, обращаясь сразу ко всем и как бы ожидая от нас решения. – Что ж это такое?.. Это преступление, это бред какой-то!..
Вошел проводник и, хмурясь, подтвердил ее слова. Да мы уж и сами видели, в чем дело. Ветер взбивал неприкрытые горы зерна и, как дьявол, рассеивал их по воздуху, хлестал по вагонам и уносил в степь.
Крепкие тучные зерна набивались в щель между стеклом и рамой, ссыпались оттуда на землю и вновь заполняли щели, падали с крыши вагона; а в тамбуре, где была приоткрыта дверь, нельзя было ступить ни шагу – зерном забросало весь пол.
Мы стояли у окон и негромко переговаривались. Всех волновало и раздражало, что мы не можем помочь беде.
Проводник, лет тридцать прослуживший на железной дороге и уверенный, что, проездив полжизни мимо деревень, он отлично разбирается в сельских делах, обвинял во всем природу.
Молодой парень в пиджаке, накинутом на выцветшую гимнастерку со следами ремней, орденов и нашивок за ранения, которого проводник по нашей просьбе пустил на три перегона в тамбур, слушал старика, сидя на фанерном чемоданчике, поставленном «на-попа», и нервно грыз давно докуренную папиросу.
Парень этот, как мы уже знали, ехал в гости к брату, слесарю, в Джанкой и обезденежел в пути.
– Кой-чего, правда, везу, – говорил он нам утром, – да продавать неохота. Это ж разве фасон – в гости приехать с пустыми руками.
И по всему видно, говорил правду.
Впрочем, билет у него имелся. Он только и попросился – постоять в нашем тамбуре, потому что в других вагонах не было места и ему было трудно там с еще не совсем зажившей после тяжелого ранения ногой.
– Ты человек рабочий, ты природы здешней не знаешь, – нравоучительно говорил ему проводник, грозя пальцем, – а от этих суховеев свободно можно с ума сойти. Ведь это что ж такое? Экой урожай! Собрали, и вот – пожалуйста!.. Двумя неделями раньше подул бы, зерно «запалил» бы, а ныне – шут его не бери! – здоровое зерно унесет.
Парень почти не слушал проводника и, судя по выражению его лица, не соглашаясь с ним, дожевал папиросу, и ему так хотелось закурить новую, что он сначала невольно похлопал себя по карманам и только потом бросил остаток окурка.
– «Бычка» у тебя никакого не завалялось? – спросил он.
Но проводник не пожелал войти в его положение.
– Отойди к стороне, – недружелюбно сказал он. – Буду я еще твоими «бычками» себе голову задуривать…
Красивое лицо парня помрачнело. Он пожевал губами и молча отодвинулся в сторону. То, что творилось за окном, видимо, доставляло ему мучение, и, не умея помочь делу, он не хотел говорить на эту тему.
Поезд сильно тряхнуло, завизжали колодки тормозов, ход резко сбавился.
– Это еще что за новости? – и проводник высунулся за дверь, поглядеть в чем дело, потому что остановки тут не должно было быть. Перед нашим вагоном, метрах в ста от железнодорожного полотна, показалась новая гора хлеба с завихрившимся гребнем. Три девушки-колхозницы хлопотали вокруг хлеба, тщетно пытаясь набросить на него длинный, широкий брезент. Ветер рвал полотнище у них из рук и хлестал им по зерну, и оно еще быстрее разлеталось в стороны под растерянные крики колхозниц.
Их разгоряченные обветренные лица, сбитые на затылок головные платки и мокрые от пота блузки свидетельствовали, что они борются с ветром из последних сил и уже обессилели, отчаялись и если не плюнули и не ушли, то потому только, что нельзя же спокойно видеть, как ветер играет зерном, под которое вот-вот должен подойти товарный состав.
Тут парень, что стоял в нашем тамбуре, оттолкнув проводника, спрыгнул наземь и, прихрамывая, побежал к зерну, размахивая снятым пиджаком. На бегу он обернулся к поезду и что-то крикнул, зовя за собой. Лицо у него было веселое, и, может быть, он кричал в это время что-то озорное, потому что у вагонов громко захохотали.
– Давай, давай! – прокричали рядом, и человек двадцать пассажиров, крикнув «ура!», решительно бросились вслед за парнем. Побежала проводница соседнего вагона, побежал, теряя на ходу тапочки, какой-то военный в галифе и майке, побежали девушки-экскурсантки. Они бежали, озорно смеясь и гомоня, съехали вниз по крутому откосу полотна и атаковали хлебную гору с такой дружной и слаженной стремительностью, будто заранее сговорились, что делать. За ними вприпрыжку устремился мальчишка лет тринадцати с большим медным ярко начищенным чайником в руках. Он размахивал им, как факелом, и чувствовалось, что сейчас он намерен сделать что-то важное, до чего не додумываются и взрослые.
Наш парень, прибежав первым, отстранил колхозницу и толково расставил подбежавших помощников. Брезент стали укладывать не с подветренной стороны, а с наветренной, чтобы воздух прижимал его к зерну, а не отрывал, и уже подставляли с боков какие-то фанерные щиты и подсовывали под бечеву жакеты и передники колхозниц, чтобы веревка не погружалась в зерно. Вероятно, и пиджак, которым он сначала размахивал, тоже улегся куда-нибудь под веревку, потому что теперь в руках у него ничего не было.
Мы опустили стекла окон и с откровенной завистью следили за горячей работой у хлеба и тоже что-то советовали и одобряли, с удовольствием наблюдая за нашим парнем. Он, видимо, чувствовал, что им любуются, и был очень хорош, ловок и по-настоящему красив. Женщины нашего и соседнего вагонов расточали ему похвалы. Впрочем, и те, кто работал у хлеба, не отказывали ему во внимании. Он сразу стал любим за то, что поступил так, как хотели, но не решались поступить все остальные. В нем каждый хвалил как бы ту часть самого себя, которая хотела сделать то же самое, что сделал он.
Наша соседка, та, что впервые крикнула о бьющем в окна зерне, убеждала, что следует о нем написать коллективное письмо в газету, и даже, кажется, начала что-то сочинять, но тут поезд, стукнув вагонами, тронулся. Сигнала за ветром мы не услышали.
– Скорей, скорей! Садитесь! – закричали со всех сторон работающим пассажирам, но те уже и сами увидели, что поезд пошел, заторопились назад, подсаживая друг друга на полотно и впрыгивая на ступеньки идущих мимо вагонов.
Парень из нашего вагона почему-то замешкался. То ли искал он свой пиджак, то ли не слышал рывка состава, во всяком случае, когда добровольцы ринулись к поезду, он, стоя на хлебе, еще о чем-то разговаривал с колхозницами, затем, как и все, заспешил к полотну, но споткнулся и, остановившись и видя, что опаздывает, отчаянно замахал нам руками, прося о чем-то.
Но мы уже не могли слышать его. Можно было лишь заметить, что лицо его стало таким печально-растерянным и несчастным, какое бывает у обкраденного или что-то потерявшего человека.
Он продолжал делать нам какие-то знаки, хватаясь за голову и хлопая руками по бедрам, и было ужасно стыдно видеть его пострадавшим.
– Вещи! – вдруг догадалась женщина из соседнего купе. – Вещи, наверное, у него остались!
Проводник, ахнув, бросился в тамбур, схватил желтый фанерный чемоданчик и выбросил его за окно. Стукнувшись о землю, чемоданчик раскрылся, и на сухую траву высыпались полотенце, мыло, половина огурца и отрез пестрого маркизета. Материя проползла по траве, норовя взлететь в воздух, зацепилась за колючие шишки татарника и затрепыхалась на ветру, взмахивая одним краем, как флагом.
Из вагонов зааплодировали и закричали «ура!», на откос полетели пачки папирос и свертки, а парень стоял в растерянной позе, не замечая своей славы.
1948
Отдых
Дом отдыха горняков открылся раньше других, когда еще не кончилось восстановление разрушенного немцами курорта, когда еще стоял грохот и вилась пыль на всех улицах городка, когда на пляже, полупустынном и от этого неуютном, с утра до ночи просеивали песок и сооружали навесы, а на набережной наскоро сколачивали книжный киоск. Первая партия отдыхающих донбасских шахтеров в этой атмосфере спешного, пропустившего все сроки строительства, невольно чувствовала себя неловко.
Но городок с его строительной суетней был маленький, а горы, полулежащие вокруг него, и море – огромными, и отдыхающие сразу же после утреннего завтрака уходили в далекие прогулки, наведывались к рыбакам на окраине городка или целыми днями лениво «забивали козла» в санаторном садике, не чая дождаться обеда, а потом ужина, чтобы сейчас же залечь спать.
Маркшейдер Илья Миронович Жуков, широкоплечий, невысокий человек лет за сорок, дольше всех не мог привыкнуть к местному распорядку и скучал, томился мучительнее других. Он впервые был на Южном берегу Крыма, и этот край с его густо нагроможденными скалами, долинами, лесами, сухими руслами горных речушек и крутой стеной Таврических гор позади всего казался ему беспорядочным, где на малом пространстве всего напихано чересчур много, а для чего – неизвестно.
Море своей величавой простотой, пожалуй, одно действовало на него неотразимо, и он почти не покидал берега.
Стояло раннее лето, и все, что не успело доцвести за короткую весну, источало из себя краски и запахи. Погоды были ровные, не утомительно-знойные, не дурманящие.
Иногда мимо проходили пассажирские теплоходы, пробегали рыбачьи моторки, на красивых катерах проносились пионеры из Артека, и Жуков, глядя на жизнь моря, любил представлять себя то капитаном, то рыбаком, то механиком на моторке. От моря шел мягкий соленый запах, дышать было легко и все время хотелось дремать и странствовать по непрожитым жизням.
Лежа на мелкой серой гальке, Жуков почти не разговаривал со своими случайными соседями по пляжу, лишь иногда, когда что-нибудь особенно привлекало его внимание, поворачивался в полголовы и, если рядом был человек знакомый, молча кивал на происходящее.
Как-то в воскресенье, когда Жуков и навалоотбойщик Семенов, сосед по комнате, загорали после большого заплыва, на дальнем конце пляжа появились четыре женщины в синих рабочих комбинезонах – следовательно, не отдыхающие, а местные. Сняв спецовки, они деловито постирали их и аккуратно разложили сушиться, потом не торопясь постирали какую-то мелочь и уже после стирки стали плавать, нырять и вовсю веселиться.
Одна из них, которую все остальные называли Фросей, была, очевидно, старшей, хотя издали ничем не отличалась от подруг. Но Жукову показалась она странно похожей на его Анну, как она выглядела лет пятнадцать тому назад, в год их свадьбы, – такой же поджарой и озорной и такой же, наверное, замечательной работницей; и оттого, что он подглядел свою Анну помолодевшей, у него как-то защемило на сердце и стало еще скучнее, чем обычно.
«Поеду домой до срока, – подумал он, – разомлел я тут, разоспался, тоска вовсе заела. Ну их, с этим курортом!»
Он не обернулся даже к Семенову, хотя тот уже несколько раз бросал камешки ему в спину. Он глядел на купальщиц и, скорее догадываясь, чем различая, где там среди них эта Фрося, до того загоревшая, что она казалась натертой йодом, видел свою Анну Семеновну. Такая же вот, честное слово, крикливая, смелая, и всегда с ней легко и весело. Одного было Жукову жаль, что он плохо слышит, о чем они говорят и отчего хохочут не умолкая, но все-таки он сам невольно улыбался в усы.
Женщины недолго плескались в море и, отдохнув на берегу ровно столько, сколько нужно было, чтобы высохли их комбинезоны, быстро оделись и гурьбой пошли в сторону городка.
– Ну, пора и нам, – сказал Семенов. – Ничего девчата, что скажешь?
– Иди, я разок окунусь, – ответил Жуков, и хотя ему не хотелось сейчас купаться, но, чтобы остаться одному, он, ежась и фыркая, полез в воду. Его сильное, тучное, упрямо не загоравшее тело сразу порозовело.
Женщины, на ходу расчесывая волосы, поднялись по ступенчатой каменной уличке, и, чтобы не потерять их из виду, Жуков не стал задерживаться на море. Не вытираясь, прямо на мокрое тело набросил пижаму, обмотал голову полотенцем и, надувая щеки, заторопился вслед за ними, сам еще хорошо не зная, зачем ему это. Однако они опередили его и, наконец, совсем исчезли из виду. Он остановился, не зная, в какой из узких переулков, заставленных полуразрушенными домами, ему заглянуть, но тут женщины запели где-то невдалеке. Он двинулся на песню. Пели в четыре голоса, в лад шлепкам извести и скользящему шороху малярных лопаток по стенам. Женщины пели тихо, с особенной нежностью и любовью к мелодии, стараясь не испортить ни одного ее звука, не огрубить ни одного ее извива, будто сообща убаюкивали ребенка.
Они пели так хорошо, что Жуков остановился, пораженный мастерством их пения и забыв, зачем он очутился перед полуразрушенной трехэтажной коробкой здания, очевидно сейчас ремонтируемого. Он слушал с таким волнением, что не заметил, как одна из поющих показала на него глазами и как они вчетвером, не переставая петь, выглянули на улицу и улыбнулись.
– Товарищи больные, шли бы помочь нам, здоровым! – крикнула та, что первая заметила его, рыженькая и нелепо, по-мальчишески, вихрастая; и степенный Жуков, за которым никогда не водилось никаких приключений, стал подниматься по сходням на второй этаж с еще не до конца выложенной передней стеной.
Он не мог бы сказать, зачем это делает, и внутренне волновался, но делал вид, что все это так себе, шутки ради, от нечего делать.
– Здравствуйте, что это за женотдел такой? – спросил он.
– На знамя бы раньше взглянули…
В самом деле, красное знамя бригады восстановителей свешивалось со второго этажа, почти рядом с ним.
– Так, так. Вы что же, сами каменщики, сами и маляры?
– Всё мы, – сказала Фрося. – И плотниками нам быть, и кровельщиками, и водопроводчиками.
– Как восстановимся, к вам отдыхать поедем, – с девическим озорством добавила вихрастая.
– Москвич будете? – издали спросила третья, кряжистая, невысокая, с некрасивым лицом в ореоле соломенно-светлых блестящих волос.
Четвертая молча мешала палкой раствор в корыте.
– Из Донбасса. В два камня кладете? На глине?
– Строительный мусор заправили цементом, – идет, ничего.
– Так, так.
Жуков снял с головы полотенце и по-отечески просто протянул его той вихрастенькой, что окликнула его.
– Повесь, Вихрова, где-либо, да и пижамку заодно прибери…
Женщины засмеялись, услышав удачное прозвище.
– А ты, товарищ Певцова, – сказал он Фросе, – дай-ка мне свой топор. Это что у вас за камень такой? Будто галеты. Ракушечник? Занятный камешек, его не то что уголь рубать…
И топор легко забегал в его тяжелой сильной руке, стосковавшейся по делу.
– Кто у вас тут запевала, Кудрявцева? – обратился он к обладательнице красивых волос, и та, не портя игры, ответила:
– Певцова и есть запевала. А что ж дальше не знакомитесь? – и кивнула на молчаливую, возившуюся с раствором, с интересом ожидая, какое прозвище выпадет той.
– С Молчалкиной мы обзнакомимся, как она свое тесто замесит, – спокойно ответил Жуков. И женщины опять весело засмеялись, а та, о которой шел разговор, смущенно фыркнула в рукав.
– Из того теста только пельмени делать, – продолжал Жуков, обтесывая четырехугольник ракушечника, – а связывать камень оно не будет: песку много и песок крупный. Сеять, Молчалкина, надо было помельче.
– А вы разве что понимаете, вы же шахтер? – спросила прозванная Вихровой и остановилась, поглядывая на подруг.
– Шахтер, а вот разбираюсь, – сказал Жуков, поднимая на уровень груди камень в добрых четыре пуда и укладывая его на верхний ряд стены.
– Ты тут старшая, товарищ Певцова?
– Я, – ответила Фрося.
– Девчат надорвешь. Беседку сюда надо.
– Много чего надо, а нету.
– Ладно, завтра придумаю. Запевай пока что.
Фрося запела, словно только и ждала этой просьбы.
У нее было нежное, девически-чистое сопрано редкой артистической красоты. Голос очень молодил Фросю. Она как бы дышала мелодией, так было естественно ее пение. Затем вступила Катерина, та, что работала с раствором, следом за нею Таня, прозванная Вихровой, и Ольга, прозванная Кудрявцевой. Их голоса, более низкие, чем фросин, обняли первый тонкий голос и повели его, а он игриво вырывался и обгонял их, маня за собой.
Женщины точно играли в горелки голосами, догоняя друг друга, хохоча, переглядываясь и вздыхая, и на душе Жукова было так радостно и хорошо, как редко бывало в жизни.
Выбирая себе самую трудную работу, он медленно обходил этажи, перенося и укладывая камни, мешая раствор и разнося его ведрами, и все время следил за Фросей, все время скрыто любовался ею. Она принадлежала к тому типу южанок, худых, как тарань, и подвижных, как ящерица, у которых главная красота не в изяществе фигуры или лица, а в пламени больших черных глаз, ослепительной, точно распахивающей сердце улыбке и в голосе, всегда широком, свободном, рожденном в бескрайных степях и не признающем шопота ни в горе, ни в радости, ни в деле. Она пела, как шла, как дышала, как думала; не учась этому, но зная, что поет красиво, что она хороша своим голосом, и откровенно гордясь этим.
Если бы птицы могли научиться песням от людей, они, вероятно, никогда бы ничего другого не пели, как только песни женщин, длинные и всегда немножко грустные.
Есть песни-пляски, как в Испании, где голос кружится вместе со словами, песни – любовные признания, как в Италии, когда певец влюблен и зовет и влечет за собой слушателя. Русская песня – раздумье. Она не быстра, не резва, не шумна. Грустный напев ее, однако, не означает печали, и ошибется тот, кто назовет ее невеселой. Раздумье требует медленного теченья, заводей, тихих плесов, маленьких мелей, широкой и ровной глади, лениво изгибающейся до горизонта. И часто бывает, что, напевая о вороне, улетевшем в родимую сторону, не о вороне ведет мысль певунья, не о вороне – о судьбе, не о сторонке – о мечте. Слова, когда их поют, означают совсем иное, чем просто произнесенные. Песня – это стих нашей речи. Нет человека, который бы не любил песни, который бы не переживал ее, который бы не вздрагивал сердцем от ее живительной ласки.
– Это не у вас звонок? – раздался вдруг голос.
Жуков крякнул, поморщился:
– Чего тебе, Вихрова?
– Вас, по-моему, к обеду зовут.
Илья Миронович протянул руку, и Таня вложила в нее полотенце и куртку.
– Рабочее место надо, хозяйка, в чистоте держать, – сказал он, натягивая куртку. – Раствор, Молчалкина, ты оставь до вечера, сам займусь. Песку только привези. Ну, пока, дочки, – и стал спокойно спускаться вниз, прогибая «сороковки» наскоро сбитых сходней.
– Вот спасибо вам так спасибо! – прокричали ему сверху.
Он помахал рукой, не оборачиваясь.
С этого дня жизнь Жукова в санатории резко изменилась к лучшему. Он перестал скучать, не заговаривал больше об отъезде до срока, стал есть за четверых и спать таким крепким и сытным сном, как у себя дома, при Анне, при ребятишках.
– Уж не влюбились ли вы, Илья Миронович? – спрашивала его врач Никитина, и он невольно краснел. Она думала – от самолюбия.
Поутру, искупавшись и потом плотно позавтракав, Илья Миронович отправлялся как бы погулять к берегу моря, ловко сворачивал, не доходя до пляжа, в сторону, и, убедившись, что за ним не следят, степенно направлялся в переулок, к дому, восстанавливаемому бригадой Евфросинии Ивановны Хустик. Его уже ждали.
– Здорово, сестрички! Ну, как сводка?
Вихрова показывала на фанерный щит с меловыми цифрами.
– Вчера, Илья Миронович, за полтораста процентов перешагнули.
– Вчера управляющий стройконторой вызывал к себе, – чуть улыбаясь и всем обликом своего лица давая понять, что все хорошее, что есть у бригады, идет собственно от него, от шефа, докладывала Фрося. – Шурка Столетова вызывает мою бригаду на шесть норм.
– На шесть?
– На шесть, Илья Миронович. Прямо страх берет, справимся ли?
– Справишься. Подписывай, не горюй.
– Ой, не могу и не могу, Илья Миронович, – лукаво-смиренно и как бы испуганно отнекивалась Фрося.
Ей вторила говорушка Вихрова:
– Вы уедете, а мы тогда как?
– Помолчи, Вихрова. То не ты и не я, а называется – шефство. Поняла?
– Понять-то поняла, Илья Миронович…
– А вот вижу, что и не поняла. Шефство называется.
– От Анны Семеновны есть что-нибудь? Дома как, в порядке? – перед тем, как приступить к работе, спрашивала Фрося, уже знавшая весь строй жуковской жизни.
– В порядке. Ну, дочки, действуем. На шесть норм! Чтоб вашей Столетовой сто лет покоя не было.
В один из очень напряженных дней, когда соревнование приняло быстрые темпы, Жуков явился с навалоотбойщиком Семеновым. Тот сначала поеживался, посмеивался, работая не всерьез, а как будто играл с детьми, но наутро опять явился, да так и зачастил вместе с Жуковым.
Бригада Столетовой догоняла.
– Пятки нам поотбивает, – говорила Вихрова.
Горняки работали теперь часов по шести в день.
Заделывали пролом в стенах третьего этажа, и подавать камень было уже нелегко.
Жуков сколотил уже две тачки для камней, и они с Семеновым вручную подавали их наверх по шатким сходням. Они делали с утра до обеда по двадцати, а в прохладные и дождливые дни – по двадцати пяти подъемов, и уставали всерьез, но оставлять бригаду без поддержки ни за что не хотели.
Работа, впрочем, сказывалась отлично на их состоянии. С высоты третьего этажа был виден весь берег с бесцельно слоняющимися горняками в белых санаторных костюмах, и Семенов постоянно подсмеивался над ними, – ведь вот не догадаются же люди, как можно жить весело и толково, – и казались они ему от этого людьми в высшей степени недалекими, вполне достойными самой скучной жизни, какая только есть на свете. Женщины были согласны с Семеновым, но вслух своего мнения не выражали, – Илья Миронович не одобрял насмешек.
Недели за две до окончания соревнования Столетова добилась шести и трех десятых норм и послала новый вызов бригаде Хустик. Дело осложнялось тем, что срок Жукова подходил к концу и уже заказаны были билеты на автобус и поезд.
Увлекательное, милое дело, которое захватило его так глубоко, что он готов был остаться хотя бы еще на неделю после своего срока, требовало тонкого подхода, а Жуков сейчас почти не имел времени, чтобы потолковать с отдыхающими, да, признаться, и не видел среди них никого, кто бы сумел заменить его с Семеновым. Правда, приехал горный мастер Забельский, коммунист, спортсмен, золотая душа, но Жуков его почти что не видел, а говорить на ходу, в столовой, не считал возможным.
«Забельский бы повел дело, – думал он, – не подкачал бы».
И вот однажды на пляже появился Забельский. Он не носил санаторной одежды, и на его плечах небрежно развевалась нарядная сине-красно-голубая шелковая пижама.
– Вихрова! Видишь того красавца?
– Красавца? Да он, Илья Миронович, совершенно физически не подтянутый!
– Молчи, Вихрова. Беги к нему, скажи: товарищ Забельский, оперативное дело, Жуков Илья Миронович просит вас подойти.
– Сюда, к вам?
– Нет, ко мне в Сталино. Беги, пока не ушел. Певцова, четвертинка имеется в резерве?
– Имеется.
– Ставь. Сейчас тебя сдавать буду.
– Ой, боже ж мой, Илья Миронович, а вдруг да мы чем-либо не покажемся ему, это ж такой позор будет!.. – взволнованно сказала Катерина.
– Покажешься!.. Бери пример с Молчалкиной, она и на своей свадьбе рта не раскроет.
– Поднимут нас ребята насмех, – осторожно заметил Семенов. – Вы же наш народ знаете, – к девчатам, скажут, подладились… как бы до дому не дошло… Смотри, Илья Миронович, накладка весьма нежелательна…
– Ладно. Смотрю. Ты только не вылазь, ради бога, безо времени.
Бригада внимательно следила за тем, что происходило на пляже. Было отлично видно, как вихрастая Таня подбежала к Забельскому и начала что-то говорить ему, то и дело показывал руками в сторону постройки, а Забельский и с ним еще отдыхающий сначала недоуменно и недоверчиво, а потом хохоча, слушали ее.
– Вот же языкастая какая! – неодобрительно заметила Фрося. – Нашла об чем смеяться!
– Ты помолчи. Не против тебя смех.
– Так хоть бы и против вас, Илья Миронович, с какой же стати!
– Наш народ без смеха и плюнуть не умеет. Гляди-ка, уговорила, ведет! Запевайте, дочки!
Фрося повела глазами на своих и запела. Песня не сразу наладилась. Жуков морщился. А от берега уже шел Забельский, сопровождаемый Таней и каким-то незнакомым горняком.
Забельский издали погрозил кулаком:
– Жуков, ты что, налево работаешь? Подряд взял втихую? Ставь магарыч, а то в газете пропишу!.. А поют-то ему, поют как! Вот же, старый чорт, сумел устроиться… Ну, смотри, какой комбинатор!.. И никому ни слова!
Весело шумя, все трое гурьбой поднялись наверх.
– Садитесь, друзья дорогие… Певцова, усаживай, знакомь. Отбой, дочки! Вот они, мои орлицы ясные, любуйтесь! Какой дом подняли! По случаю отъезда сдаю женотдел. Сдаю, сдаю… И мысль у меня явилась, – Илья Миронович обратился к Забельскому, – хотел вот с тобой посоветоваться, тебе бы, Павел Иваныч, и возглавить. Горный мастер, коммунист яркий, человек хороший… Берись! От всей души прошу и умоляю!
– Берись, Павел Иваныч! – поддержал незнакомец. – Поддержим!
Забельский, не ожидавший такого исхода дела, растерянно развел руками.
– Или имеешь что против? Говори открыто.
– Величать сейчас будем! – пронзительно прокричала Таня. – Фрося, Катя, давайте величать нового шефа!
Забельский, краснея, встал и долго не мог установить тишину.
– Тут, товарищи, два вопроса, – сказал он нехотя, будто каясь в чем-то. – Так сказать, две линии… Шефство – это без спору. Но что до меня – не выйдет. Погоди, дай досказать. Я б, Илья Мироныч, с радостью. Но вы только, девчата, не бейте меня, – он шутливо прижал руки к груди, – я ж две недели вас догонял со Столетовой… и перегнал…
– Вы?! – Таня выскочила вперед. – Это, значит, вы нам все пятки пооткусывали?
1948