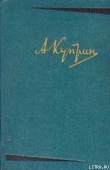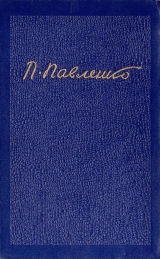
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
– Может, и он его современник? – спросил инженер.
– О нет! Этот неизвестный строитель – человек безусловно русского происхождения. До русских здесь никто веллингтоний и не видывал, это деды наши их тут насадили, да и потом вся ухватка, весь распорядок и характер дела чисто русские, озорные, с выдумкой. Вот, мол, глядите, дорогие потомки, что я нашел и приготовил для вас… Получите подарочек!
Молодой Грищук, став неожиданно задумчивее и проще, сказал:
– Я бы, товарищ Чириков, просил вас от имени комсомольской организации прочесть нам по этому поводу лекцию. Экскурсию специально устроим, и я категорически считаю, что над этой скалой надо шефство взять.
– Что ж, я согласен, – кивнул головой агроном. – Шефство – хорошее дело!.. Не слышно нашего Виктора?
– Да он давно ждет нас, – небрежно ответил молодой Грищук. – Я остановил и велел подождать, раз такое дело.
И они пошли к таратайке, где Виктор Андреевич и старый Грищук о чем-то спорили, нимало не заботясь об их отсутствии.
– А где же пропагандист? – спросил Чириков.
Виктор Андреевич раздраженно сплюнул:
– Вожжаться с ним! Сидять, Воропаева слушают, уши поразвесили, як летучие мыши… говорить, ежли можешь, часа через два… я не стал дожидаться.
– Вот кому! – восторженно крикнул молодой Грищук. – Воропаеву! Ему бы об этой скале рассказать! Он бы!.. А? Поднял бы! А что вы думаете? Честное слово, поднял бы!
Таратайка тронулась.
– Да он же, Воропаев, вашего дела еще не понимает, – алиготе, мускат, каталон не знает, – грустно заметил Горюнов, но юноша ничего ему не ответил.
Может быть, ему не хотелось повторять при отце свою выдумку о Воропаеве, а может быть, то, что он сейчас пережил, еще владело им полностью, и не хотелось расставаться для пустого спора с тем значительным и прекрасным, что видели они только что.
Только старый Грищук немного погодя спросил сына:
– Где были?
– Клад нашли, – ответил тот сухо.
Виктор Андреевич присвистнул и сказал, не оборачиваясь:
– Сегодня же, как приедем, надо заявить, куда следует.
1947
Осенняя заря
Он прижал руку к груди и весь обратился в слух, следуя за шорохом ее быстрого бега на цыпочках, за стеною. Вот она приблизилась к окну, слегка зацепив в темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и, боясь вспугнуть тишину, приоткрыла окно и еще темный, непроснувшийся сад. Напев дождя порвался в дом.
Кто мог подумать, что на закате жизни мыслима такая острая и сильная любовь, как та, что сегодня пережил он?
Кто мог сказать, что душа его еще способна на подвиг страсти, на восторг полного самоотречения, на поиски юношески бурного счастья?
Старый холостяк, он давно уже махнул рукой на то, что не свил своего гнезда, не создал семьи, не знает радости отцовства.
Семья! Шутка сказать! Ему и раньше казалось, что с созданием семьи связано много такого, чего нет в его характере, и никогда не было, и уж, понятно, не появится ныне, когда впору быть дедом. И вдруг!..
Да и она, Вера Павловна, тоже, кажется, безмерно удивлена тем, что еще живо и молодо ее сердце и что она не утеряла способности любить с такой девической смелостью, от которой у него кружилась голова, как от дурмана.
Невысокая, хрупкая, она в свои сорок два года выглядела бы совсем молодой, если б следила за собой повнимательнее. Но Вера Павловна не любила украшать себя, уделяя внимание лишь косам, не особенно длинным, но очень плотным, тугим, придававшим ее лицу выражение особой энергии и силы. Она терпеть не могла моды на завивку и локоны, называя их «метелками» и «вениками», и предпочитала всем новшествам спокойный пробор и крендельки на ушах, – манеру, в которой причесывались лет пятьдесят назад.
Прическа, должно быть, немного старила ее. Не молодили и платья, всегда простые, скромные, без затей, и низкие каблуки туфель, делавшие длинными ступни ног и некрасивой – походку.
И все же, несмотря на недостатки внешности, Вера Павловна считалась молодой женщиной, хотя сама она давно уже отстранила от себя все женское. Потеряв под Сталинградом мужа, она посвятила себя дочери. Та кончала десятилетку, мечтая об историческом факультете, и обе они, мать и дочь, уже всерьез подумывали, в какой именно институт подадут они заявление, как переедут отсюда на север и поселятся обязательно где-нибудь на краю города, где можно будет развести огород.
И вот к ним, в маленький южный город, приехал лечиться друг покойного мужа – даже не друг, а скорее знакомый – Сергей Иванович Устюжанинов. Он был намерен переселиться на юг и охотно поменялся бы площадью. Раз или два он зашел к ним именно по этому делу, затем они заговорили о покойном муже Веры Павловны, о том, как они с Устюжаниновым когда-то работали в Средней Азии, орошали пустыни и дрались с басмачами, и вдруг как-то получилось, что он уже почти не покидал по вечерам двух крохотных комнаток Веры Павловны, помогал Ане готовить уроки, ходил с ними в кино, провожал Веру Павловну в библиотеку, где она дежурила вечерами, а если обе они отсутствовали, он сидел в городском саду перед окнами их квартиры и с утомительным упорством ожидал возвращения хозяек.
Дом, где жила Вера Павловна с дочерью, восстанавливался по частям и был еще наполовину пуст, темен, не прибран. Но комнаты, выходящие окнами в тихий угол городского сада, были чудесны своей поэтичностью. Старые, узловатые глицинии вились по каменным стенам сплошным змеиным выводком. Весною стена была серебристо-фиолетовой и чудесно благоухала. Осенью пряно пахнущие шаровидные буксусы и мушмула, до зимы распространяя сильный запах ирисных конфеток, создавали в этом углу свой особый воздух, необычайно покойный и немного грустный. Иногда сюда долетала из театра музыка, смех гуляющих; иногда отважная пара объяснялась у самых окон, и чужая тайна, выданная неосторожно громкой фразой, оставалась в их комнате, как залетевшая бабочка.
Вчера Аня уехала на сутки в экскурсию, и, проводив ее до автобуса, Устюжанинов сразу же вернулся к Вере Павловне.
Была середина осеннего предпраздничного дня.
Солнце, по которому то и дело лениво проползали длинные облака, светило неярким, как бы в сторону обращенным светом, но день тем не менее казался торжественным, праздничным.
В воздухе стоял темный багрянец кленов, платанов, буков и тополей. Казалось, солнечный блеск пленен их листьями и впитался в них, и светит или не светит солнце – а он будет сиять и рдеть на деревьях даже в лунную ночь.
После обеда они долго гуляли в саду и, едва передвигая ноги, вернулись к чаю. Она почти засыпала. И вдруг… да разве припомнишь, с чего начался и как потом развился разговор о том, что… о том, что… о том, что нужно жить как можно полнее. Да, разговор коснулся именно этой темы, но тотчас скользнул с нее в сторону, и теперь уже никогда не восстановить в подробностях, что произошло перед тем, как он, замолчав, опустился на колени перед Верой Павловной и, боясь, что это ужасно смешно, нелепо и совершенно глупо, сказал ей дрожащим от счастья голосом:
– Вера Павловна, я люблю вас…
Что она ответила ему? Ах, неважно. Да она, кажется, ничего собственно и не ответила, а взяла его голову своими нежными ловкими руками и как бы навсегда сняла ее с плеч.
– Как и за что меня можно любить? – услышал он потом. – Я ведь не молода. И потом – Аня уже взрослая девушка… – и, говоря это, она, словно не понимая, что делает, прижалась к его губам своей горячей щекою и потерлась ею о его губы.
Он не запомнил себя, своих поступков, своих движений. Ему запомнилась она, и только по ее поступкам мог он догадываться о своих.
Электричество в тот день зажглось поздно, но и без света, в густой тьме комнаты, он видел все, что хотело видеть его сердце. Когда вспыхнул свет, они, как ни странно, этого даже не заметили. Разве его не было раньше? И разве в безответственной темноте поцеловал он ее глаза, теплые и пушистые, как пчелы? Все может быть.
Одному лишь удивлялся он несказанно – тому, что оба они вдруг замолчали и изредка перешептывались словами, почти не имеющими никакого значения, но необходимыми им для выражения счастья.
Потом свет опять погас, и светлая ночь прильнула к окну. В комнату заглянула ветвь мушмулы с дремлющей на ней синичкой. Вера Павловна поднялась с дивана и неслышно скользнула в соседнюю, анину комнату, оставив его одного.
Он прижал руки к груди и весь обратился в слух, следуя за шорохом ее быстрого бега на цыпочках за стеною.
Вот она приблизилась к окну, слегка зацепив в темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и осторожно, боясь вспугнуть тишину, приоткрыла окно в еще темный, непроснувшийся сад.
Напев дождя ворвался в дом.
Что теперь делать? Уйти? Или остаться? Пойти ли за нею и послушать, как бьется ее захлебнувшееся радостью сердце? Или навек попрощаться с этим домом и никогда не показываться ей на глаза?
Но куда и зачем уходить от счастья, найденного так неожиданно, как находят клады? А может быть, она не захотела оставить его у себя и, убежав в другую комнату, подсказала, что и ему следует удалиться, ибо то, что произошло, было делом случая, не имеющего права на повторение?
Но стоило ему задать себе этот вопрос, как он почувствовал, что никуда не уйдет, не может, не должен уйти, что такие случаи для того и существуют в жизни, чтобы оставаться в ней навсегда.
Он тоже раскрыл окно, но не выглянул, а остался в тени гардины. Прохожий дождь, хлопотливо постукивая капелью, заканчивал свою предрассветную работу. На востоке, за садом, уже яснело.
Произошло что-то такое большое, что не вмещалось в ночи, а требовало всей жизни. Устюжанинов подтянулся на руках на подоконник и соскочил в сад, оглядываясь на окно аниной комнаты.
Она стояла, закутавшись гардиной, и только одно ее взволнованное лицо рисовалось в квадрате окна.
– Ты куда? – далеко слышным шопотом спросила она и улыбнулась.
Он понял – что за нелепость уходить! Вся жизнь здесь, в ее руках.
– Помечтать!
– Без меня? Один? – в голосе ее был шутливый упрек.
– Иди ко мне, – сказал он, – встретим утро.
Она быстро сбросила с плеч гардину, но остановилась в нерешительности.
Сейчас, когда было светлее, чем ей хотелось, неясный стыд невольно охватил ее и задержал у окна. Ей не хотелось бы выглядеть смешной. Может быть, ее уставшее лицо требовало отдыха в темноте?
Ведь только молодости простительна небрежность… Ну а любви разве не простительна?
Разве этот немолодой, далеко не изящный человек, с грубоватым лицом и огромного размера улыбкой, занявшей все его лицо, хотевшее быть серьезным, – разве он не самый близкий на свете?
И разве он не прекрасен уже тем, что близок ей, что принадлежит ей, что нужен ей, как и она ему?
– Скорее, – повторил он, следя за тем, как она задумалась. – Сейчас рассветет. Иди же!
Она вскочила на подоконник и озорно по-девичьи, блеснув ногами в воздухе, побежала ему навстречу, доверчиво давая разглядывать и лицо, и свою фигуру, и свою полную покорность счастью.
– Ну, как же мы будем теперь, как? – тихо спросила она, прижавшись к нему. – Ах, это до того стыдно… Ведь Аня уже взрослая девушка!..
Он, не в силах произнести ни слова, молча гладил ее волосы.
– Ах, да не в этом дело… Но как же теперь с твоей комнатой? – шептала она, пробуя вернуться к дневным заботам. – Может, ты теперь не захочешь меняться? – тихо смеялась она. – А ты будешь любить ее, правда?.. Не комнату, а Аню… Да?
– Нас теперь трое, – сказал он. – Ты слышишь? Трое. Огромная семья… Мы с тобой останемся, а Аня уедет, будет жить у меня.
– Но я должна буду ее проводить… Заодно посмотрю, как ты жил…
– А я буду у тебя хозяйствовать и скучать…
– А книги твои – ты их оставишь там? Или привезешь?
– Книги? Надо бы Ане оставить… Как ты думаешь?
– Я думаю, лучше оставить ей. Тебе не жаль?
Тихонько капало с дерева на гравий, будто кто-то прыгал вдали по лужам. Зашевелились деревья. Птицы раскачивали их ветви, и деревья шумно отряхивались, как куры после дождя.
Багряно-желтые и рдяные румянцы сада сияли, будто солнце уже давно взошло. Лимонно-желтые листья, рассеянные по аллеям, были похожи на задремавших солнечных зайчиков. Легкий ветер красиво перегонял их с места на место.
А на востоке, в узкую розовую прорезь, будто сделанную острым ножом на серо-мглистой мякоти облачного неба, бил яркий, резкий, торжествующий свет.
Он был полон цветения и окрашен в пронзительные краски, каких не бывает ни весной, ни летом. Он был оголен, как вынутый из ножен меч.
Они стояли лицом к заре. Она сначала коснулась их ног, скользнула по фигурам и потом быстрым движением обдала их лица мимолетным румянцем, точно смутив.
День начинался чистый и солнечный, как всегда в середине осени, известной в наших местах своим постоянством.
1947
Идут дожди
В эту зиму дожди были затяжными до одурения и такими жесткими, ветреными, каких давно не помнили старожилы.
По ночам к дождю присоединялся норд-ост. Гудели и вздрагивали крыши. Камни, которыми у нас прикрепляют от ветра края кровель, шумно ползли, перекатывались по беспокойному железу, а в окна стучали обрывки веток и полумертвые, измученные ветром птицы.
В такие ночи собаки лают почти беспрерывно, и сон людской тоже пуглив, неровен, и ночи кажутся нескончаемыми, может быть потому, что люди рано ложатся спать.
В одну из таких тревожных ночей в дом к нам постучался печник Орлов, активист с отдаленного избирательного участка за перевалом. Он вошел в переднюю, и, пока мы с ним говорили о том, чтобы он заночевал у нас, под его ногами натекла лужа воды, и Найда, овчарка, спавшая в передней, из любопытства даже полакала из этой неожиданно образовавшейся перед ней лужи.
Когда Орлов снял шинель и прошел в комнату, вода побежала за ним быстрым пунктиром, потому что и брюки его тоже были насквозь пропитаны водою.
– Главное, что темно, – говорил он, извиняясь за позднее вторжение, – а на дождь я не обращаю внимания. Я эти дожди до ужаса обожаю. Меня хлебом не корми, только дай под дождем побегать.
Но мы, не поверив, велели Орлову снять сапоги и высушить у печурки портянки. Жена даже накричала на него, боясь, что иначе как криком его не возьмешь. Но, к нашему удивлению, Орлов недолго упрямился, а снял сапоги, повесил портянки на край ведра с углем и, блаженно шевеля пальцами, придвинул к раскаленной печке свои узкие красные, размягченные сыростью ступни.
– Откуда так поздно? – спросил я Орлова. – И неужели не мог подъехать на какой-нибудь попутной?
Он подмигнул мне лукаво.
– Тут личный вопрос имеется, – сказал он, не отвечая по существу. – Закрываю карьеру – и домой. Прощайте, ласковые взоры, – загадочно прибавил он, опять подмигивая мне.
Зная трудный характер гостя, я не расспрашивал, в чем дело, а поставил на стол кувшинчик густого саперави – вина, по отзывам всех, кто его отведывал, необычайно красноречивого.
– С вами тут только семь лет загадил для неизвестно чего, – раздраженно продолжал между тем Орлов, широкими кругами обходя тему своего повествования. – Скучаю по степи, нельзя сказать как. Где тут, скажем, гуси-лебеди? Это я, конечно, к примеру, теоретически. Или перепела! Да что дичь! Тут же петуха хорошего не сыскать. Русского петуха тут, уверяю вас, нет. Ни гребня, ни голосу, ни характеру. Это что же такое? А пчела? Укажи мне тут настоящую пчелу! Здешняя и ужалить-то не умеет, а у нас… О господи, кобылу бьет, что ты думаешь! Например, кубанская пчела умнее собаки. Ты ей скажи «пиль» – поймет. Она тебе такой мед сварганит – жизнь отдашь!
– Куда же ты все-таки шел? – наскучив слушать его словесные маневры, спросил я, когда мы присели к столу и вино было разлито в стаканы.
– Шел! – обиженно покачал он седой головой. – Разве шел? Это не называется, что я шел. А… Да ну! Я их, чертей, всех скоро умою, всем цену определю. Шел!.. Тут и итти-то по-людски нет возможности. Ну, будь здоров! С вечера вино темнит, поутру яснит.
И он не спеша, медленными глотками стал «прожевывать» вино, как это делают дегустаторы, и уставшее лицо его вскоре посвежело от этого уютного занятия.
– Или возьмем печку, – сказал он, выпив вина. – Вот ты человек читающий, можешь мне сказать, что есть самое главное в печке?
– Топка, – попробовал догадаться я, но сразу же по огорченному выражению лица Орлова понял, что недогадливость моя причинила ему горе.
– Тяглость, тяглость – главное, – снисходя к моему невежеству, как можно ласковее объяснил он. – Или, проще сказать, дым. Дым и есть глава дела. А что ты думал? Я по дыму сразу пойму, чего где требовать. Так ведь дым где может правильный ход иметь? В степу, в долине. А в этих чортовых горах ветер – и тот, собака, сигает с пяти сажен, с железной крыши лохань выгибает. Вот сам послушай!
И мы в самом деле стали прислушиваться к тому, что творилось за стенами дома.
Ветер действительно прыгал с гор на крышу, и та гудела и гнулась под его тяжестью, а он валялся по ней и подпрыгивал в диком азарте. Брызги дождя, взметаемого ветром в разные стороны, то громко били в окна, то скользили вдоль них длинными быстрыми червячками. Гибкие тополя кланялись в пояс, кипарисы, не умеющие раскачиваться, бились друг о друга, ломая ветви, а тяжелые кедры, клокоча кронами, дрожали, точно готовые взорваться изнутри.
– Вот ты мне и определи зараз: норд-ост или что?
Ветер в самом деле не придерживался точных румбов.
Казалось, он слился с дождем и без устали сек землю длинными водяными хлыстами. В такую погоду останавливались даже грузовики, а кони не могли сделать и шага. Пешеход же, если такая ночь заставала его на горной дороге, находился в смертельной опасности. У нас дождливые ветра – что буран на севере.
– Вот почему в этих скаженных местах мангал [11]11
Мангал – летняя переносная печка.
[Закрыть]с углями – все твое отопление! Недаром же люди придумали! А они мне доказывают – голландки… Голландка – она легкий, правильный ветер любит, чтобы тяглость была, чтобы разница в давлении. Так? Ну, а вот у них не так.
Он налил себе еще вина и лихо омочил в нем свои тусклые серебряные усы. Орлов любил рассказывать врассыпную, десятками намеков, параллельных мыслей и притчей, будто слово у него было всего лишь разком, который сам по себе ничего не значил до тех пор, пока не находил места в группе других. Рассказывал он, не заботясь, с чего начал – с конца, с середины ли; но время было позднее, и я поторопил его:
– Давай рассказывай по порядку, где был, а то, брат, спать пора.
Он отставил вино, облизал покрасневшие усы и, сморщив глаза, будто нечаянно хватил хрена, начал свое печальное повествование.
Дело в том, что он прикреплен был к избирательному участку в глухих горах. Человек словоохотливый, он был общественником по натуре и задание свое выполнил бы лучше многих других, но, на беду, захотелось ему заодно блеснуть и мастерством печника.
Явившись на участок, он сразу пообещал поставить новую печь в комнате голосования да подремонтировать развалившуюся в агитпункте и, дабы слово его не расходилось с делом, тотчас же приступил к работе. Печи вышли на славу. Тогда и соседний участок попросил Орлова соорудить их каркасную печечку, ибо в агитпункте впоследствии должен был развернуться колхозный клуб.
Польщенный Орлов сложил и каркасную, и предметная, деловая агитация его была хорошо воспринята избирателями.
Но тут на горе Орлова пошли дожди, подули затяжные ветры, и все печи его, как он говорит, «сказились»:
– Не то чтобы дым из себя выпущать, а как бы, понимаешь, скорее всего в себя всасывать. От беда! И главное – с политической стороны толкуется!
Избиратели, сначала так радовавшиеся печам, потребовали либо переделать их, либо вовсе убрать. Орлову пришлось пережить немало огорчений. Кто-то даже потребовал разобрать: не с умыслом ли понаделали эти никуда не годные печки! И все то радостное рвение, с которым Орлов начал работу, теперь перерастало у него в кровную обиду.
Тем более что печник он был замечательный, до тонкости знавший «печную душу».
– Я вот у одного профессора ставил, – рассказывал он мне с обидой в голосе, хотя речь зашла теперь о приятных вещах, – четыре предмета было заказано: камин по-английски, чтоб как костер горел, с треском, с шумом, но отнюдь, брат, без дыма, отнюдь; второе – голландка с лежаночкой, на старинный манер; третье – плита, а четвертое – шведка. А тех шведок я сроду не складывал и, какой у них характер, не знал.
Ладно, сдаю плиту, сдаю голландку с лежаночкой, сдаю камин по-английски, складываю по его рисунку и шведку – на железном каркасе, белыми изразцами выложенную. Сдаю работу – отказ, не принимает. Это, говорит, простите, не шведка. Та петь должна. Взял он, понимаешь, скрипку и на басовой струне попиликал мне перед ухом: вот, говорит, какой у нее истинный голос. Это так, говорит, специально и делается для уюту, чтобы одинокий человек как не один чувствовал себя дома. Я даю ему свой аргумент. «Печка, говорю, – не баян, чтобы на ней романсы играть, печка имеет свою должность – обогревать». Нет и нет! Ах ты, ученая же твоя душа! Стал я ту шведку заново перекладывать, замучился, как домовой; сложил заново – не поет. Вот зараза! В третий раз начал. Два-три фокуса я в дымоходе устроил, кое-чего вроде свисточка примостил, поддувальце маленько перешил – запела. Правда, с басов сбивается, выше берет, но все-таки приятность имеется. Очень весело. Ну, правда, за настройку неточную не стал он спрашивать. Только, говорит, вы мне теперь камин переберите «под сверчка». То есть как это, говорю, под сверчка? А есть, он мне говорит, такая замечательная постановка «Сверчок на печи», и в театре сверчок по ходу действия верещит. От печки? Видать, говорит, от печки. Взялся я ему «сверчка» в камин вставлять. С неделю бился, что ты думаешь. То так захрипит, мать честная, будто кого душат в той печке, то сипеть начнет, а то хоть бы что – молчит, как проклятый. Ну, в общем и тут добился. Вставил сверчка. Сверчок и сверчок!.. Так он, профессор-то, расчет произвел и говорит: я, мол, еще сроду таких печников не видывал, и шведок с пением на свете, признаюсь вам, только одна – вот эта самая, а каминов со сверчком – один, вот этот самый. Я, говорит, вас проверить хотел. Тебе бы, говорит, Орлов, скрипки делать, ты, говорит, маэстро. Клянусь богом, так и сказал. Тут несколько из Москвы артистов было, певец один, на шаляпинской должности состоит, так он мне магарыч за того сверчка поставил. Вы, говорит, товарищ Орлов, чего-то нашли. На ваших печах, если с умом топить, «чижика» сыграть можно. С того времени, брат, так и пошло: орловские печки, да орловские печки! И в булочных ставил, и в санаториях, все характеры изучил. Мою работу сразу узнаешь – корпус красивый, не как вообще, а специальный вид имеет.
– В общем, я так понимаю, что ты им с пением печки понаставил? – прервал я его, чтобы вопросом своим приблизить повествование к основной теме.
– Вот именно! – радостно подтвердил он, точно я, вопреки его ожиданиям, легко решил очень трудную, сложную задачу.
– А они не одобрили?
– Да кому одобрять-то! Есть там одна активистка, Марья Петровна. «Что это, говорит, Орлов, твои печки, как мины замедленные, погукивают? Я все время, говорит, боюсь, не взорвались бы». А другая, старуха уж, а тоже в критику лезет! «Я, говорит, все нервы об твои печки попортила – все слышу, будто где-то молоко перекипело». Ах, боже ж мой! Молоко у ей перекипело!
И вот, перетерпев за свою непонятую оригинальность, решил тогда Орлов переложить все печки, лишить их индивидуальности и характера.
– Так что же ты скажешь? Эта самая Марья Петровна говорит: «Ну вот и слава богу, кто это вас подучил так класть печки, вот молодец так молодец!» Ты слышишь? Меня научили!
Да, репутация Орлова как печника была, очевидно, надолго в наших местах испорчена, и недаром он рвался теперь в какие-то степи, где гуси-лебеди, петухи и пчелы, до которых ему вот уже лет тридцать не было никакого дела.
– А в самом деле, – сказал я, – разве уж так необходимо, чтобы печь пела? Может, одинокому чудаку это приятно, а другим, согласись, ни к чему. Разные бывают вкусы, и хорошая печка – это в конце концов та, что хорошо греет.
– Я вас тут тридцать лет грею, и никто никогда не жалился.
Ему было, конечно, особенно неприятно, что его провал произошел в связи с выборами и что теперь о нем будут поминать как о человеке взбалмошном и несерьезном.
– А все дожди, – сказал он убежденно. – Это все от них. С дождем свяжись – не развяжешься. Я, когда дожди, беспокойный делаюсь. Нигде ж не тягнет: ни в дымоходах, ни в груде. И печки дымят, и люди сипят. Я это имел в уме, да забыл…
Дождь повис на окнах, и водяные червячки со скрипом побежали справа налево, будто дом накренился, как корабль.
Ветер бил в стены тяжелыми волнами. Двери вздрагивали, напрягались оконные стекла.
– Беда, беда, – бормотал в треть голоса уставший от тепла Орлов. – Большое недоразумение с этими дождями может произойти.
– Оставь ты, – стал я успокаивать гостя. – Ну, посмеется народ, позубоскалит, а через два дня и забудет… Главное, печки стоят, греют, а это – главное.
– Я не об печках, – ответил он озабоченно. – Я об выборах думку сейчас имею. Ведь я, милый, пять часов к тебе шел один. Во тьме, как во чреве китовом. И то дорога мне сколько годов известна. Партизанил я, разведчиком ходил, саперничал по этим местам. Другой бы ни за какие премии не пошел. Теперь чуешь, к чему подход делаю?
– Ничего, милый, пока не чую, и зря ты сегодня ко мне шел. Мог бы выждать погоду.
– Зря? Да ведь кому ж итти? Народ-то новый, только при свете разбирает, где что. Их пошли, ног потом не найдешь.
И только тут истинное беспокойство Орлова начало приоткрываться мне сквозь мутную даль его рассказа.
Замученный неудачными печками, терзаемый стыдом за свою репутацию, он валил на дожди все беды. В них одних он видел угрозу не только себе, но и делу вокруг себя.
– Грузовики не пройдут? – спросил я, думая теперь тоже уже не о печках, а о дне выборов, который приходится на послезавтра.
– И ни-ни. Только пеший. Теперь ты посчитай: в полночь конец голосовке, час на подсчет бюллетеней, так? Да пять часов с пакетом. Вот, значит, не ранее шести утра только наша цифра до областной комиссии и дойдет. И то – ты слушай меня – и то в случае, если именно я пойду. Понял теперь? Ну, то-то.
Оказывается, сегодня его избирательный участок предпринял опытную отправку сведений в областную комиссию конным нарочным и грузовой машиной. Орлов же, хотя ему ничего не было поручено, сам, по своей охоте, отправился пешью. Ни конь, ни машина не добрались. Пять часов, обшаривая дорогу руками, рискуя ежеминутно свалиться под откос, не шел, а почти полз он, ведомый страстным желанием возвысить себя в глазах тех, кто разуверился в нем благодаря проклятым печкам, и был рад, горд, доволен, что победил. Как всегда в таких случаях, желание поиздеваться над недругами непреодолимо клокотало в нем, ища новых поводов для раздраженной воркотни.
Теперь он вообразил, что завистники обязательно придумают послать кого-нибудь другого, а не его.
– А будь они неладны, слушай, я ж за три часа управлюсь, ежели на то пошло! Пойду грушевой поляной, понял? Тропкой спущусь в ущелье. На заду съеду. А ущельем мне – рукой подать.
Успокоенный счастливо придуманным выходом, он блаженно вздремнул у печи.
Грохот ветра и грустный голос дождя перекликались за окном. Загнув набок тонкие хвосты своих крон, кипарисы готовились прыгнуть в воздух. Боролись друг с другом кедры. Изгнанные из сухих закутков, к стеклам окон прижимались нарядные синички. И по-прежнему черной, страшной, забывшей свои сроки, была ночь.
– Ложись. Постелено, – сказал я, вставая.
– Ни боже мой. Сейчас пойду, – пробормотал он, не открывая глаз. – Электрического фонарика не дашь?
– Да ты, Орлов, просто с ума сошел! Чего ты второй раз итти вздумал?
Он встал, вздрагивая и устало потягиваясь:
– Они же, охламоны, подговорят еще какого мальчонку: иди, мол, обгони дядьку Орлова. Что ты думаешь! Загубят кого ни попало. Нет, уж я если взялся так взялся.
И, навалив на себя отяжелевшую шинель, он вышел. Все бежало под ветром. Говор горных потоков глухо пробивался сквозь пляшущий шум ливня. Казалось, в черную ночь сползает с неба еще более черное, густое месиво туч.
– Разве это природа? – и Орлов зло сплюнул неизвестно куда. – А у них одно в голове – голландки дымят. Да тут человек задымит… Тут человек может прахом пойти. Прощай пока! – и по звуку его тяжелых шагов я понял, что он отправился.
– Может, подождем утра?
– Не встревай в мое дело…
Найда, пошевеливая ушами, удивленно глядела вслед исчезнувшему Орлову. Она, должно быть, еще ни разу не видела, чтобы люди исчезали так быстро, не оставив за собой никакого следа. Несколько раз примеривалась она прыгнуть в дождь и разведать, куда исчез гость, но, не решившись, только виновато опустила хвост.
1947