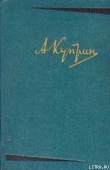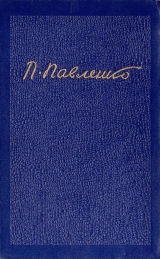
Текст книги "Собрание сочинений. Том 3"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
– Знаете, Малафеев, теперь я вас поняла, – возбужденно говорила ему девушка по имени Лида. – Да, слабому нужно думать в минуты опасности. Слабый должен быть в этот момент умным. Слабому нужна ответственность. Я это здорово сама поняла. Сегодня я смело смогла бы пойти в атаку. Поверьте, это не фраза.
– Да уж ходили, – снисходительно сказал Малафеев. – С того края, где мы лежали, наших ни одного не было. Метров пятьсот мы сделали. И на «отлично».
1942
Жизнь
Мать с четырехлетним мальчиком переходила улицу. Путь преградили трамваи, остановившиеся по сторонам перекрестка. Она ожидала, чтобы вагоны разминулись.
Вдруг мальчик, весело взвизгнув, вырвался вперед и пробежал по рельсам перед самым вагоном, уже тронувшимся.
Мать закричала. Крик был так страшен, что оба вагоновожатых сразу затормозили. Публика высунулась из окон, а висевшие на подножках стали заглядывать под колеса.
– Тоже – мать! – отовсюду кричали женщине. – Балбеска несчастная!
Она металась в узком пространстве между трамваями, зовя: «Коля, Коля!» – и сразу сделалась какой-то растрепанной, жалкой.
– Какой из себя ваш? В голубой рубашке? Беленький такой?
Задыхаясь, отирая с лица пот, держа руку у горла, она кивала головой, глядя на окружавших ее полными ужаса глазами.
– Вон его какой-то военный подхватил на руки! Ранен наверно!
– Где, где? – Она заторопилась, куда ей указывали.
Высокий запыленный летчик, настолько запыленный, что казался одетым с ног до головы в одно серое, шел по тротуару, держа Николая на руках и все время целуя его. Мальчик смеялся и теребил летчика за уши. Он не казался ни раненым, ни даже ушибленным. Ему нравилось на руках у летчика.
– Товарищ военный, вы с ума сошли! – крикнула мать, догоняя летчика.
Тот продолжал итти, ничего не слыша.
– Колька ты мой, Колька! – бормотал он в блаженном безумии. – Как же ты тут оказался? Негодяй ты мой, милый!
Мальчик что-то отвечал ему.
– Слушайте, это хулиганство! – Мать схватила летчика за рукав и остановила его. Она была близка к истерике. – Куда вы потащили моего мальчика? – Она почти кричала: – Это безобразие! Оставьте его! Я позову милиционера!
Летчик оглянулся, точно его разбудили.
– Вы чего? – спросил он женщину.
Толпа уже окружила их шумным кольцом.
– Куда вы тащите моего мальчика? Это хулиганство!
– Какого вашего мальчика? Это мой собственный сын. – И, точно проверяя себя, летчик удивленно поглядел на малыша: – Ты чей сын, Коля?
– Твой! – кокетливо ответил тот и протянул руки к женщине. – А она – мама.
– Как она мама? А где же наша мама?
– Наша мама умерла, – объяснил Коля. – Немцы, когда пришли, они выстрелили в нее, а тетя Липа закрыла мне глаза, а потом я посмотрел…
– Понятно, Коля, понятно, – и отец судорожно втянул в себя воздух. – И вы взяли его? Давно? – спросил он женщину.
Она стояла, закрыв глаза, и скрипела зубами, будто превозмогая острую боль. Руки ее, все еще прижатые к горлу, дрожали.
– Вот что, – сказал летчик. – Вы маленько придите в себя. Как же мы тут… Надо бы нам поговорить… Куда вы шли?
– Домой.
– К себе?
– Ну да, к нам, – она несмело кивнула в сторону мальчика.
– Пошли. Я, правда, как чорт… да тут еще эдакий переплет… Ничего?
Толпа медленно расступилась.
– Ничего, что вы… – говорила женщина. – Вот сюда… Коленька, где твой платок? Вытри нос… Направо! Но вы не можете, не должны, вы не смеете действовать незаконно.
Летчик молчал. Она семенила за ним с таким виноватым видом, будто была уличена в преступлении, за которое ей грозит самое позорное наказание.
Они не помнили, как дошли.
Комната была маленькая, бедно обставленная, с кушеткой, столиком да примусом в углу, на чемодане.
Несколько стареньких игрушек лежало на подоконнике.
Летчик опустил сына на пол.
– Давайте познакомимся. Майор Бражнев.
– Рогальчук. Очень приятно. Думаю, что у нас не получится недоразумения.
– Какое тут может быть недоразумение? – сказал он, удивленно и вместе с тем строго взглянув на эту немного неприятную ему женщину.
Она была невысока, худощава, с очень милым лицом, которое портила только тяжелая складка у губ да выражение крайней растерянности – печать несчастья, бывшая душой всего лица.
Длинные волосы опоясывали голову светлым венком. Руки были тонки, голубоватых тонов. Малокровие.
– Садитесь, – сказал он. – Поговорим. Времени у меня мало.
– Стряхните с себя пыль, умойтесь, товарищ Бражнев, выпейте чаю…
В голосе женщины майор почувствовал желание удержать его и что-то противно выпросить, вымолить у него.
– Нет, сначала поговорим.
Все же, прежде чем начать рассказ, она успела выйти к соседке, и по звукам, скоро донесшимся из коридора, Бражнев догадался, что там разогревается чайник.
– Я жила в Ленинграде, – сказала Рогальчук. – В январе погиб мой муж. Почти на моих глазах. Я осталась одна. Было так тяжело, что я не знала, сумею ли жить. Мне нужна была жизнь рядом со мною, чья-то жизнь, чей-то рост… чье-то счастье, чтоб итти вместе с ним. Я решила усыновить сироту. Их было много. Но я не сразу нашла. Я искала похожего на мужа. Конечно, дети потом меняются, но хотя бы месяц-другой видеть родные черты в маленьком личике мне было просто необходимо. Затем я хотела, чтобы мальчик носил его имя. Когда я впервые увидела Колю, я сразу поняла – вот он, мой мальчик, мой навсегда.
– Какой же он сирота? – сказал майор. – Это ошибка.
– Нет, папа, я сирота, – вмешался Коля. – Тетю ж Липу опять немцы убили.
Он сидел, маленький, бледный, с личиком, тоненько разрисованным голубыми жилками, и внимательно следил за приключениями собственной жизни.
– В интернате мне сказали, что мать Коли убита, отец погиб на фронте, ближайшие родственники частью тоже погибли, частью в больнице на излечении. Я тут же договорилась с администрацией и взяла его.
– Тогда погиб не я, однофамилец мой, – сказал майор.
Рогальчук озабоченно оглянулась, что-то ища.
– Ты что, мама? – спросил ее мальчик.
– Сумочку.
– Ты опять ничего не видишь, мама, сумочка же вот, на стуле.
Исподлобья взглянув на сына, майор пробарабанил пальцами по столу.
Его оскорбляло, что мальчик называет матерью эту чужую женщину, но он стеснялся сделать ему замечание вслух.
Рогальчук вынула из сумочки паспорт и положила перед майором.
– Я считала, что имею право взять сына погибшего командира. Я человек грамотный, я работаю, я могу воспитать ребенка. Я сама вдова командира.
Голос ее был приятно негромок и, вслушиваясь в него, Бражнев думал о той, которой он уже никогда не увидит, о той веселой, тоже немножко болезненной, но все же гораздо более сильной, чем эта женщина, которая была его женой, его счастьем, половиною его сил и надежд.
С ее смертью он становился как бы гораздо меньше, недолговечнее, бесталаннее, точно вместе с нею терял и часть своего огромного, всегда казавшегося беспредельным, будущего.
Соседка внесла на подносе две чашки чая и блюдечко с вареньем. Бражнев машинально придвинул к себе чашку и, только положив в нее две ложки варенья, сообразил, что не то делает.
В комнате было тихо. По-видимому, Рогальчук уже кончила говорить.
– Эх ты, папа, папа! А еще взрослый! – И Коля, очень довольный, что поймал отца на ошибке, захлопал в ладоши. – Мама даст тебе! Вареньице надо всегда на хлеб мазать. Не знаешь?
Отец смущенно улыбнулся.
– Чорт его, я отвык, как тут у вас… Ну, виноват, не буду. А сладкий чай ты выпей, Колька.
– И опять неправда, – назидательно возразил мальчик. – Я еще кашу есть буду, а чай потом.
– Вы меня, по-видимому, не слушали, – задыхаясь, произнесла Рогальчук. – Так вот слушайте: Коля в такой же мере мой сын, как и ваш. Он мой по закону. Я усыновила его.
– То есть как это усыновили? Ну, знаете…
– Конечно, он Николай Бражнев. Но он внесен в мой паспорт.
Майор встал, прошелся по комнате.
– Вот, чорт его, положение. Что же мы будем делать? А надо решать. И хорошо надо решить. Прежде всего спасибо вам, что спасли малого, что полюбили его. Спасибо, что боретесь за него. Найди я его беспризорным, куда мне с ним? Просто б беда!.. Ну, а что будем делать, когда я вернусь с войны?
– Об этом сейчас незачем думать, – твердо сказала Рогальчук. – Я думаю, что и тогда мы решим дело так, чтобы ребенок не проиграл, а выиграл.
Никогда не был мальчик так дорог отцу, как сейчас. В штопаной рубашонке, перешитой безусловно из старой блузки, он выглядел сейчас очень озабоченным. Он понимал, что решалась его судьба, и, может быть, боялся, что взрослые решат не так, как надо.
Майор вздохнул.
– Зарабатываете-то ничего? Хватает на двоих?
– Не жалуюсь.
Лицо Рогальчук немного успокоилось, посветлело.
– А как у него с одежонкой? Туговато?
– Все самое необходимое у него есть. Сейчас не до роскоши. Да он мальчик не избалованный, серьезный.
– По аттестату вы будете, конечно, теперь получать от меня. И надо к военторгу прикрепиться. Сделаем. Карандашика нет под рукой? Запишите-ка мою полевую почтовую станцию.
Рогальчук записала.
– Может быть, вы хоть сейчас умоетесь? – спросила она. – Вот таз, вот вода.
– Спасибо. Я вас вообще не задерживаю?
– Нет, у меня выходной.
– Мы с мамой сегодня в кино собрались, – сообщил Коля. – Пойдем вместе?
– Не смогу, сынок. Проводить провожу, а в кино мне некогда. Ехать надо.
Рогальчук вышла, чтоб не стеснять майора, и он снял гимнастерку и вымылся до пояса. Потом взял со стола паспорт Рогальчук и внимательно просмотрел его. Она вернулась в комнату как раз тогда, когда он читал.
– Вы, значит, Зинаида Антоновна, – сказал он, слегка смутившись. – Так, культурно… А я Василий Васильевич. Тридцати шести лет. Надо же нам для порядка своими позывными обменяться. Как думаете?
– Пожалуй, – улыбнулась она.
Потом майор вытряс и вычистил гимнастерку, протер платком целлулоидовый воротничок. Смахнул пыль с орденов.
– Ну, мне пора, – сказал он.
Они вышли втроем, держа сына за руки.
Высокий загорелый майор с двумя орденами обращал на себя внимание всех встречных ребят. Они останавливались, разинув рты. Коля шел – гордый, счастливый.
У остановки трамвая майор крепко обнял сына и долго целовал его личико, шею и тонкие руки.
– Люби Зинаиду Антоновну и слушайся ее, – сказал он.
– Кого – ты сказал? – переспросил сын.
– Ну, маму… вот ее…
– Я и так ее люблю. А ты?
Зинаида Антоновна побледнела, и вся фигура ее сделала невольное движение в сторону.
– Коля, милый, – залопотала она, – ты попроси папу писать тебе.
– Папа, ты пиши нам. Ладно?
– Ладно. И ты, Коля. И слушайся, главное.
– Мама тебе будет писать, а я там чего-нибудь тебе нарисую.
– Идет. Спасибо… Ну, значит, так… До свиданья, Зинаида Антоновна, – и он впервые за день открыто и просто поглядел ей в глаза.
– А почему ты маму не поцелуешь? Меня целовал, а маму нет. Почему, папа?
Бражнев взял ее за плечи и осторожно коснулся губами ее лба.
– Спасибо вам, родная, спасибо!
Он вскочил на подножку трамвая и, хотя мест было много, долго не входил внутрь вагона, а все смотрел назад, на худенькую неизвестную женщину с худеньким мальчиком рядом.
1942
Долг
– Я никогда не умел толково объяснить, что такое долг, – растерянно сказал немолодой инженер, вступая в беседу, которая вот уже два или три часа шла в купе вагона.
Пассажиры, как на подбор, оказались командирами и политработниками. Перезнакомившись и быстро узнав, кто куда, они заговорили о войне и вот, хватая один другого за руки и перебивая друг друга, толковали уже много часов подряд и все никак не могли наговориться вдоволь.
Их было четверо, и все они принимали участие в боях.
– Никогда я не умел объяснить, как я понимаю долг, – повторил инженер, обращаясь сразу ко всей компании, хотя отвечал он худому и очень болезненному на вид танкисту.
– Будто и в самом деле не знаете, что такое долг? – и танкист бросил взгляд на медаль на груди инженера.
– Знаю. Вот в том-то и дело, что знаю.
– Ну так что ж тогда?
– Да вот вы только вслушайтесь в слово… Долг?.. Я должен сестре сто рублей… Я должен делать гимнастику… Я должен выздороветь, – заговорил инженер, смущенно улыбаясь. – Все эти различные обязательства моей жизни, большие и малые, все мы называем долгом. А это неправильно. Есть обязанности, есть долг, есть подвиг и героизм. А мы – рады стараться, мы все что хочешь называем долгом. А увидим действительное исполнение долга и кричим уже: «Подвиг! Подвиг!» Не надо играть словом «долг». Долг – это дело жизни, вдохновение.
– А если я, например, лимонадом торгую, – весело сказал танкист, – подумаешь, интерес какой! Тоже мне вдохновение!.. По это мой долг…
– Торговать лимонадом, – сухо, нравоучительно перебил его инженер, – это не долг, а ваша обязанность. Не нравится, займитесь другим делом… Ай-ай-ай!.. – укоризненно покачал он головой. – Ну разве можно так?.. – И вдруг, что-то вспомнив, сказал: – Помните вы рассказ Гаршина «Сигнал»?.. Стрелочник обнаружил разобранный путь, а тут уж поезд мчится, он надрезал руку, смочил в крови платок и остановил поезд… Помните?..
Врач помнил этот рассказ, но двое других смущенно промолчали.
– Так вот, как по-вашему, – спросил инженер, – что это: обязанность, долг или подвиг?
– Подвиг, – не колеблясь, ответил танкист.
Все шумно запротестовали.
– Долг, долг, это прекрасный пример гражданского долга, – сказал врач.
– Обязанность, – коротко заявил четвертый из своего темного угла.
– Правильно, обязанность! – взволнованно поддержал его инженер. – То есть, маленький, обычный, будничный долг, который мы, большевики, должны называть просто обязанностью. Конечно, Гаршину это казалось подвигом, – продолжал инженер, заметно волнуясь. – Ну, так когда это было? При царизме. В наших же условиях, при социализме, люди стали смелее, и работают лучше, и хвалятся меньше, и для нас с вами гаршиновский стрелочник только честно выполнил свою обязанность – вот и все… Прибережем слово «долг» для более важных вещей. Долг – это страсть! Долг – это, когда я забываю себя и свои личные интересы и действую в ущерб им для государства, для общества.
– А что же в таком случае вы назовете подвигом? – спросил четвертый, самый молчаливый.
– Подвигом?.. – Инженер поднял голову и, прищурясь, поглядел вверх. – Подвигом?.. Скажем, вот: Стаханов совершил подвиг: он один выполнил долг сотен людей. Мы думаем, что вот уже на большее не способен человек. Оказывается, способен, может. Своим подвигом он облегчил сотням людей выполнение долга.
Танкист кашлянул и воспользовался паузой в разговоре.
– Я вам тоже один примерчик приведу. Интересно, как вы его оцените. Случилось это прошлой зимой на Западном. В декабре. Дни-то, помните, какие были: часов в одиннадцать рассветет; в три – завечереет. Пурга, холод, леса. Стрелковому взводу поставили задачу – отрезать группу немецких снайперов от хутора, километрах в семи от нас. Стрелки только что прибыли на фронт, народ новый. Дали им взводного Пашу Чаенко, комсомольца, выдали валенки и все, что положено, и – в путь!
Валенки получали перед самым отправлением. Чаенко сам всем примерил по ноге, а потом хвать-похвать, себе-то и не подберет. Не оставаться же, верно? Так в хромовых сапогах и отправился. Углубились в лес они, обошли хутор, выгнали оттуда фрицев и собрались домой, а тут – и загвоздка.
Немцы спохватились, взяли их в петлю и никаким манером не выпускают. Сутки прошли, а они никак не вырвутся. И рота им ничем помочь не может: где их в лесу искать!
Чаенко сейчас же отобрал у всех и табак и спички, и хлеб и консервы. По расписанию выдавал покурить и при всем народе сам хлеб делил по кусочкам.
Проходят вторые сутки. Дело дрянь. Народ совершенно сил лишился, промерз, изголодался, патроны на исходе. А вот уж третьи сутки начинаются.
Собрал своих Чаенко, выдал по последнему куску хлеба. «Закурите, – говорит, – теперь по разу, и будем напрямик пробиваться к своим».
А бойцы видят, который раз он хлеб делит, а себе ни корки. «Съешьте, – говорят, – товарищ взводный, и вы. А нет, – никуда мы с вами не пойдем. Не дойдете вы ни за что». – «Я уже съел, – смеется Чаенко. – Я уже утром два больших куска съел».
Все это он выдумывает. Каравай хлеба у всех перед глазами. Наизусть его все знают, потому что много раз прикидывали в уме, на сколько порций еще хватит. «Ешьте, – кричат. – А то силой кормить будем».
А у самих слезы на глазах, видят, что для них бережет лишний кусок Чаенко. Ну, поел он немножко – и пошли. Все в валенках, один взводный в сапожках, но ничего, идет в голове, тропу торит. Случалось вам? Нет ничего тяжелей! В снегу по пояс, руки мокрые, пройдешь километр – ноги отваливаются.
Раза два-три немцы пробовали окружить взвод. Стрелки залегали в снег, подпускали фрицев на полсотни шагов, – да из пулемета их в упор как дунут, – куда только те денутся.
Третью или четвертую атаку отбили, до своих рукой подать, а смотрят – что-то командира нигде не видно. Туда-сюда. Страшно обеспокоились. Смотрят – лежит он в снегу, за пнем, и словно ноги ему перебило, на одних руках старается на пенек сесть. «Что такое? – кричат. – Ранены?» – «Да нет, – говорит, – ноги немножко одеревенели».
Растер он их руками, попрыгал и, хоть, видно, больно ему здорово, опять зашагал в голове. Ну, в общем к концу четвертых суток добрались к себе живы-здоровы. Все думали, что с ними что-нибудь приключилось, встречают радостно.
Чаенко довел взвод, отрапортовал ротному и пошел к врачу. Спустился в землянку и упал. Смеется, кряхтит, а встать не может. «Ну, что, – говорит, – за чепуха такая».
Разрезали ему сапоги. Врач посмотрел на ноги, взглянул на Чаенко, прямо не верит себе. «Как же вы, голубчик, четверо суток ходили? Ведь у вас… – махнул рукой. – Срочно эвакуировать! – кричит. – Сейчас же, немедленно. Знаете ли вы, – говорит он Чаенко, – что вам, возможно, придется ноги ампутировать?.. Как же это вы шли, не могу понять?» – «Как, как!.. Надо было, – сказал Чаенко. – Только это ведь такая чепуха, доктор, чтобы я из-за сапог ног лишился. Пуля меня не взяла, а тут такая чепуха…» – и от злости сам заплакал.
– Ну, – вздохнул танкист, – оперировали его, ноги отняли… Вот это что, по-вашему: долг или подвиг?
– Обязанность, – тихо сказал инженер. – Простая, будничная обязанность. Для долга тут много пассивности.
Остальные молчали, задумавшись.
– Чаенко только выполнил – и хорошо, просто, мужественно выполнил свои обязанности командира, – повторил инженер.
– Нет, это – что-то большее: это долг, – сказал врач.
Затеялся шумный спор. Громче всех раздавался голос инженера:
– Не надо приукрашивать и преувеличивать! – кричал он. – Командир обязан делать больше бойца, он обязан заботиться о бойце и подавать ему пример мужества. Ведь нас сейчас что путает? Дорогая расплата Чаенко. Но если бы он не лишился ног, – а это ведь простая случайность, – мы бы ничего особого в его поведении и не увидели.
– Когда обязанность выполняется с полным отречением от своих интересов, когда человек забывает о своей жизни и жертвует ею ради дела, это, знаете, товарищ, есть долг в самом высоком смысле.
– Значит, когда вы спите в бомбоубежище, в то время как вас бомбят, вы тоже выполняете высокий долг, ибо во время сна вас тоже могут убить, а вы не думаете в это время о своих интересах…
– Слушайте, была у меня в дивизии девушка, Катя Н., – хлопая всех по плечам, заговорил врач. – Лет двадцати, не старше, худенькая, тощая. Прибывает она на боевой участок ночью, во время сражения, подходит ко мне с чемоданчиком, докладывает о прибытии… А у меня в тот день были потери среди медицинского персонала, и только что мне звонили из одной батареи, что туда срочно нужен врач. Я ей и говорю: «Отправляйтесь на батарею». – «А чемодан, – спрашивает, – куда деть?»
Ну, вижу, городской человек, обстановка ей неясна, говорю: «Оставьте чемоданчик пока что у меня, берите в проводники красноармейца и – бегом на батарею».
С этим ее чемоданчиком я, знаете, потом странствовал месяцев пять, потому что с той ночи Кати я больше так и не видел. И вдруг звонит она мне из тылового госпиталя. «Чемоданчик, – говорит, – еще у вас?» – «У меня. А вы, – говорю, – значит, живы-здоровы? Ну, прекрасно. А то ведь вы у нас значитесь пропавшей без вести. Я, признаться, думал, что вы погибли». – «Нет, нет, – говорит, – я жива-здорова».
Ну, приезжает она дня через три за чемоданчиком, и вот послушайте, какую историю она мне рассказывает. Вы только послушайте.
Направилась она тогда на батарею. Дорога шла лесом, километра три до батареи, и вся простреливалась с флангов немецкими снайперами. Красноармейца, что вел ее, ранило. Катя перевязала его и, отправив назад, поползла одна. Навстречу ей выходят из боя раненые. Она сейчас же взялась за оказание помощи, и сама все вперед и вперед. В темноте прошла мимо командного пункта батареи и появилась возле орудий… А тут такая история вышла. Немецкие снайперы пробрались лесом почти что к орудиям и выводят артиллеристов одного за другим. А батарея шрапнелью по лесу, а ездовые и хозяйственная команда – в штыки… Вот там что происходило. Раненых много. Темнота. Ни хижины, ни землянки, ни шалаша. Катя – ползком в цепь и стала перевязывать раненых под огнем. Перевяжет, отправит в тыл и опять вперед. В середине ночи ранили и ее. Пуля вошла в бедро и вышла в спину, задев кишечник. Ноги отнялись моментально. Она сейчас же ставит себе мысленно диагноз: дело плохо, не было бы перитонита. Но так как она, оказывается, не ела в дороге уже сутки, то обрадовалась. Ну, пролежала она под огнем до рассвета, не хотела на помощь звать, да, говорит, и боялась. Немцы, подлецы, по стонам бьют. Услышат: стонет человек – и давай на слух бить из автоматов. Звери! Ну, на рассвете выползла она из лесу на дорогу, и ее уложили на батарее. Она говорит: «Меня не эвакуировать: а моем положении тряска губительна». И осталась еще на двое суток. Лежит тихонько, в рот, кроме чая, ничего не берет и лежа перевязывает легко раненных: лекпом один не справлялся. Проходит два или три дня, батарея отбила немцев, и ее передвигают в резерв. Подали транспорт для раненых. Катя говорит: «Я пойду пешком. Пусть какого-либо тяжело раненного поместят на мое место в сани, а я иду пешком». Взяла плащ-палатку и двух легко раненных бойцов и пошла. Ну, ясно, что за ходьба! А тут еще, знаете, они заблудились. Хотели тропой сократить дорогу, да вместо того прошагали семьдесят километров.
– Не может быть!
– Да, это невероятно, но факт. Они прошли семьдесят километров, и Катя их еще ободряла и вела. Ну-с… потом ее погрузили в санитарный поезд. Надежд – сама она говорит – не было никаких. А через пять месяцев позвонила мне относительно чемодана. А еще через месяц я прочел в «Правде», что Катя награждена орденом Красного Знамени.
– Вы опять, может быть, скажете, что это обязанность? – грустно спросил танкист. – Жесткий вы, погляжу я. Сердце у вас сухое.
– Я не люблю неточности, – мельком взглянув на него, сказал инженер. – Подвиг – это такое, что, на первый взгляд, неповторимо, что удивляет необыкновенностью, от чего руками разведешь… А тут что же?.. Катя ваша только мужественно выполнила долг, – сказал он врачу.
– Да, не угодишь на вас, – раздраженно сказал и доктор.
– Мне вот за вас ужасно обидно, как вы легко и просто разбрасываетесь подвигами. Всюду у вас подвиги, Везде герои. Нельзя так. Конечно, каждому хотелось бы свои поступки возвести в подвиг, да ведь мало ли чего хочется. Наши нормы должны быть самыми высокими, потому что у нас легко и просто стать героем.
– А, пожалуй, вы правы, – сказал четвертый из своего темного угла.
Все трое обернулись в угол.
– Беда ваша: расплывчато говорите. Нужно привести такой случай, на котором ваш взгляд был бы особенно отчетливо виден. Если товарищи не возражают, я, пожалуй, мог бы привести такой пример. Это недолго… Дело было, товарищи, в Финляндии, в феврале сорокового года. А может быть, уже и в марте, но если в марте, то в самых первых числах.
Так вот представьте начало финского марта. Помните, какие там были рассветы!..
Зловеще синие, низкие, словно сейчас гром грянет, а потом все разойдется, исчезнет, и такая ясная легкость… Ну, и ночи, конечно, помните! А северное сияние!.. Вдруг полыхнет за лесом, где-то у края ночи, вспышкой орудийного взрыва промчится по черной полосе неба над лесами. Только успеешь подумать, не бой ли это, не зарево ли сражения, как оно вымахнет на середину неба и запляшет, и зарябит. Помните?
– Ну, что там говорить… Помним… Разве забудешь? – ответили собеседники.
– В марте дни стали особенно хороши, не наглядеться, один к одному, как нарисованные, и снег до того розовый или синевато-зеленый, что глазам не веришь, а небо высоко, высоко, едва заметно, и появись в нем стратостат – на двадцать километров вверх его, кажется, было бы видно. Снег белее белого. Собака за две версты видна, как на ладони.
– А волки на закате синие-синие… Я раз было подумал, что с ума сошел. Бегут из лесу – все синие, яркие. Как во сне, – сказал врач.
– Да. Это я тоже видел. Так вот, в один из таких дней, когда полнеба в вечере, полнеба в полдне и снег пахнет хреном, так что в носу даже легонько щекочет, наш батальон штурмовал высоту. Называли ее высотой с офицерским домиком. Ночью бойцы подобрались к финским окопам метров на сорок, но не смогли взять окопов, иссякли, понесли значительные потери, окопались и отложили атаку до утра. Начали – еще не рассвело. Финны прикрылись огнем из минометов. От взрывов мин поднялась и встала снежная завеса такая, что на десять шагов ничего не видно. Чувствуешь, что только толкает тебя воздухом вправо и влево, а снег кругом все чернее и чернее, будто с грузовика уголь рассыпали. Люди слились с кустами, орудия – с лошадьми, лошади – с деревьями. Кое-где проступала желто-белесая крупичатая земля – и глаза зашвыряло колючим, мерзлым песком.
Бой шел в упор.
Наш батальон взялся за гранаты. Это ж, сами знаете, – сумасшедшее дело, но красоты удивительной. Летит сам себе снаряд, все в душе закипело, только глаза на посту да слух.
Управлять таким боем – ужас как трудно. События идут быстро, сталкиваются одно с другим, наседают одно на другое, а главное тут – не потерять темпа. Граната любит быстрый маневр. Хуже нет бросать да отлеживаться.
Батальон метр за метром подбирался к высотке, финны метр за метром отходили, но паники у них еще не было. Требовалось «поддать газку». И батальонный вышел в атаку. Только развернул полторы роты, ранило его. Выскочил начальник штаба капитан – и того ранило.
Принять батальон должен был старший политрук, комиссар батальона, но он еще раньше выбыл. Временно принял командование лейтенант, не помню теперь его фамилии. Константином Алексеевичем звали.
Повел он. Ползет батальон на гранатах. Прыгнут, побегут, лягут, опять прыжок, опять остановка. И так часа три, четыре, а к полудню стало совсем жарко, да и устал народ, потери сказывались. Сблизились с противником на пятнадцать, на двадцать метров. Пулеметчики и минометчики выбывали один за другим. Финны, должно быть, уже чувствовали, что им живыми не уйти, и били по командирам, по пулеметчикам.
Лейтенант позвонил в штаб полка. «Впору хоть самому становиться за миномет, – говорит. – Мне бы хоть троечку минометчиков».
Но свободных рук не было и в штабе. Полк своим остальным батальоном брал высоту в клещи, и минометчики были нужны везде.
Решил лейтенант сам лечь за миномет: что же делать?
Но тут подбегает к нему боец, кажется доброволец. Рязанов, молодой, кудрявый, глаза такие блестящие, возбужденные, словно он все время в любви объясняется: «Товарищ лейтенант, позвольте взяться за миномет!» – «А разве умеете?» – спрашивает лейтенант, а сам его уже тянет за рукав к миномету. «Ну, будьте покойны!» – весело смеется Рязанов.
Дело сразу подвинулось. Миномет на передней линии, да в хороших руках, – ну, что мне вам об этом рассказывать! – это ж красота, чудо!
Только успокоился лейтенант за свой миномет – вышел из строя весь расчет стрелкового пулемета, стоявшего на важнейшем пункте.
Ну, тут уж лейтенант сам лег за «максима», потому что огня нельзя было прекращать ни в коем случае. А его как раз в этот момент вызывают к телефону из штаба полка. «Не могу! – кричит он. – Скажите, что не могу!»
И лупит в упор по деревянным завалам – только щепки летят кругом. Стрелок был сумасшедший – пулеметом распиливал бревно, как пилой.
И видит: финны начинают отползать назад. Вы ж знаете, что это за минуты. Тут уж отец родной кликни – не отзовешься. Некогда. Тут все решают секунды.
А с командного пункта безотлагательно зовут подойти. И отказаться нельзя, и пулемет оставить нельзя, что делать – чорт его знает. «Хорошо, если б ребята заметили, в каком я положении», – думает он… Но батальон расползся по всему скату, грохот, снежная пыль, щепки летят какие-то.
И тут опять возле него оказывается Рязанов. Он у миномета поставил трех бойцов и подполз к лейтенанту: «Позвольте, товарищ лейтенант, заменю вас». – «Разве умеете? Вы же стрелок!» – «Да ну! Кто с этим считается! Мне тут нравится: место бойкое!» – и лег за «максима» так обстоятельно, словно собирался лежать целые сутки.
Лейтенант взглянул на миномет: работа там шла прекрасно – и стал отползать, но обернулся, похлопал Рязанова по валенку. «Золотой вы боец, Рязанов. Образцовый боец!» – крикнул несколько раз. «А! Ничего!» – улыбаясь, ответил тот, очевидно не слыша лейтенанта.
Лейтенант ползет к телефону и узнает важную новость: сейчас все батальоны, уже окружившие высоту, поднимаются в решительную атаку. С командного пункта рисунок боя выглядывал очень хорошо. Пулемет Рязанова стоял головным, впереди всех, и Рязанов работал, как дьявол.
«Во-время этот Рязанов мне под руку подвернулся, – сказал лейтенант связистам. – Уж такой золотой парень, прямо не знаю…» – «Стремительно к делу относится, – сказали связисты. – Ему обида, когда что-нибудь без него оказывается. Утром двух «дятлов» наши сбили, так чуть не заплакал, что не он».
И в этот самый момент финская мина разрывается у командного пункта: кабель – в клочья, аппарат – в снег, связистов – на шинелях потащили к фельдшеру.
Надо ж такую историю!
А роты еще не предупреждены об атаке. И времени посылать связного нет. Да и не доберется, и как тут быть – не придумаешь.
«Что, связь нарушена?» – слышит лейтенант за собой. – «Да, – отвечает. – К чертям нарушена».
Вспотевший, запыхавшийся Рязанов подползает к пункту. Вытащил аппарат из снега, собрал обрывки кабеля.
Лейтенант поглядел на рязановский пулемет, видит: там работают двое. Отлично.
«Вы что, разве связист, Рязанов?» – «Связист – не связист, а без связи ж нам невозможно. Что-нибудь сделаю». – «Золотой вы боец, Рязанов. Образцовый!» – «Ничего я не образцовый. Долг. В опасности я должен быть на самом важном пункте». – «Это почему же так?» – «Проверяюсь. Утром в партию подал. Да и вообще тянет меня. Как увижу, что где-нибудь важней всего, так туда. Сразу вижу, что надо сделать. А сделал – опять ищу, где жмет. Вы как отползли от пулемета, я сразу понял – на вас необходимо поглядывать, приказа ждать. А тут ко мне двое ребят подползли от второго пулемета. У них вышел из строя, так они ко мне. Я, значит, освободился и как раз вижу: мина хлопнула».