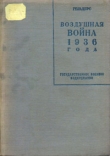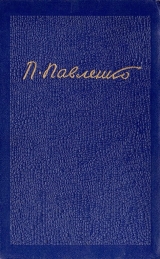
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
К двум часам дня город, порознь и толпами, примчался к больнице Божон. Трупы убитых и умерших от ран в утреннем сражении у ворот Майо еще пахли жизнью и порохом. Катафалки, запряженные шестью лошадьми каждый, прибыли к больнице на-рысях, как зарядные ящики. Медлить было некогда. На глазах у всех тела были наспех уложены в гробы. Тридцать пять гробов на катафалк. Горнисты играли боевые сигналы, их торопливый ритм ускорял и без того страшную суетню возле гробов. В четыре приехал Делеклюз с пятью членами Коммуны и заторопил еще более. Наконец отряд парижских мстителей двинулся в сторону больших бульваров, за отрядом тронулись катафалки. Лошади приплясывали, как на параде, гробы скрипели и шевелились на своем шатком ложе. Десятки рук поддерживали эти хрупкие пирамиды. Горнисты трубили торжественную тревогу, сзывая город.
В толчее медленно движущихся улиц процессия скоро обрела строгую и внушительную неторопливость. Она подвигалась теперь рассеянным шагом, как толпа заговорившихся собеседников, идущих лишь по инерции. Созванный со всех сторон город зажал ее и держал не выпуская, он как бы требовал, чтобы она дала все, что могла, утопила все чувства, распахнутые для мести, отчаяния и надежд. Временами шум разговоров и выкриком заглушал музыку. Никто не знал в точности, кого сегодня хоронят, да никто и не интересовался. Еще не осознавая, все чувствовали, что дело не в именах. Каждый мог оплакивать сегодня своего мертвеца – наивный идеализм, беспринципность, легкомыслие или трусость. Равэ твердо держал свою руку на чьем-то безыменном гробе и время от времени постукивал пальцем по его сырой, недавно обструганной стенке.
Улицы встречали процессию воплями, останавливающими лошадей. Частые остановки утомляли, медленность ходьбы раздражала, тяжесть, усталость ходили по телу. А улицы сталкивались с улицами, и на встречных площадях они затевали перепалку, пока одна не отступала, вбирая свои толпы в ворота домов или выталкивая их в переулки. Вскорости процессия была разбита на звенья и катафалки оттерты один от другого. Между ними вклинились пустые фиакры и фуры с бочонками пива, коляски с какими-то пассажирами и кареты монахов. Казалось, каждый экипаж имел что доставить для погребения им кладбище и вот, воспользовавшись случаем торжественного погребального парада, везет свой живой или мертвый прах. Три артиллерийских капитана, Ла-Марсельез, Рош и Мартен, своими двенадцатью пушками задержавшие на рассвете атаку версальцев, стоя ехали на телеге, позади Делеклюза, как присужденные к гильотине. Они только что выбрались из окопов проводить ребят до могилы. Монтерэ, который всеми ими тремя командовал в утреннем деле, на каждом перекрестке произносил речь. Он был опутан красными лентами и шарфами, как призовой столб. Капитаны кричали: «К оружию!» – и махали руками. С лиц их не переставая катился пот, как на рассвете, когда от жара раскаленных пушечных жерл они поскидали рубахи и командовали огнем, похожие на кочегаров. У кладбища Пер-Лашез процессию остановил митинг. Катафалки выбрались в сторонку, кучера повесили мешки на морды лошадей и, присев на корточки у своих колесниц, закурили трубки.
Маляр Растуль, насвистывая веселую песню, выводил красною краской на бортах катафалков: «Прочь жалость!.. Прочь жалость!.. Прочь жалость!»
Лицо маляра было измазано этой же краской и казалось израненным.
Над городом затевался вечер.
Кто не лежал на мокрой земле, вшивый, с винтовкой, примерзающей к пальцам, с глазами, которые не открывались от голода, и в то же время не думал, что мир прекрасен, тот никогда не жил и ничего не знает о жизни.
Как много было света и цветов в этот март, стремглав пробежавший по городу, будто он давно уже ждал за стенами, чтобы его впустили в захиревший Париж. Как хороши, как просты были утра, когда невзошедшее солнце, протянув из-за горизонта несколько острейших лучей, скребло ими небо до полного блеска. Тогда легкий рваный туман валился вниз шелухой или стружками с неба. С улиц туман потом убирали метлами.
Было одно из описанных утр.
Протяжный, звонко растянутый воздухом крик гигантского петуха разбудил Буиссона. Он открыл глаза. Рассвет вяло располагался в комнате, а воздух за окном был сбит в розово-голубой туман, он космато дымил и качался. Буиссон распахнул окно, – в веселой пене, укрывшей солнце, бежали очертания домов и растерянные силуэты деревьев. Звуки и запахи, не растворяясь, держались в воздухе, как сухой лист на ветру. Они неслись бок о бок, разобщенные и навсегда потерявшие связь с миром, – звук скрипки, терпкий дух лука, скрежет омнибуса по старым камням мостовой. На Сене, сквозь туман, покрикивали паровые баркасы. Железные жалюзи табачной лавки на углу, через два дома, провопили на весь квартал. Буиссон с удивлением установил, что петух все еще тянет свой крик, и тот плывет в воздухе, растянутый до неправдоподобия. Он высунулся из окна наружу. В иссушенных камнем кварталах Нейи домашняя птица перевелась со времени Первой империи, никакого петуха не могло быть; каких петухов услышишь нынче в городе, за добрых три километра от первого птичника где-нибудь у заставы?
Смятенно отшатываясь от стен, заскрипели в нижних этажах ставни, на мостовую просыпались, позвякивая на подскоках, патроны, голос женщины измученно прокричал: «Вернись же, вернись, это шутка!» И чей-то нетерпеливый кулак забарабанил в дверь табачной лавчонки.
Посмеиваясь над чепухой петушиного крика, Буиссон сбежал вниз, почти минуя ступени лестницы. Жильцы всей улицы бежали в сторону вала. Табачник запирал открытый ларек. Бренча кувшинами, распивочно торговали молочницы; люди стояли перед каждой из них в очереди и пили из общей кружки.
– На «Луизетт» запели петухи! – закричал Буиссону табачник. – Атака! Вы с нами?
Буиссон побежал рядом с ним. Сколько раз хотел он выйти поутру с альбомом к ларьку и набросать веселую толкотню молодых рабочих вокруг румяных и бойких, крутых на слова молочниц. Лица этих парижских крестьянок, пахнущих хлебом и духами, были на удивление варварскими. Тщательно завитые у раннего парикмахера возле вокзала, который отпирал свое ателье лишь к молочному поезду и за литр сметаны бойко жег им волосы, растирал бодягой щеки и срезал бритвой мозоли, величиной с молодую картофелину, – они приносили с собой в город смех, которым здесь давно уже никто не смеялся, рассыпчатый, как от щекотки, и насмешливую, нарочитую жестокость.
В час, когда еще спал Буиссон, капитан 24-го батальона Поль Франсуа Лефевр в десятый раз передумывал свой утренний план. Капитан лежал в широкоспинном шкафу из мастерской дамских платьев, брошенном навзничь – дверцами вверх – позади баррикады. В шкафу пахло духами и платьем. Запахи мешали думать. Капитан поднял руки и распахнул дверцы шкафа. Сейчас же его лицо погрузилось в воздух, ставший почти осязаемым. Глаза увидели лишь одно: воздух бежал в смятении, цепляясь за все и волочась по самой земле. Звон неизвестного колокола медленной птицей кружился вокруг. Лефевр вылез из шкафа. Черная с золотыми буквами вывеска – «М-м Луизетт», спереди прислоненная к баррикаде, покрылась пузырчатым пухом, и на столах, креслах, кроватях, задранных вверх ногами или наискось брошенных поверх мешков с песком, проступили пятна, похожие на пролежни или ушибы.
– Нет ничего успокоительнее, чем хороший туман, – сказал он, оглядевшись вокруг. Он отдал шопотом несколько приказаний.
За баррикадой и в воротах соседнего дома закопошились люди.
– Ребята, я вам говорю, что знаю: туман – это просто хорошо. Готовы? – Ударив руками по воздуху, как по мыльной воде, он вышел в проход и побежал, увлекая за собой солдат к площади, которая была слышна недалеко.
Тогда-то и раздался крик, разбудивший квартал Буиссона.
– Шуму больше, шуму! – кричал Лефевр.
– Делать шум! Рычать! Сильней! Еще!
Слева, в расположении батальона Бигу, замяукали рожки омнибусов. Из окон верхних этажей впереди «Луизетт» выглянули обезумевшие и удивленные лица.
– Эй! Орите вы! Куклы! Бить в тазы! Орать! Сильно!
Люди в ночных колпаках испуганно закричали из окон. На улицу отовсюду высыпали мальчишки. Они дули в свистульки и бесновались, тарахтя ведрами.
– Дядя Лефевр сошел с ума! – воодушевленно кричали они друг другу.
– Черти, сильнее! Шуму! Больше!
Слева, у соседа Бигу, заспанно заговорили шаспо [16]16
Шаспо – игольчатое ружье, изобретенное в 1863 году оружейником Шаспо и принятое во французской армии.
[Закрыть]но справа все еще стояла невозмутимая и опасная тишина – справа был Париж. Площадь нащупывалась где-то у самых рук. Огонь версальцев, обманутый грохотом целой улицы, сумасшедшим вихрем шел поверху. Ядра пушки шныряли в кронах деревьев, кроша их и ими брызжа безжалостно.
Стрельба разрасталась, теряя точные рубежи.
– Филипп! Беги к соседу: шум, крики, грохот! – распорядился Лефевр. – Из каждого камня выжать вопль. И вперед, главное, вперед! Через полчаса быть на площади.
У Бигу был батальон волонтеров-иностранцев. Негры, поляки, русские, итальянцы, шведы, болгары, турки с первых же дней восстания шумно повалили записываться на защиту Коммуны. Среди них были политические эмигранты, рабочие, студенты, романтики, революционеры. Тогда еще было многим неясно, что именно толкнуло этих людей на защиту Коммуны, их даже немного в первые дни побаивались и во всяком случае недостаточно понимали. Вмешательство иностранцев чрезвычайно обязывало Коммуну, оно утверждало для многих новый, но единственно верный характер восстания, как не только парижского и не только французского дела.
Командовал волонтерами Антуан Бигу, водопроводчик с улицы св. Винцента на Монмартре.
Он был кривоногий сутулый старик с небольшим запасом обрывочных слов и скупыми жестами. В центре города был он четвертый раз в жизни. Париж казался ему – после знакомых трущоб Монмартра – странным городом. Много разного. Вот даже тут, в батальоне, чего уж более, негры говорили по-своему, русские – тоже. Поляки – так те еще ничего, кое-что понимают, или вот итальянцы – почти свои. А шведы – шведы, как рыба. Или турки. Даже не понять, кто из них кто.
Вигу давно хотел сказать речь: надо же бойцам объяснить, в чем дело. Он хотел сказать так: «Это наша сволочь, министры, не посчитались с народом, вот главный вопрос. Так оставить нельзя. Понятно, что ли? Так оставить нельзя, – а проучить. Понятно?»
И третьего дня хотел он сказать, и вчера, но турки эти – как рыба. Или, может, шведы они, чорт их поймет. Итальянцы, чуть слово им, орут, стыдно за них. Чего тут орать? А русские – в слезы.
– Лейтенант Бигу, начинай, – сказал подбежавший Филипп.
– Слушай-ка, пожалуй, надо бы сказать речь? – волнуясь, спросил Бигу.
– Обязательно! И чтобы у тебя кричали изо всех сил. Всех – на крик.
Бигу подозвал своих сержантов, поляка и двух пьемонтцев. Их лица вздрагивали нетерпением. Пьемонтцы ежесекундно отплевывались.
«Каменщики… постоянно пыль в нос… привычка», – подумал Бигу.
Поляк придерживал зубами нижнюю губу. Бигу хотел их сразу же ободрить, пристыдив.
– Богородицу вашу в кровь, – сказал он довольно развязно, – какие вы, честное слово, сержанты? С ноги на ногу переминаться? Моча, что ли, горлом?
Те замерли в деревянной вытяжке, но по рядам батальона пробежал смешок.
– Поняли? – переспросил он и – про себя: «Все-таки трудно разговаривать, когда не знаешь, чего люди хотят. Ну хорошо, ладно. Я их пройму. Несколько слов должны же знать. Положим, каждый – разные, кто про что. Скоты, и больше ничего».
У Лефевра завыла вся улица.
– Ну, вот что, – сказал Бигу, – проповедь мы отложим.
Он вышел вперед. Забыв дышать, люди смотрели на него не мигая.
– Вот что, – сказал Бигу. Тут он сам даже придержал дыхание. Что ж дальше? Помедлил. Чорт их возьми, есть же какие-то короткие слова, которые всем известны.
Люди в рядах чуть колыхнулись, ноги не держали их, люди раскачивались от возбуждения. Бигу смотрел на них, заполняясь бешенством.
– Ах, гады! – вскинул плечи, чтобы выругаться во все дыхание, и вспомнил, набирая в легкие воздух – да, есть они, чорт их возьми, слова, понятные каждому человеку, и прокричал: – Работать! Всегда, будь вы прокляты, аспиды, можно сговориться. Работать, товарищи! Вот что!
Он подбежал к батальону и ткнул в грудь ближайшего с краю. Тот был негр.
– И пой! Не знаешь! Ну, пой!
Торопясь отдать это последнее приказание, он прокричал смешным голосом:
Ес-ли хо-чешь со мной,
У-гос-ти ста-кан-чи-ком,
Приг-ла-шу к се-бе до-мой…
– Понял? И ты. Что-нибудь свое. И ты.
– Понятно, – заорал пьемонтец-сержант, – да понятно же, старик!..
Бигу крикнул:
– Вперед! – и бегом повел батальон к площади.
Рев прокатился за ним.
– Работать! Вперед! – кричал он.
– Работать до смерти! – отвечали из строя.
Первая фраза марсельезы пронеслась на пяти языках. Ее естественным продолжением явились мягкие славянские запевы. Гортанные аккорды итальянских маршей пронизывали легким металлом это всеобщее пение, в подпочве которого обозначились однообразные вопли турок и короткий, твердый, как костяшки, речитатив негров.
Вдруг из всеобщего вопля взлетел осколок пьемонтской песни, все подчинившей себе:
«Эти разбойники обложили налогом даже хлеб бедняков и с ружьем в руках сторожат молотьбу».
Она неслась над всеми другими, господствуя, но неожиданно рушилась под голосовыми ударами сбоку, теперь уже на совершенно другом языке.
И все это билось, неслось и сливалось в единое и понятное всем: – Работать до смерти! Вперед! Выше сердца! Работать до смерти! Haut les coeurs! [17]17
Выше сердца! (франц.)
[Закрыть]Выше сердца!
Туман над площадью плясал вверх и вниз, рассыпаясь на хлопья, как шерсть под струной шерстобита, и белой пухлой паутиной висел на ружьях.
Буиссон с соседями переползал мертвые улицы справа от площади. Пушка перед пассажем бросила через их головы страшный хаос огня, воздуха и железа.
Буиссона толкнуло в лицо, он задохнулся, будто нечаянно плюхнувшись в воду. Очень неотложно пришла тут мысль, что следовало бы, конечно, работать красками, а не темперой, как советовал Фромантэн, и что это утро на «Луизетт» есть его, художника Буиссона, творческий акт. Фонарщик придержал его падение на землю и вывел проходным двором в тупичок.
Женщины с детьми и узлами шумно галдели здесь, разбирая происшествия боя. Они набросились на Буиссона, чтобы он объяснил им все, на чем они никак не могли сойтись.
Одна из женщин взяла Буиссона за руку.
– Съешь супу, – сказала она. – Вчерашний, но свежий.
– Если совесть тебе позволяет, – сказала другая, – иди ко мне в комнату, ляг, отлежись.
– Нет, – сказал он, – я вернусь.
Он прислонился к стене, чтобы стереть со лба сырость, пот и усталость. Фонарщик волочил нового раненого. Это была первая кровь, первая жертва, которую видел Буиссон.
Буиссон вгляделся в лицо – не знакомый ли? – но оно выражало так мало и было так общо, что казалось многоименным. Оно как бы принадлежало сразу нескольким людям, потому что в нем открылись черты многих сходств и совершенно исчезли следы различий.
– Красавчик из батальона Бигу, – сказал фонарщик довольным голосом, как человек, овладевший хорошей добычей. Он оглядел раненого с ног до головы взглядом контрабандиста, только что перешедшего границу с рискованным грузом. Ему здорово нравился каждый раненый, которого он приволакивал сюда.
– Итальен, – сказал он, определяя породу. – Эй, брат, ты кто?
Раненый ответил стоном, в котором растворилось несколько слов. Одно из них, «camarado», прозвучало понятнее.
– Привет и братство, – удовлетворенно сказал фонарщик. – Крепкий человек, боевой человек.
Раненый пробормотал по-французски:
– Бегите кто-нибудь в батальон Бигу. Старик непонятен. Сорок человек наших. Ни слова. Понимаете, неприятность.
Буиссон отделился от стены, оставив на ней мокрое пятно от своей спины.
– Где Бигу? – спросил он.
– Бигу – прекрасный старик, – ответил раненый, улыбаясь и теряя мысль.
Известковая пыль неслась над тупиком. Дрожали и лязгали оконные стекла.
– Туда теперь не добраться, – сказали женщины.
– Вы видите – надо!
– Туда теперь не добраться. Правда? Конечно, не добраться.
– В сорок восьмом мы, конечно, ходили по-свойски, – сказал фонарщик. – Мы пробьем, бывало, вот эти брандмауэры, влезаем в лавку, вот в эту примерно, делаем дыру в задней стене и – в гостиной у судьи Фальк. Поняли? Из кухни судьи дырку – к доктору Стэну. А там и площадь.
Буиссон покачал головой.
– Слишком медленный и неверный путь, – сказал он и вышел на улицу. Ему, однако, не пришлось сделать и десятка шагов – уже мчались со всех сторон назад, к тупику, мальчишки.
– Бигу отступает! – кричали они. – Граждане, Бигу отступает!
Квартира, в заднюю стену которой вломились ломы, растерянно сбрасывала с себя все одеянья. Полочки с фарфоровыми безделушками рушились, звеня, как ледяные сосульки, вспархивали фотографии и, кособочась, проносились по комнате замлевшими от долгого покоя насекомыми. Стулья подпрыгивали, будто им отдавило ноги, и нелепо валились навзничь. На вещи и людей, грохоча, сухими брызгами рушились стены. Вещи мгновенно бледнели. Известковая пыль покрывала их комковатой испуганной кожей.
Дыра проведена в столовую; через кабинет и спальню ребята ворвались в темную каморку, и топор вцепился глубоко в стену, за которой возник раскатистый треск. Чей-то раздраженный голос глухо прокричал из-за переборки: «Здесь нет хода, здесь нет хода, чорт вас возьми!» – и смолк в тумане пыли, когда рухнули доски, рассыпалась штукатурка, и белые от извести лица негров показались в проломе.
Бигу прикрывал тыл, и пробой вел без него Буиссон. Рубили дыру в комнату букиниста Гишара. Буиссон открыл окно, поглядел небо, понюхал воздух.
– Как бы не снялся туман, – сказал он фонарщику, – долго мы лезем.
– Ну, чего там – не долго. Дойдем как-нибудь. А ты, товарищ, легкий, как девка, – удивленно сказал он и хлопнул художника по плечу. Он говорил это уже раз в десятый, с довольством и гордостью, которых не удовлетворяло никакое внимание. Стоило Буиссону отдать удачное распоряжение, как старик, хохоча, обращался ко всем окружающим и, подмигнув, сообщал: – Это я его вытащил. Смотрю – падает, падает, упасть не хочет. Ну, притащил его в наш тупик.
Если Буиссон бросался к пролому, старик кричал ему вслед:
– Торопись, не оглядывайся, я здесь, подхвачу!
Наконец лом прошел стену и ткнулся в шкаф с книгами. Они разлетелись во все стороны, как мозг из разбитого черепа. Хрящиками ёкнули под ногами корешки старых книг. Дверь распахнулась во внутренний двор.
Шум и скрежет боя несся рядом, сейчас же за наружной стеной китайской прачечной.
– Отдохнуть и собраться! – приказал Буиссон. Он сел на скамью у водопроводного крана.
Дом оживал. То щелкала и брызгами падала с крыши размозженная пулей черепица, то мигало разлетающимся стеклом окно. Из чердачных окон на крышу ползли итальянцы с митральезой. В дыру судейской квартиры всовывали первых раненых.
На все, что происходило, из окон квартир глазели жильцы. Они были почти не одеты, прямо со сна, и нелепо кидались из стороны в сторону, то с сердечной помощью, то в потугах найти выход из ужаса этого непредвиденного пробуждения. Из кухонь как ни в чем не бывало шел запах разогреваемой пищи, вопили дети, кормилицы с грудными детьми отходили в тыл. Батальон сбегался со всего дома. В стиральной комнате прачечной неизвестная старуха, кряхтя, разожгла печь под большим бельевым котлом и присела рядом, мигая на всех красными, произвесткованными глазами.
– Через четверть часа кипяток будет готов, – говорила она всем пробегающим мимо.
В глубине двора вполголоса буркнуло фортепьяно. Буиссон подошел к окну. Мать сказала в комнате: Мари, начни бетховенский экоссез. Не надо смотреть на двор, Мари». Как будто картавя и косноязычна, фортепьяно через силу издало неясный хор звуков. С третьего этажа испуганный голос пропел: «Всегда одна в тоске моей, всегда одна с собой я грежу… Я грежу, грежу… ежу, я грежу… э-э-э… всегда одна с собой я грежу… грежу… э-э-э…»
Двор оглянулся на репетицию с мрачным недоумением. Искусственное равнодушие певицы показалось ему нечестным. Гвардеец подошел к окну и подбросил на его подоконник камень. Голос женщины взвизгнул, песня оборвалась, но тотчас же началась в обезумевшем темпе, напоминающем ярмарочный галоп. Двор засмеялся.
Фонарщик бесцеремонно отдернул занавес у окна, откуда шел звук фортепьяно.
– Доброе утро, – сказал он. – Как только наши начнут действовать, просьба от всех, быстро дайте нам марсельезу. Не меньше десяти раз подряд, барышня.
– Предупредите, когда начинать. Мама, ты слышишь? Боже мой, мамочка! Я открою все окна. Хорошо?
– Ладно, мадемуазель, я дам знак. И, просьба от всех, отпустите все тормоза у вашей машины. Десять раз – не меньше, не больше. Знаете, с чувством. За это время все будет кончено.
Женщина в пестром китайском халате, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали ее худые и неровные ноги, пробежала, неся на подносе гору молотого кофе. Кипяток в прачечной уже был готов.
– Ну, подходите, кто там! – кричала старуха с произвесткованными глазами.
Пронизав своим свистом шум разговоров и беготни, на дворе вспорхнула потерявшая быстроту пуля. Другая ринулась вниз от крыши и завизжала, барахтаясь в водопроводной раковине.
С площади поднялась туча дыма.
– Марсельезу!
– Музыку!
– Барышня, барышня!
– Вперед! Выше сердца!
Когда стихла стрельба, на площади наступило господство того ландшафта, который в искусстве зовется батальным. Предметы и люди приобрели воинственность, застывшую, как судорога. Раненые, истошно крича, шли и ползли еще в том направлении, в каком наступали, и бойцы оставались в настороженных позициях. Парил ствол пушки. Негры, собравшись в кружок и подпрыгивая на месте, пели:
Раззл, даззл, хэббл, доббл!
Сис! Бум! А!
Викторина! Викторина!
Ра! Ра! Ра!
Но, внося атмосферу мирного цинизма, уже сидел на лафете пушки комиссар местной мэрии и переписывал пленных. Он выспрашивал сведения, при помощи которых тут же расшифровывал социальную философию боя, так как с блестящей ловкостью срывал маски военного безличия и безответственности с молодых торговцев и чиновников, одетых в мундиры.
За спиной мэра высокий худой блондин заполнял рисунком альбом. Буиссон обрадованно заглянул через его плечо и, не церемонясь, заметил:
– Лучше загляните внутрь пролома, там такие дела…
Не поворачиваясь и не поднимая глаз, белокурый ответил вопросом:
– Вы сами оттуда? Хорошие сцены?
– Оттуда. У вас замечательная рука. Я ведь сам тоже художник.
– Вот как? Впрочем, я – то не профессионал. Я офицер. И гость у вас.
Они пожали друг другу руки, назвав свои имена.
Белокурый красавец был поляк Генрих Гродзенский, с которым надолго жизнь связала Буиссона. Они вернулись в дом, занятый батальоном Бигу.
У котла прачечной, где полчаса назад варили кофе, теперь хозяйствовал врач. Китаец с лиловыми морщинистыми губами вычеркивал из своей книги пачку белья за пачкой. Марая кровью листы книги, доктор, не глядя, расписывался в получении белья.
Раненых уже разложили рядами во дворе. Толпа женщин окружала их шумом сожалений. Изнемогая от напряжения, из дальней квартиры в углу неслась марсельеза. Она слилась с воздухом и не ощущалась как музыка.
Буиссон, проходя, крикнул в окно:
– Все кончено! Все хорошо!
Воздух смолк. В комнате, обрамлявшей последнюю дыру, равнодушно переодевалась женщина. Лежащий на диване раненый федерат [18]18
Федерат– национальный гвардеец эпохи Парижской Коммуны.
[Закрыть]изумленно и ласково глядел на нее глазами, с которых еще не сошла боль.
Буиссон и Гродзенский перешагнули второй пролом и очутились в столовой судьи.
– Гениальная штука, – сказал им судья. – Гениальная штука этот пролом. Гальяр будет страшно доволен выдумкой.
– Кто это Гальяр? – спросил поляк.
– Это наш баррикадный фельдмаршал, – объяснил Буиссон, улыбнувшись, так как сейчас же представил чернобородое кривощекое лицо папаши Гальяра, его приземистую фигуру с короткими руками, пальцы которых и посейчас были черны от ваксы и смолы его прежней сапожной мастерской.
– Он строит баррикады, как сапожник, я сказал бы, если б можно было данной фразой характеризовать его работу, как добросовестную до щепетильности, – сказал судья. – Честное слово, он их так подбивает и подшивает, будто им существовать десяток лет.
Тут же он вспомнил еще безумца Керкози, гения баррикадной войны, и не без иронии рассказал о двух его проектах обороны Парижа, только что рассмотренных и отвергнутых Военной комиссией.
– Главнейший материал, из которого строятся укрепления, – люди, – утверждает этот Керкози. – Париж должен быть защищен во имя идеи, но отнюдь не для того, чтобы сохранить жизнь нескольким миллионам человек. У него, понимаете, простейше все рассчитано…
В это время переодевшаяся дама заглянула в дыру.
– Гражданин комендант, здесь умирают, – сказала она.
– Там умирают? – спросил судья, кивнув на стену.
Буиссон вдруг почувствовал страшную ответственность перед людьми этих вскрытых и ныне связанных вместе коробок, нежность и близость к ним. Всего каких-нибудь два часа назад жизнь лежала в доме разрозненными, наглухо отделенными друг от друга пакетами, а сейчас сквозняк с площади враз продувал восемь таких пакетов, мешая их запахи.
Отвечая своим скрытым мыслям, судья повторил:
– Необычайно удобны для нас эти проломы. Какой тыл, а! – Он быстро встал и сказал Буиссону: – Я возьму на себя функции гражданского комиссара. – Накинул разлетайку. – Жанна, я сейчас вернусь.
Просунул голову в комнату неизвестной женщины.
– Это у вас умирают? Простите, мы столько лет живем рядом и незнакомы. Я судья Фальк. Это у вас несчастье?
Когда Буиссон и поляк, выйдя из дома в тупичок, куда на рассвете фонарщик стаскивал раненых, добрались до площади, их остановил Бигу.
Покачав головой не то с выражением недоумения, не то как бы сожалея, он мрачно произнес:
– Мы стали воевать, как тараканы, – что вы скажете! – в домовых щелях.
И крепко пожал Буиссону локоть.
– А вы хорошо сделали утро. Хорошо. Про вас все говорят.
– Это я его вытащил, – сказал подошедший фонарщик. – Смотрю, падает. Я их человек десять повынес…
– Вот что, – перебил фонарщика Бигу и обратился к Буиссону: – Вы, я слышал, туда-сюда, на всех языках оборачиваетесь.
– На трех.
– Вот и хорошо. Мы тут с Лефевром решили послезавтра сойтись вечерком, отпраздновать. Вы приходите. Позовем человек двадцать самых дельных ребят каждой масти. Гражданин наш? – кивнул он глазами на Гродненского. – И вы тоже заходите, поговорим.
Уходя, он обернулся и крикнул фонарщику:
– А ты зацепись за кого-нибудь и – тоже валяй!
– Ладно, – сказал фонарщик, – не маленький, цепляться нечего, доберусь.
Площадь снова стала другой. Запоздалая воинственность давно была смята обычным течением дел, на стенах домов, поблескивая свежей краской, ползло наспех выведенное: «Выше сердца!» День набросился на площадь и играл ее видом, как кот с обомлевшей мышью. Пробираясь сквозь толпы зевак, громыхали омнибусы. Раненые требовали санитарных линеек и говорили до обмороков. Зеленщиков куда-то еще не пускали, и они сбились в кучу пахучим обозом тележек и тачек. У человека украли пальто. Он стоял в стороне ото всех и плакал. Лицо его было старым и очень измученным.
– Вы куда? – спросил Буиссона поляк.
– Не знаю. После этого утра мне некуда как-то итти. Все, что я видел… я не знаю, как вам сказать…
И, словно понимая, что имеет в виду Буиссон, поляк очертил рукой воздух, коснувшись площади, толпы на ней, пролома, деревьев бульвара с общипанными кронами.
– Этой картины никогда не написать, – сказал он. – Это не в средствах искусства.
Буиссон улыбнулся в ответ.
– У той певицы… – сказал он. – Ах, да, вы с нами не были. Словом, у одной певицы сегодня стащили ноты ее вечернего концерта. Я написал ей записку: «Квартира гражданки Рош служила резервной линией укреплений в бою с версальцами». «Это совершенно неуважительная причина, – сказала она мне, – записка никак не объясняет аварии нотной тетради, дорогой комендант».
– Где она выступает? – спросил поляк. – Это занятно. Актриса, или так?
– В «Жимназ», кажется, – ответил Буиссон. – А картину окопов, проходящих сквозь быт, все-таки написать можно, – добавил он.
– Не на холсте и не кистью, – ответил поляк.
– Выразить в мраморе, в бронзе, показать в музыке, не все ли равно…
– Сражение, в котором хозяйки под пулями разжигают очаги, а старухи бранятся, кому убирать общую уборную… сражение, в котором принимает участие все… нет, это выше искусства.
Они еще поговорили немного на эту же тему и разошлись, условившись обязательно встретиться у Бигу. Вспоминая потом эту первую встречу с Гродзенским, Буиссон именно к ней относил все разговоры о живописи и вообще об искусстве, которые им случалось вести. На деле было не так, да он и сам это знал, но, помня все мелочи дальнейших их встреч – в апреле и в мае, лишь этой придавал он характер беседы об искусстве в условиях революции. Впрочем, к этому обманному убеждению он пришел значительно позже, когда семидесятый день Коммуны казался ему последним днем человечества и когда, не рассчитывая спасти жизнь, он украдкой рассовывал свои лучшие мысли по мозгам случайно окружавших его людей. Ему казалось, что, разобрав по одной – по две мысли, эти люди потом где-то соединятся и восстановят цельность имущества его духа. Но это все было позже.
Дневник Эдуарда Коллинса
По пути в Париж
Двадцатого марта мы, четверо газетных корреспондентов – американец, двое англичан и итальянец, – покинули Лондон, чтобы отправиться во Францию. Смешно, но английскую прессу представлял офранцузившийся итальянец Тэрэн, тот самый, который через д-ра Маркса привлек к работе в «Pall Mall Gazette» [19]19
«Pall Mall Gazette»– лондонская газета, в которой сотрудничал Энгельс в эпоху 1870–1871 гг.
[Закрыть]в качестве военного корреспондента Фридриха Энгельса, экономиста, давшего непревзойденные образцы корреспондентских «эссэ».
Мой земляк Линг ехал по предложению шведских и русских газет, я отправлялся на свой счет, и только мистер Роберт Рейд, американец, представлял добрый десяток своих американских газет. Мы выехали с членами делегации Тьера, Шарлем Везинье и полковником Гуро, которые возвращались после неудачи переговоров Тьера с Англией относительно смягчения условий перемирия, предложенных Франции Бисмарком. Оба не скрывали своего разочарования политикой лондонского правительства, оба с тревогой относились к позиции России, и лишь то обстоятельство, что Тэрэн и я провели всю франко-прусскую кампанию при французской главной квартире, устанавливало равновесие в наших отношениях. Рейд без стеснения ругал Луи-Наполеона и видел спасение Франции в одной революции.
– Революция или смерть! – заявлял он французам.
– Она осуществлена, – мрачно отвечал полковник, – она осуществлена, мой друг, но от нее только хуже.
Наш пароход с трудом пробил себе дорогу в Гаврском порту. Десятки кораблей стояли здесь в ожидании окончания военных действий, многие из них спустили пары в целях экономии топлива, сотни шхун сушили свои паруса в полном пренебрежении к погоде и грузам. Тысячи безработных грузчиков заполняли порт праздной толпой. За время войны транзитные суда почти перестали заходить в Гавр из-за недостатка в нем продовольствия, и толпы кандидатов на очередное судно представляли единственных людей, которые чем-то интересовались, помимо пищи и ночлега. В Гавре, на борту «Southampton’а» [20]20
«Southampton»– город в Англии; здесь название корабля.
[Закрыть]мы узнали, что восемнадцатого в Париже произошло восстание, в тот же день подавленное правительством. В местных газетах не было ни строки о парижских событиях. Мы обратились с расспросами к портовым факторам, которые обычно знают больше, чем самая осведомленная пресса. Они пожимали плечами.