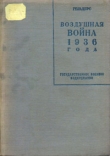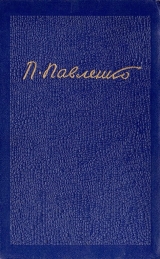
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
У госпиталя нарты остановились. Нанайцы взяли на руки Шотмана, Лубенцова и четырех самых почетных богов, понесли в дом.
– Людей в дом, а богов тащите за мной, – приказал Демидов.
Он остановился у Ольги, в бывшем доме Янкова, и целый день не выходил. На другой день постучались нанайцы с ближайшего стойбища:
– Слыхал, богов покупаешь. У троицких взял, возьми и у нас. Дорого не просим.
– Кладите вон туда, в угол, – сказал Демидов. – Работать хотите?
– Хотим, очень хотим.
– Сколько упряжек можете дать?
– Можем десять.
– К утру будьте здесь. Увидите соседей – зовите и их.
И пошел говорить с Марченко.
Был уже вечер. Демидов долго бродил по площадке города, ища Марченко. Он нашел его на партзаседании. Отправляли в Москву на экскурсию нанайца, ударника Бен-Ды-Бу. Родственники уговаривали его взять с собой две упряжки собак, а Марченко отговаривал, говоря, что там не пригодятся.
– Проспал я своих нанайцев, – сказал Демидов секретарю парткома Марченко. – Я думал, что они охотники и рыболовы, – а зверь их давно не кормит, рыбу ловить не умеют.
Марченко сидел бледный, через два слова на третье повторял: «Шотман-то, Шотман! Голову нам за него оторвут», – но Демидова слушал внимательно.
– Завтра о собаках вопрос ставлю в партийном порядке, – сказал он. – Проработаешь в своей группе. Основная скотина в нашем краю – собака, а мы стесняемся с ней работать. Породу знаешь?
– Чорт их знает. Беспородные они, по-моему.
– «По-моему»! А по-моему, надо собачий завод ставить, новые породы добывать. Учесть надо, сколько тут ездовых, сколько охотничьих, выписать профессора по собакам.
– Ерунда, одни собаки не выручат.
– Систему рыбной ловли изменить в корне – раз; собак освежить – два; сельское хозяйство создать – три; учить – четыре. Народ очень сообразительный.
Он сощурил на Демидова усталые глаза, улыбнулся.
– Вернется из Москвы Бен-Ды-Бу, помощником к нему станешь. Нечего вождя из себя корчить. Чтобы ты мне из него мастера на все руки сделал.
Демидов мотнул головой, спорить нечего было. У Марченко школа Михаила Семеновича: сказал – сделал.
– Do you learn English? [38]38
Вы изучаете английский? (англ.).
[Закрыть]
– Что?
– Понятно. На занятия не ходишь. Языкам не обучаешься. Смотри, вколочу когда-нибудь за все выговор.
Ложась спать, Демидов сказал Ольге:
– Поезжай к Варваре, одна она. Завод – дело не малое.
Утром она проснулась, увидела на столе записку:
«Богов – семь штук больших, три малых, семь половинок – сдай в музей под расписку. Матери передай привет».
Люди шли на Восток. Они несли с собой волну потребностей, заботиться о которых не было сил. Они требовали табаку и театров, жилья и валенок. Спички продавались в комиссионных магазинах. Актеры играли старые пьесы в латаных костюмах, без декораций, как бы из соображений новаторства, а в действительности просто по бедности. К людям, в тайгу, в горы, на берег безлюдного моря, посылали врачей и театры. За врачами шли обозы лекарств, коек, инструментов; театры кричали о красках и полотне.
Нанайцы-охотники рассказывали о санях, без собак летающих по снежным равнинам, и о самолетах, которые живут в глухой тайге.
Да, самолеты жили в тайге.
Да, шли эшелоны орудий, шли самолеты, шли танки. И впереди них шел человек.
Он уходил в тайгу, залегал на границах, плыл в море и строил города.
В середине зимы Ольга вернулась с севера на Посьет, в дом Варвары Ильиничны.
Отпустив мужа на север, Варвара увлеклась стройкой альгинового завода, и Ольга помогала ей писать докладные записки, а вечерами читала вслух письма от товарищей из тайги, полные восторгов от жизни. Ольге казалось, что она прозябает в глухой провинции, и ее брала зависть к ребятам, хотя на стройке нового города и на приисках было глуше и дальше от мира, а люди – такие же, как везде.
В апреле она покатила в Хабаровск защищать смету фабрики водорослей, так как прошел слух, что стройку законсервируют, сделала два доклада о них в краеведческом обществе и написала в газету подвал о новых стройматериалах из водорослей.
Одних она убеждала иодом, других альгином из морской капусты, третьим давала рецепт: одно ведро альгина, три ведра глины, одно ведро песку – и вот вам глина непробойной крепости, четвертых уверяла, что матрацы, набитые филоспадиксом, не тонут в воде и вообще превосходны.
Затем она записалась на прием к Михаилу Семеновичу.
В приемной никого не было, но ждать пришлось долго.
Порученец Черняев испуганно прислушивался к звукам, идущим из кабинета, и часто заглядывал в него, выходя каждый раз все более угнетенным.
Михаил Семенович был действительно один в этот вечер и рассчитывал уделить его Ольге. Но за полчаса до ее прихода Черняев принес стопку телеграмм; Михаил Семенович пробежал их все сразу, и его охватило чувство страшного одиночества и усталости. Только сейчас он понял и ощутил всем существом свое горе. Умер, перестал существовать, перестал выпрашивать цемент и гвозди Шотман. Смерть его постепенно приобретала в душе Михаила Семеновича размеры трагедии и катастрофы. Она как бы еще продолжалась. Шотман все еще умирал в тысячах начатых им дел; и вот сейчас особенно грустно и страшно стало Михаилу Семеновичу.
Соломон Шотман свалился, как экспресс на полном ходу, сразу раздавив несколько чужих существований и перепутав сотни дел и отношений между людьми. Кто будет теперь хозяином золота? Кто расскажет о таежных правах и привезет из далеких приисков каких-то ребят на учебу, каких-то стариков напоказ? Кто поведет экспедиции? Кто станет драться за полтонны цемента для какого-нибудь клуба, до которого три года скачи – не доскачешь.
Вот они лежат, телеграммы, отовсюду. Все ищут Шотмана. Он писал книгу о золоте, обещал два доклада во Владивостоке, хлопотал в крайзу о деле далекого чукотского колхоза, имел четырех стипендиатов в столице… И все они кричат сейчас: Шотман! Дайте Шотмана!
Михаил Семенович положил голову на бумаги.
«Вот умер не во-время», – думает он раздраженно, почти веря, что и вправду мог выдаться такой день, когда он скажет Шотману: «Ну, иди помри теперь, если хочешь».
Мысль, что он сам может умереть, приходит ему последней. Но это настолько невозможная вещь, что он отгоняет такую мысль.
Михаил Семенович не боялся умереть. Он так крепко врос в жизнь, так могуче разветвился в ней, что иной раз почти всерьез самому ему казалось – не мог бы даже заболеть один.
Он чувствовал себя усиленным, укрепленным человеком. Жена Василиса была как бы секцией его нежности. Вся нежность Михаила Семеновича была отдана ей в управление. Когда нужно было кого-нибудь пригреть, ободрить, приласкать, он звонил ей домой: «Позови в гости Артема, приласкай». И знал, что она сделает именно так, как следует. Любопытством и озорством была дочь Зинаида. Она заведовала той частью его души, которая все еще, в пятьдесят пять лет, тянулась к занимательной физике, моделям самолетов и сказкам, ко всему недожитому в детстве.
Но это был всего лишь малый круг его жизни, за ним шел большой. Тут на Лузу было возложено уменье петь песни, гадать о войне, охотиться и обижаться на медленность времени. Шотману же принадлежала природа. Вот эти камни, что покоятся на столе, обломки угля и руд лежат кусками его тела. Шотман распределил себя в еще более вечных величинах, чем Михаил Семенович, – в дереве, в земле, в рудах.
И Михаил Семенович берет в руки уголь, медь, олово, взбалтывает склянку с нефтью. Тонко понимал Шотман все эти вещи. Сказок не читывал, а рассказывал их сотнями, добывая неизвестно откуда.
Михаил Семенович трясет головой и тихо говорит самому себе:
– Сотней человек у нас меньше без Шотмана.
Этим он не хочет сказать, что Шотман работал за сто человек, но Шотман тащил сто или двести душ из всех углов, растил их и запускал в дело. А теперь все они обезглавлены, да их сразу и не найдешь, не вытащишь, не угадаешь, что воспитывал в них покойник, на что готовил их.
– Ах, Соломон, Соломон, – шепчет Михаил Семенович, – дурной какой, чорт…
Умерла душа большая и плодовитая.
Умерли глаза, умевшие видеть, уши, умевшие слышать, мозг, умевший проникать в мелочи жизни, руки, любившие труд, ноги, не боявшиеся расстояний, сердце, способное глубоко любить, голос, не знавший ничего, кроме бодрости, – умер талантливый большевик, и доброй сотней людей стало меньше на этой земле.
Михаил Семенович принял Ольгу только часу во втором ночи. Поговорили о Варваре Ильиничне, об угрозе войны.
Потом он небрежно и будто нечаянно спросил ее:
– Что это у вас там за фабрику построили, на Посьете? Клей какой-то?
– Не знаете? Но вы же сами сначала дали на нее денег, а потом сами же и прикрыли ее.
Она рассказала о фабрике, скрыв свои хождения по инстанциям.
– Та… – задумчиво произнес Михаил Семенович. – Та… я так и знал, что это твоя работа. Шесть суток мне звонят отовсюду. Одному обещала фабрику, другому клей, третьему запродала какую-то паклю. Паклю, в самом деле? Вот все кричат теперь о твоей пакле. Клей какой-то там рекламируешь… Та, та…
Он вздохнул, ни о чем не думая.
– Меня больше всего интересует эта глина, которую ты хочешь проклеивать, – сказал он. – И где это ты берешь столько глины? Я страдаю без глины. Изобрети мне простую, дешевую русскую глину – и можешь клеить ее, чем хочешь. Глину – без дураков! А ты лезешь с клеем для глины, а самой-то глины ни у кого нет.
Он взял ее за руку.
– Дурочка, построй лучше кирпичный завод, а?
Он потряс ее руку.
– А на проклейку там, на баловство это, мы подкинем тебе тысяч двадцать. Что? Ну, и сорок там, может быть. Идет?
– Хорошо, я подумаю.
Он сразу повеселел.
– А водорослевой фабрики теперь я боюсь, – сказал он ей доверчиво. – Добро перепортим и без кирпича останемся. Договорились? Угли у нас встают, нефть вышла на первое место.
Он стукнул рукою по столу.
– Ты думаешь когда-нибудь, Оля, о будущем? Обязательно думай. Будущее непременно должно отбрасывать, так сказать, свой свет на сегодняшнее; мы с тобой должны работать только на этом свету. Год назад кто думал у нас тут о нефти? Никто. А сейчас я на все смотрю в свете нефти, в свете ее возможностей. Следующую пятилетку мы, брат, иначе задумаем теперь. Поняла? Сначала все только и говорили – не вытянем, никак не вытянем; а спроси людей, сейчас что они говорят? Медленно, говорят, тянем. И нас еще ругают, что план, дескать, занижен. План… план… – он долго жует губами, прежде чем сформулировать то, что уже давно улежалось в его сознании.
– План!.. Это, Ольга, скажу тебе по секрету, средство неслыханной силы. Ты только покажи человеку, как и для чего ему жить, спроектируй, так сказать, его вперед на пяток лет, – и он сразу начнет сокращать путь. Зачем, говорит, через пять, я и через три доберусь! Ну, ладно, иди, заговорил я тебя.
Он потряс ее руку и сказал совсем благодушно, как самую хорошую новость:
– А Степана-то Зарецкого мы, знаешь, все-таки посадили.
– Как так?!
– Да так. Я всегда говорил, что тайге нужны веселые люди. Скучный человек там непременно завалится, это уж факт, установленный опытом. Одним словом, у Зарецкого диверсанты базу свою устроили. Поняла? Мурусима у него на стройке целый месяц жил – японский шпион. Можешь себе представить? Проработали мы Зарецкого здорово. Он в бутылку полез, обиделся. Чем, говорит, я могу ответить на позор такой проработки? На проработку, говорю, отвечай работкой. Попробуй. А он опять за свое, ну и… Хочу теперь Варвару в тайгу сунуть.
– В тайгу?
– Да нельзя же героем гражданской войны всю жизнь оставаться. Вот Василий Луза – и тот собак разводит, старается. А что Варваре сидеть дома? Нет их теперь, ваших водорослей. Закрыли мы их, к чорту! Дело ее иссякло, а она герой настоящий. Что мне с ней делать? В тайгу, в тайгу. Веселые люди должны итти в тайгу.
– Мы бы с ней вместе наладили вам кирпичный завод.
– Вот уж и вместе! Не примазывайся к чужой славе, Ольга. Вылезай сама в люди. Поставь мне кирпичный завод и поезжай хоть на Северный полюс.
Прощаясь, он снова становится грустным.
– Ну, а люди у вас как? – спрашивает он. – Люди-то растут, лезут вверх? Гони людей, как рассаду, сколько ни воспитаешь – все будет мало. Вот Шотман умер, Оля, – говорит он растерянно, – и заменить некем, все чувствуется дыра. Вместительный был человек.
– Да, – говорит Ольга бледнея, – я его очень любила.
И вспомнив Шотмана, северного прокурора, тяжелую зимнюю тайгу и все неисчислимые тяготы здешней жизни, она говорит:
– Михаил Семенович, что делать? Мать все время требует, чтобы я замуж поскорей выходила. Боится за меня. Шатаешься, говорит, по тайге, мало ли что может случиться. Грешным делом, я обещала, что весной, мол, выйду замуж. Что теперь делать?
– Завралась, – улыбается Михаил Семенович, – теперь двадцать лет подряд будешь врать, и все окажется мало; хлопотливая штука это – вранье. А может, и есть уже кто на примете? Ты скажи, не стесняйся.
Он думает, шевеля губами, и, прищурив глаза, говорит:
– А вот дам-ка я тебе командировку в Москву, товарищ Хлебникова. Альгин-то ведь надо все-таки двигать. Это я по бедности его прекратил, а ежели денег нам на него подкинут, мы его с тобой выведем в люди. Верно? Поезжай в Москву, в Госплан, походи там, поагитируй. Выдумала завод, так теперь и доказывай, что он нужен. Решено, а? Нет, какого чорта в самом деле, – выдумывать вы все мастера, а ты вот возьми да организуй! Решено?
Проводив Ольгу, он усаживается в кресло и сейчас же, торопясь, засыпает до первого телефонного звонка.
2
Мурусима перебрался через границу под видом нищего. Вел его старый приятель, человек с вырванным языком и отрезанными ушами, Ма Чжун-сянь, пограничный вор. Он был изувечен хайларским судьей за клятвопреступление, но уверял, что пострадал от японцев или от русских, смотря по обстоятельствам. Обойдя Георгиевку, они подошли к переднему плану у пограничной заставы, но отступили, – на тропах лежали собаки. Решили перейти через поля колхоза «25 Октября», но не повезло и там – какой-то человек всю ночь сидел возле брода, – и тогда они разошлись в разные стороны. К утру Мурусима добрался до белогвардейской слободы, а Ма Чжун-сянь попал под пулю Лузы.
Капитан Якуяма встретил Мурусиму почтительно и не подал виду, что знает о его доносах.
После завтрака они начали деловой разговор.
– Вы, мой друг, неправильно толкуете свой путь, – сказал Мурусима, начиная беседу.
Он увидел на столе Якуямы марксистские книги и указал на них.
– Мы, разведчики, должны быть теми людьми, какими мы можем, какими были бы, не будучи разведчиками. Вы можете быть купцом, Якуяма, потому что коммерция свойственна здоровому, энергичному мужчине, но вы не можете быть тем, кем не должны быть, – например коммунистом. Японцу это несвойственно. Верьте мне. Я четыре года провел в духовной семинарии, – но нет, я не поп, хотя и не представляю себе разведчика, безразличного к религии. Насаждайте, Якуяма, переселенцев, в Корее у меня семь тысяч своих людей, открывайте конторы.
– Господин Мурусима, я говорю вам искренно, как старшему начальнику: ищите провокаторов и воспитывайте диверсантов и плюньте на ваши семь тысяч переселенцев или десять тысяч парикмахеров.
– Нет, нет, Якуяма, неосмотрительно так действовать. Немцы, вы знаете, еще до войны имели десять тысяч своих матросов в Англии…
…И однако английский флот остался хозяином на морях. Господин Мурусима, провокатор – это активный разведчик. Вы работали на наблюдении и узнавании, но время требует большего. Узнаю, соображаю и разрушаю.
– Огонь орудий часто освещает уже выигранные поля сражения, и наше дело играть до прихода орудий, и даже без них обойтись.
– С тех пор как существует Коминтерн, – продолжал Якуяма, – нам не удаются положительные программы среди народных масс. Мы уж не можем рассчитывать на ваши десять тысяч парикмахеров, переселенцев и проституток. Мы уже не в силах подбирать людей, говоря им: «Будьте за нас». Надо им говорить: «Будьте против таких-то в своей среде». Быть «против» легче, чем «за».
Мурусима верил, что он выше и умнее Якуямы со всеми его методами, и даже не только выше, но правильнее; и даже не то что правильнее, а что он целиком враждебен Якуяме, хотя оба они японцы и оба разведчики до конца жизни.
Якуяма глядел на него, улыбаясь с ненавистью. Старик Мурусима раздражал его. Был он стар, завистлив, хорошо зарабатывал на разведке и рассматривал ее как свое хозяйство.
Якуяма уже прочел донос Мурусимы и теперь приготовлял себя к ответному доносу.
– Все быстро, все наскоро, все наудачу, без веры в историю, без расчета на годы, – говорит Мурусима. – Вы не верите, что будете существовать через двадцать лет, и хотите все переделать в год, в два. Вредно таким образом размышлять. Я же, слушайте меня, Якуяма, я работаю, как в сберегательной кассе: беру, беру, беру людей, даю, даю им слухи, то да се, помогаю, слежу – о, пусть живут, пусть будут! Они пригодятся когда-нибудь. Все думают, что их нет, этих людей, а они есть. Они только тихие, глупые, они ничего не знают, они молчат. Пусть молчат. Их время придет. А вы… по вашей системе, нам следует воевать каждые два-три года, потому что провокаторы не могут долго бездельничать, диверсантам скучно сдерживать себя и убыточно.
– Но зачем, господин Мурусима, нам эти консервы из бездеятельных шпионов, которые вы заготовляете вот уже тридцать лет? Зачем мне ваши десять тысяч парикмахеров, ставших контрабандистами и жуликами, если понадобится всего десять человек политических деятелей? И не на десять лет, а на десять месяцев? Вы делаете шпионов, которых некуда будет девать. Нехорошо, если в Корее будет десять или двадцать тысяч шпионов. Это опасно и не производительно – так делать шпионов. Дайте мне десять вождей и прогоните десять тысяч рабов.
– Якуяма, мысль ваша полна неправильности. Рабы нужны, вождей не должно быть. Моя линия – делания рабов. Я уже обращал ваш взгляд на ламаизм. Милейшее вероучение! Оно гласит: нельзя убивать никого, даже насекомых. Распространяйте это учение, Якуяма. Пусть вся Монголия исповедует ламаизм! Да здравствует ламаизм! Распространяйте его пятьдесят лет подряд. Из двух членов семьи один обязательно должен быть ламой, говорит это вероучение. Да, да. Один из двух сыновей обязательно должен быть ламой, дорогой Якуяма. Кричите: лама не должен иметь семьи, должен отдаться молитвам и чтению святых книг; лама не должен иметь хозяйства и освобождается от военной службы. Распространяйте, прошу вас, это учение, потому что уже и сейчас почти половина мужского населения Монголии – ламы, они не занимаются ни войной, ни хозяйством, ни политикой, ни торговлей. Они сидят на шее народа и молятся. Да здравствует ламаизм! Я хочу, чтобы все монголы превратились в лам, и я привезу наших ребят из Хоккайдо, двоих на каждого ламу, и они покажут, что такое Япония.
Они спорили, с каждым словом все больше ненавидя и презирая друг друга.
Мурусима видел в Якуяме молодого тщеславного карьериста, бездельника с опасным образом мыслей, а Якуяма считал Мурусиму мелким торгашом, отставшим от жизни и глупо уверенным, что его парикмахеры, прачки и газетчики, от которых он имеет доход, действительно пригодятся со временем.
«Тридцать лет удит рыбу в свое ведро и уверен, что это патриотизм, – думал Якуяма, улыбаясь и кланяясь Мурусиме. – Это героизм наших старых шпионов, по двадцать лет торгующих на базаре старьем и имеющих диплом генерального штаба, это героизм мелких рантье. Они просят милостыню, а чины им идут, ордена идут. А торговля опием или старьем имеет к тому же свои доходы».
Разругавшись, Мурусима и Якуяма, однако, не оставляли друг друга ни на минуту. Никто из двоих не выходил из дома. Казалось, они боялись выпустить один другого из поля зрения, чтобы не обвинить в предательстве.
Якуяма раскрыл книгу, а Мурусима сел составлять карту агентурной сети и вслух шептал свои отзывы о многих советских людях:
– Зверичев любит старожилов-китайцев, человек с большим кругозором.
– Убить, – говорит Якуяма.
– Луза – очень активный старик, дружит с китайскими партизанами.
– Убить, – говорит Якуяма. – Оставьте в живых только дрянь и мусор, всех остальных надо под маузер. Плевал я на Россию на веки веков.
Мурусима говорил:
– Конъюнктурный вы человек, легкий мотылек, Якуяма.
– Напротив, ненависть моя навеки. Красные – мои враги, как змеи, кусают они меня или нет.
– Убивая, вы только делаете их более осторожными.
– Но зато и сам я делаюсь более смелым и более опытным. Их надо уничтожить. Поняли?
– Якуяма, вы – позёр. Тоже нашелся революционер, читает Троцкого!
– Вы же окончили в свое время духовную семинарию, Мурусима, и были даже православным попом. Теперь наша профессия не нужна, а Троцкий – это Ницше разведки, апостол паники и провокации.
– Ницше? – переспросил рассерженный Мурусима, старый поклонник германской идеалистической философии.
– Выше, выше! Шульмейстер, Гейнце, Троцкий – три мужа, три шпиона. Читайте Троцкого. Забудьте свои акафисты.
– Это все теория, – закричал Мурусима. – Господи Иисусе, это одна теория, а я практик, я имею дело во времени.
– Не надо сидеть двадцать лет в тайге, чтобы сказать, что этот ваш Зарецкий – дурак. Когда я читаю о пяти выговорах ему за срыв лесорубки, я говорю: живи пока. Вот и все. Он не мой агент, но он делает мое дело бесплатно. Чем это плохо?
Так они прожили около семи дней, пока их обоих не вызвали в Мукден.
Якуяме было сказано совместить осторожность с активностью, а Мурусиме велено было готовиться к поездке в Баргу – обучать монголов патриотизму.
На радостях Якуяма подарил старику много книг, полезных для его новой деятельности: «Жизнеописание Чингиз-хана», «Очерки Монголии», «Три героя Азии» (Чингиз-хан, Тамерлан и Хито-Иоси) и только что вышедшую брошюру «Монголы – это японцы».
– Я разделяю ваше мнение, – сказал Якуяма, – что книги суть лучший капитал человечества.
Мурусима сказал на прощание:
– Тот, кто хочет держать в тайне существование машины, разлагает ее на не зависящие друг от друга составные части, с которыми непосвященный ничего не может сделать.
– Господин Мурусима, если вы настаиваете на десяти тысячах парикмахеров, я скажу вам: они могут существовать только как партия или союз. Организуйте партию, которая будет служить вашим целям. Все остальное – бред. Я прошу не проливать на меня гнева. Жизнь сильно изменилась с тех пор, как вы окончили Военную академию.
Мурусима. Великий смысл во-время рассказанной сплетни, пущенного слуха, прочтенной газетки… Вы, Якуяма, не следите за тем, как работают красные у нас в Ниппоне и здесь, в Китае.
Якуяма. Почтенный друг мой, они не нанимают для этой работы шпионов. Они – партия. Они рассказывают и читают то, что им нравится, что им нужно для жизни. Вы не заставите их распространять наши проповеди. Наконец они ничуть не скрываются, и я уважаю их. А ваши парикмахеры стригут сорок лет свои доходы, играют в карты и от нечего делать выдумывают для вас очередные сводки, чтобы не потерять права на пенсию.
Мурусима. Не так просто, не так просто. Прослушайте маленькую историю. На Цейлоне, дорогой капитан, есть насекомые, так называемые филиссы, совсем похожие на листья того дерева, на котором они живут. На лист похожи не только сами филиссы, но их яйца совсем схожи с семенами растения. На филиссе такие же жилки, как на листе, совсем такого же цвета, как лист, и когда листья куста желтеют – желтеют и эти удивительные существа. Всякий хороший шпион – филисса.
Якуяма. Я представляю, чем это однажды закончится: вы посеете шпионов, а вырастут повстанцы. Я не ботаник, простите меня. Я солдат. Эти семена, которые похожи и на то и на се, мне кажутся подозрительными. Мы уже вырастили столько своих парикмахеров и поваров, что при желании могли бы обстричь весь Китай или отравить его по любому способу. И, однако, этого нет.
Он махнул рукой.
– Яйца ваших филисс обладают еще одним отвратительным качествам: из них часто вылупляется не то, чего ждешь.
Мурусима. Значит, разведки больше не существует?
Якуяма. Господин Мурусима, существуют политические деятели и партии. Разведка, позвольте мне думать, – метод, не цель. Я прошу вас быть счастливым на новой работе.
Тогда Мурусима сказал ему:
– Слушайте, вы – дохлая моль! Вы развязали себе язык, потому что работаете на самой глупой нашей границе. Здесь не много надо ума. Но что бы вы стали делать, будь вы посланы разводить хлопок в Персии, вблизи от советской Туркмении и Афганистана? Там у нас авиабаза. В одном переходе от туркменов, в одном – от афганцев. Что бы вы стали делать на нашей абиссинской концессии, самолеты которой одинаково угрожают итальянцам в Киренаике и англичанам в Аравии? Что бы вы стали делать на нашей каучуковой концессии на Борнео, самолеты которой угрожают и Англии и Голландии? Разве мы знаем, с кем будем воевать раньше? Разведчик ненавидит и любит в деле, но дело его – как микроб – невидимо до времени. Вы чаще думайте, о чем я сказал. Ступайте.
3
Эшелон с женами и детьми летчиков двигался из Украины на Дальний Восток. В конце двадцатого дня перевалили Урал. Весна отстала у Вятки. В лохмотьях мокрых гор, сырых лесов повалила Сибирь, еще не отошедшая от зимы.
Все ехали впервые и, как всегда в путешествии по незнакомому месту, вспоминали слухи, рассказы, отзывы дальних знакомых, перечитывали письма мужей и, не умея представить, что встретит их у берегов океана, нудно и мелочно, помногу раз пересказывали свои личные странствия из Украины в Крым или из Белоруссии на Кубань. А потом письма надоели, рассказы опротивели, и многие весь день валялись на койках. Еще до Урала было решено выбрать старостиху эшелона и организовать быт. Эшелон двигался медленно, валяться на койках не было сил. Выбрали Клавдию Голубеву, муж которой работал в «истребиловке», как запросто называли женщины истребительную авиацию.
Чем далее на восток, тем все глуше и однообразнее становилась природа. Нескончаемые леса, долгие ветры, длинные, чуть ли не на день, тучи. Тянется такая туча километров триста, пляшет ветер сутки-двое, идет лес черно-зеленой полосой неделю, – и кажется едущим, что вступают они в дикую, необжитую землю, где все огромно – и тучи, и леса, и одиночество. Украинскую весну вспоминали, как прошлогоднюю. «Так и постареть недолго, пока доедешь», – говорили они. И чем далее на восток, тем все медленнее шел эшелон, тем все дольше стоял он на маленьких станциях с молчаливыми людьми, пропуская вперед себя товарные маршруты и составы с вербованными рабочими.
Народу на восток шло много. Ехали одиночки, семьи, бригады, колхозы. Ехали землепашцы, рыбаки, плотники, горняки.
После Байкала стали попадаться рабочие поезда и с востока на запад.
– Из какого города? – спрашивала их Голубева.
– С девятого номера, – охотно отвечали едущие на запад. – Заезжайте когда, – городок что надо!..
– С девятого?
– Проедешь химкомбинат и не сворачивай на большой тракт, а узкоколейкой – на рудники. Тут тебе и тридцать восьмая и девятая зараз.
– Города какие по дороге?
– Города в стороне, да орс-то свой, чего тебе города… Свой совхоз, своя ферма, театр под боком, – на кой тебе ляд города?
И так было уже несколько раз, что едущие с востока на запад не называли никаких городов или, наоборот, забрасывали названиями тех городов, где они были завербованы или где отдыхали после работы, а чаще выкрикивали названия железнодорожных станций.
Люди, едущие обратно, знали географию по номерам своих строек. У них был свой язык, своя география.
– И куда народ только девают? – говорили между собой женщины. – Едут и едут, а городов больших нет, сел больших не видно, на станциях пустота.
Когда жены пробовали поторопить свой вагон, им говорили ехидно ленивые станционные люди:
– Э, были бы вы у нас вербованные, мы бы сейчас к начальнику станции: пропускай, не держи, строители социализма едут. А то что – домохозяйки! На вас и малой скорости жалко. Вы до какого собственно места стремитесь?
– Места наши темные, – отвечали женщины. – Полустанок шестой километр, почтовый ящик восемьдесят один.
– Сроду таких фокусов не видели, чтобы живых людей в почтовый ящик адресовали. Вроде посылки идете.
А время шло, и мало-помалу весна обогнала эшелон. За Благовещенском была еще весна, третья по счету в этом бродячем году, но через ночь или две внезапно, как буря, ворвалось в окна вагона лето. Оно наполнило воздух ветром, жаром, пылью; и начался дождь, великий летний дождь Востока.
Сначала он шел плечо в плечо с солнцем, но, разойдясь, подчинил себе и солнце и ветер.
Отдельными лучами шныряло теперь солнце в сером, сыром воздухе, полном мелькающих капель, иногда зажигая их. Тогда казалось, что дождь горит, и начинало чадить от раскисшей земли.
Полустанок шестой километр был безлюден. Вагон отцепили ночью. Душным стоячим воздухом, пропитанным парами испаряющегося дождя, дышать было трудно, как в прачечной.
«Что-то даст утро?» – думали женщины, ворочаясь в бессоннице и слушая встревоженными ушами звук великого здешнего безлюдья.
Ни звери, ни птицы не нарушали ночи. Она стояла, брошенная жизнь. Утро пришло без прохлады, без щебета птиц, без громких голосов, не настаивая, что оно утро, и могло назваться вечером, если в том была бы надобность.
Отсюда до расположения бригады считалось девяносто километров по топким таежным дорогам или сто двадцать, если сделать петлю вдоль колхозов.
Жены приоделись, глядели в окна, зевали от волнения.
В полдень приехал представитель районной власти Марченко.
Все бросились к нему по дождю и, обняв, повели в вагон.
– Ну что, как там у вас, как наши? – кричали ему со всех сторон. – Вы начальник политотдела бригады?
– Нет, я секретарь парткома двести четырнадцать, шеф бригады. У ваших инспекция, – сказал Марченко, – а мне вас повидать и встретить хотелось, поприветствовать. Итак, грузимся.
Кривляясь над лужами, стоял дождь, называемый майским. Он начался в мае. Конца ему не предвиделось. Но женщины ехали так долго, что теперь природа ничем смутить их была неспособна.
Из вагонов в машины покатились узлы, чемоданы, затарахтели швейные машины, закачались в руках родовые фикусы из Шепетовки и Киева. Выгрузка и погрузка шла, как игра. Дом был близок. Они приехали. Путь окончен. Кончена скука. Где-то за дождем ожидали мужья.
Наконец машины нагружены. Машины тронулись. И вслед за ними тронулись, запрыгали сопки вокруг дороги. Долина исчезла, как не бывало ее. Все занято было горами, невысокими, бочкастыми и очень милыми в своем пушистом зеленом меху.
– Грузия! – закричал кто-то.
И впрямь, из мглы дождя вырисовывались пейзажи Сумбатова и приборжомских ущелий. Да, Грузия, вылитая она!
Всем хотелось, чтобы новое место было похоже на родину или края, знакомые хоть немного. Но Грузия была далеко, и все, что видел глаз, лишь на секунду напоминало что-то известное, а потом… Смотрите! Неизвестно что! Ни на что родное не похожая страна! Ни степей, ни гор, ни русских полей, по краям тронутых лесом, – пестрым однообразием своей нежилой тишины вокруг вставало каменное море сопок.