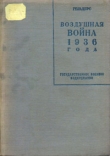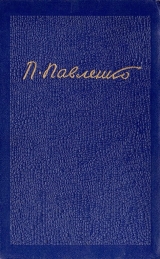
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Заводик был маленький, плохонький, но Михаилу Семеновичу все понравилось. Он любил, когда что-то возникало само собой по инициативе снизу.
– Вот это инвалиды! – кричал он. – Правильный народ! Ведь у них тут рай! Санаторий!
И он перебирал кривые стаканы, хлопал мастеров по плечам, обещал им чего-то подкинуть и приказал изготовлять графины и блюдечки. Директор завода прыгал вокруг Михаила Семеновича на деревяшке, радостно поглядывая на окружающих, и показывал свою крайнюю измотанность.
– Аж протеза вспотела, – радостно шептал он Лузе, преисполненный гордости за дело и уважения к самому себе.
Осмотрели склады сырья, жилой корпус, сараи, нашли три черепичных формовочных станка, неизвестно кому принадлежащих, и Михаил Семенович немедленно распорядился отослать их в район. Подъехал командир дивизии Кондратенко.
– Дело тебе нашли, – закричал ему Михаил Семенович, – черепицу делать! Вот инвалиды глины найти не могут. Организуй черепичное дело, будем меняться: ты мне – черепицы, я тебе – леса.
– Есть организовать! Авансом не дашь кубометров шесть пиломатериала, Михаил Семенович? А черепицы я тебе нащелкаю сколько хочешь.
– Верное слово?
Они пожали друг другу руки в знак сговора, очень довольные сделкой. Время было такое, что тот, кто не строился – пропадал. Надеждой на центральные фонды нельзя было жить.
Со стекольного поехали еще в один колхоз, а потом решили горами пробраться прямо к Варваре. Ночь застала в горах, ехали медленно и на подъемах шли пешком. Свободного времени было сколько угодно, и Луза, которого с непривычки утомили все эти дела и цифры, заговорил о будущей войне.
– Война, война! – о войне Михаил Семенович мог говорить не менее Лузы. – Что я тебе скажу? Надо иметь столько стали и железа, сколько нет у противника; хлеба больше, чем он имеет, и мужества больше, чем предполагает в нас. О войне спрашивать – все равно что о болезни. Какой, мол, у тебя будет сыпняк – легкий или тяжелый. А чорт его знает какой! Всякий сыпняк тяжелый, если здоровье плохое. Значит, что надо? Здоровье иметь надо. Силу надо иметь.
Глухими ночами, когда затихали телефоны в его кабинете, Михаил Семенович не раз представлял, сколько новых заводов, фабрик и промыслов он мог бы уже поставить, не будь расходов на оборону.
– Война будет тяжелой, – говорил он. – Но с кем бы ни воевали мы и сколько б ни воевали – выдержим. Мы здоровей своих врагов, а потому и сильней.
Ночью они въезжают в село и на два часа укладываются спать в здании школы. Учитель робко сообщает Михаилу Семеновичу, что у него есть проект. В уссурийских лесах живет червь-шелкопряд. Можно организовать лесное шелководство. Шелк-сырец высокого качества. Шелкомотальные фабрики в тайге.
Михаил Семенович, держа сапог в руке, слушает его со вниманием.
– Вот построим город на Нижнем Амуре да два города на морском побережье, тогда и за ваш проект примемся. Шелку бы хорошо, – говорит он учителю. – Я для вашего проекта денег мало-мало урву. Вы пришлите мне докладец. Дело чудесное. Вы не откладывайте, завтра сядьте и напишите, дадим подсчитать… А я на чем другом сэкономлю.
Учитель уходит, а Михаил Семенович говорит Лузе:
– Не шелк мне дорог, – учитель хорош! Видал глаза? Фабрики, говорит, в тайге. Охотники за червями. Молодец! Стоит десяти тысяч.
Лузе кажется, что он еще не успевает вытянуть ног, как Михаил Семенович уже будит его.
– Вставай, брат, – говорит он. – Нечего казенный хлеб лежа есть…
– Да ведь только глаза закрыл. Куда теперь?
– К Винокурову в дивизию. Три часа глаза закрывал, хватит!
Они едут в дивизию Винокурова. А пока они едут, спазма сжимает узкое горло железной дороги. Книги, факторы, спички, танки, люди, медикаменты, подводные лодки – все, что катится сюда с далекого запада, застревает в узком, как горло кита, проходе.
Черняев в вагоне Михаила Семеновича принимает телеграмму за телеграммой и особым чутьем секретаря, которое является дополнением к натуре Михаила Семеновича, быстро догадывается, где может быть его шеф.
Еще почти ночь. Ни ночь, ни утро. Комдив Винокуров просыпается от звонка.
– Кто? – кричит он. – Что? Михаил Семенович? Не был… А-а-а. Хорошо. Спасибо. Не уйдет, нет. Как будет в руках, я тебе позвоню, Черняев… Ладно. Валяй спи, не уйдет.
Но Михаил Семенович обманул чутье Черняева: он поехал к Варваре Ильиничне, а к Винокурову будет завтра.
В горах сыро, туманно; молча сидеть и думать нельзя – становится холодно, и клонит ко сну, и ломит и жжет поясница. Михаил Семенович начинает думать вслух – все-таки разговор.
– Горизонтально у нас как-то мыслят, – говорит он зевая.
Тут все – в этой фразе.
Он, которому революция дала два ордена, большой пост, большую квартиру, в которой ему некогда жить, большую и веселую семью, которую он не видит по неделям, большой и роскошный автомобиль, который он жалеет портить на этих дорогах, – распоряжается с азартом и волнением только большим и ясным своим характером. Характер его тоже сделала революция. Характер его лежит как бы в сберкассе и дает из года в год проценты. Все что-то прибавляется в уменье разбираться в людях и глядеть вперед.
– Горизонтально у нас как-то думают, – повторяет он, пропуская сквозь сознание вместе с этой фразой целый поток имен, лиц и фактов, кажущихся ему неправильными.
Он думает о людях, как изобретатель их.
– Я из этого Фраткина мыло варить буду, – мрачно говорит он. Потом вспоминает об Ольге, о рыбе, о том, что тузлуки никто делать не умеет и треть улова всегда пропадает на берегу.
Он закрывает глаза, теперь уже не боясь заснуть, потому что все ходит в нем ходуном от раздражения и отчаяния. В его голове борются сметы, проекты, люди, кричат районы, и из этой жизни, бьющейся в его памяти, он выхватывает десять-двенадцать жизней и бросает их мысленно на нефть и уголь и улыбается, если чувствует, что придумал удачно.
– Хороший народ районщики, – говорит он Лузе, – но звери. Зарежешь ему баньку какую-нибудь, до смерти не простит. В прошлом году решил один район фабрику венской мебели у себя поставить. Мастеров навезли, здание выстроили, заказов напринимали… Нагрянул я к ним, гляжу – с хлебом плохо, с рыбой дрянь, с лесом прорыв, – все фабрику строят. Как стукну я по их мебели… А мы, говорят, хотели фабрично-заводской пролетариат у себя вырастить. Вот идиоты-то! На мебели! Понимаешь?
Вздохнув и крякнув, он улыбается.
– Впрочем, ничего. Так и должно быть. Вторую пятилетку выполним, легче будет. А сейчас почему трудно? Потому что все переучиваемся по-новому жить. Каждый по-своему старается; да вот горизонтально пока думаем, горизонтально… да и всего сразу хочется.
Луза не отвечает. Он думает о тишине на границе. Занавес тишины прикрывает от соседей многое, о чем Луза и не догадывался.
Впереди, в углу бухты, возникает поселок.
– Забралась же Варвара!.. – смеется Луза.
– А что, глухо, что ли?.. Ерунда. Во второй пятилетке мы тут планируем промышленность насадить. Это, брат, будет индустриальный центр.
– Вот это?
– Именно вот это.
– Нашли ж место…
…Варвара Ильинична не ждала гостей, но нрав ее был таков, что все преображалось в доме, как только на пороге появлялся приезжий, и, обнимая Михаила Семеновича и Лузу, она уже подталкивала их к столовой и, целуя, кричала через плечо кому-то невидимому:
– Икорки с ледника да синий графин, большенький!
И как вошли в комнату, сразу появилась икра, синий графин, балычок, какая-то маринованная трава, а Варвара Ильинична, сотрясая комнаты неуклюжим бегом, волокла самовар, похожий на идола из посиневшей меди.
Не успели закусить, как она рассказала все свежие новости. Оказывается, Демидов, муж ее, приступил к стройке завода, и приезд Михаила Семеновича весьма кстати, так как смета еще не утверждена, а работы начаты.
– Альгин, Михаил Семенович, будет тебе вырабатывать, – говорила она, утирая губы уголком головного платка, – ценная вещь! Клей из водорослей. Глину им, что ли, проклеивают, покрепче цемента выходит, камень и камень.
И, наливая из своего графинчика, страстно говорила доверительным шопотом:
– Дело хотя и районного масштаба, но может иметь большие последствия.
Скоро пришел сам Демидов и принес проекты и планы, а Варвара достала из комода ольгины письма, где про этот альгин писалось научно.
– Так это что, клей? – равнодушно спросил Михаил Семенович, перебирая листки писем и улыбаясь прочитанному. – Глину клеить хотите?
– Прямо железобетон получается, – уверял Демидов.
Михаил Семенович смотрел на него, как на больного. Клей!.. Это как раз то, что нужно.
– Ладно. Имени Ованеса будет завод. Ольга, как вернется с севера, пусть тоже на заводе тренируется. Клей так клей. Обсудим в крае. Да все за твои глаза, Варя, а Демидову бы ни за что не помог, одной тебе верю…
А Василий Пименович Луза, попивая пахучую водку из синего графина, устало твердил:
– Ну, значит, с вас магарыч. Спой, Варя.
Однако Михаил Семенович вскоре поднялся и заявил, что им пора ехать.
– Дочка на севере? Пошли-ка ей посылочку, Варвара, я велю передать.
Заплакав, Варвара бросилась к шкафу и накидала в наволочку теплых трусов, лифчиков, рубах, сахару и вкусных черных булочек.
В полдень выехали обратно. Луза бурчал: «На горе, на горе, на шовковой траве…» и был зол, а Михаил Семенович приткнулся в угол машины и засопел, как турист после славного перехода.
Его тугие усы расплетены ветром, борода, которую он отпустил исключительно из лени, сбилась набок и щекочет его за ушами. Он морщится, но глаз не открывает, не шевелится, спит настойчиво. Его волнует сейчас, повидимому, какой-то оживленный сон с разговорами; веки глаз чуть-чуть вздрагивают, поднимаются брови, губы готовы притти в движение. «Опять кого-нибудь ругает», – думает, глядя на него с восхищением, Луза.
В пути заезжали еще на рыбный промысел, а затем выбрались на шоссе к Раздольному, и опять пошла длинная пустая ночь в горах.
Утром шофер сказал:
– Командир дивизии едет навстречу. По машине узнаю. Остановиться?
– Ну, что-то стряслось, – говорит Михаил Семенович. – Остановиться.
– Да как же это он узнал? – удивляется Луза. – Такую петлю крутим.
– Подумаешь, как узнал!.. Небось вдоль границы крутимся.
Винокуров на ходу выскакивает из своей машины и быстрым шагом подходит к Михаилу Семеновичу. Тот, суетясь, вылезает на шоссе, и они торжественно здороваются, козыряя друг другу.
– Ваш вагон будет к вечеру в тридцати километрах от меня, – говорит потом Винокуров.
– Хорошо, садитесь с нами.
– Есть. Слушаюсь, – кратко отвечает Винокуров, молча пожимая руку Лузы.
Дивизия стоит за поворотом шоссе, окаймленного кирпичным бордюром. Арки, убранные красными полотнищами, плакаты, портреты ударников, клумбы, стрельбищные поляны, коновязи, оркестры, обозы.
– Разрешите ехать на стрельбище? – спрашивает Винокуров, прикладывая руку к козырьку.
– Пожалуйста.
После осмотра стрельбища:
– Разрешите представить последнее пополнение?
– Пожалуйста.
Люди пришли восемь дней назад из тайги. Комдив называет бойцов по фамилиям, специальностям, качествам.
После представления пополнения:
– Разрешите показать клуб?
Луза берет Винокурова за рукав.
– Борис Иваныч, а когда кормить будешь?
– Товарищ председатель колхоза, завтрак командного состава дивизии вместе с гостями в двенадцать ноль ноль.
Они идут в Дом Красной Армии; благообразный швейцар строго оглядывает сапоги.
– Пыльные сапоги – прошу налево, – говорит он бесстрастным голосом.
И они чистят сапоги, прежде чем войти в комнаты, расписанные художниками дивизии, обставленные столярами дивизии и убранные женами командиров дивизии. Из клуба в конюшню, из конюшни в гараж, на скотный двор, в склады, в школу, в штаб.
– Разрешите просить вас на завтрак вместе с командным составом дивизии, – говорит наконец Винокуров.
Михаил Семенович, утомленный всем виденным, механически говорит:
– Просим, просим.
И они входят в квартиру комдива. Винокуров кричит уставшим, но веселым голосом:
– Надя, Михаил Семенович приехал, встречай! – и, оборотясь к гостям, мешая им скинуть шинели в тесной и темной прихожей: – Ну, как, а? Михаил Семенович, как? Луза, как? Имеете вещь, а? Видели людей? Ну, какое впечатление?
Расправляя плечи, Михаил Семенович говорит, улыбаясь:
– Замучил ты нас, негодяй. Но такую дивизию нельзя не посмотреть. Ты как, Вася?
Луза хочет сказать что-то яркое.
– Это не дивизия, – говорит он со значением. – Это войско.
Комдив его понимает.
– Верно? Ну, спасибо! Садись, Вася, садись, дорогой! Все садитесь и пейте, ешьте.
Михаил Семенович здоровается с командирами и небрежно садится за стол, будто он сыт и только что встал с постели.
– Ты, Борис, молодец, – говорит, – самый культурный у нас командир дивизии. На тебя глядя, и остальные подтягиваются.
– А сколько я здесь? – кричит Винокуров. – Году нет. Обживемся – не то будет.
Он собирается еще что-то показать после обеда, но даже Михаил Семенович не выдерживает и машет рукой:
– Нет, нет, ну тебя к дьяволу, замотаешь! Вызови-ка мне, Борис, Черняева.
Через несколько минут слышен его голос у трубки:
– Пробка? Надо послать, я тебе скажу кого. Надо послать Шотмана, вот кого, он инженер… В тайге? Янкова тогда. Шлегель что? Уже выехал?.. К Зарецкому? Вот шалава! Пускай тогда Полухрустов едет на пробку, а я поеду на север, так и скажи. Я на север, а он на пробку. Ладно. Давай!
Лузе хочется спать невероятно. Михаил Семенович глядит на часы и начинает прощаться.
– Вася, по коням!
Холмы пологи и низки, картина полей напоминает центральную Россию.
– Люблю Бориса Винокурова, – говорит Михаил Семенович, поудобнее усаживаясь в машине. – Будущий командарм. На людях как держится, видел? Насквозь культурный командир. Молодец!
Луза не отвечает, он спит, сморщась и втянув голову в плечи; ноги у него замлели, голова гудит, но он не может ни открыть глаз, ни пошевелить туловищем.
Кажется, они никогда не приедут, так долог, так утомителен этот последний путь перед отдыхом.
Но вот показывается полутемная станция и поезд, рычащий на первом пути.
В салоне бледный Черняев играет лениво на мандолине. Не то он учится, не то сочиняет мелодию. Михаил Семенович кричит ему из коридора:
– Дай сюда мандолину! Разве так играют!
Он расстегивает шинель, садится на диван и ловко отхватывает какую-то песню или танец, глядя на Лузу полуживыми от усталости глазами.
– Вот как надо играть, – говорит он подмигивая. Потом, становясь серьезным, отдает распоряжение на утро:
– Самолет.
– Сделано, Михаил Семенович.
– Там погода какая?
– Говорят, ничего.
– Теплое надо Лузе что-нибудь. Не в гости едем. Сквозь дрему Луза слышит этот разговор и спрашивает:
– Куда еще это?
– Да ерунда! Километров с тысячу сделаем, и все. На самолете, не пешком. Спи.
А утром проснуться нет никаких сил.
Летчик Френкель, одетый в теплое, уже полчаса сидит в салоне, лицо его в поту.
– Тепло тут у вас, – говорит он Черняеву. – Прямо Сочи.
Михаил Семенович кричит из купе:
– А-а, воздушный адмирал! Здорово! Как погода?
– Что нам погода? Авиация – самый быстрый способ передвижения, стало быть нечего торопиться. Будет плохо – сядем отдохнем.
Луза просыпается по-настоящему только в кабине самолета.
– Губернатором, наверно, легче быть!.. – кричит он на ухо Михаилу Семеновичу, медленно записывающему в книжечку имена людей, которых он заприметил сейчас на местах.
– Не знаю. Не приходилось. Губернатором и ты был бы неплохим – усы подходящие, – отвечает Михаил Семенович, продолжая писать. – Стекольный завод перебросить в город. Взять на прицел Демидова, с заводом справится и Варвара. У Винокурова – десять человек трактористов…
– Куда теперь рубанем? – кричит в ухо Луза.
– Отдохни у Зуева, потом нагонишь меня в тайге.
Пока они летят на север, радио находит Янкова, Плужникова, Охотникова, шотманских свободных ребят и бросает их всех на прорыв дороги.
Михаил Семенович летит и думает об этом прорыве.
Пока не будет новой дороги, пароходы из Балтики и Черного моря повезут вокруг света спички, колбасу, цемент, крупу и трикотаж.
Пока не будет новой дороги, край останется захолустьем. Пока не будет новой дороги, жизнь будет итти медленнее, чем нужно.
– Дозарезу нужна дорога, – шепчет он. – На такой край шесть, семь магистралей – и то немного.
– Что? – спрашивает Луза сквозь грохот мотора.
– Ничего, спи, – отвечает Михаил Семенович. – Вытянем, ни черта с нами не случится!
Дом Зуева, названный в шутку «Домом ученых», потому что в нем останавливался, когда бывал в городе, Шотман, – полон людьми, едущими на север или возвращающимися на юг.
С севера торопились на юг отпускники и областные уполномоченные, на север с юга спешили охотники, приисковые хозяйственники, инженеры, врачи и радисты. Никогда север не знал такой упоенности делом и не видывал темпов, которые задал пятилетний план. Как тесто на дрожжах, поднималась жизнь, и тесно ей становилось в старых рамках. Они трещали, ломались.
Новое пробивалось без спроса, без предупреждений.
Осень нагрянула ранняя, взбалмошная и все перепутала – пароходы вышли из графика, конный путь исчез до снега. Лектор по культуре, с радиопередатчиком в чемодане, двенадцатые сутки ожидал лошадей на прииски. Лектора более всего беспокоила мысль, что он выехал без теплых вещей, и он расспрашивал едущих с севера, можно ли и где купить шубу или доху.
– Да ведь сентябрь на дворе, чудак ты, – говорил ему Луза.
– Не смотри, что сентябрь, соображай, что тайга, – озабоченно отвечал лектор. – Весь климат отсюда начинается. У вас, в уссурийских местах, все разграничено – весна так весна, лето так лето, а у нас хаос явлений, пойми.
– А я времена года расписал по маршруту, – говорил пушной агент. – Иначе, поверьте, хоть с катушек долой… Шуба и валенки у меня на Алдане, летнее на Селендже, выходное во Владивостоке, осеннее здесь. Я так и верчусь по графику, чтобы не выходить из распорядка погоды.
Наконец прислали верховых лошадей за лектором; выехал, надев осенний костюм, пушной агент; случайный пароход забрал отпускников, и Луза пошел договариваться с летчиком Севастьяновым, который собирался в тайгу с почтой.
Пришлось, однако, раньше говорить по радио со стройкой ноль-ноль-один, и Севастьянов несколько раз просил какого-то Жорку обязательно что-то выяснить и позвонить ему.
– Сегодня нам Жорка все скажет, – обнадежил летчик. – Может, он даже Михаила Семеновича найдет… чорт его знает, он все может.
Ночью, когда Луза спал, зуевская племянница Олимпиада дважды просыпалась от озорного стука в окно. Курьер с почты кричал ей: «Вас Жорка зовет, быстро». Дважды она выскакивала за ворота, накинув шаль на длинную кружевную сорочку, и никого не заставала на завалинке. Рассвирепев, спустила с цепи псов и завалилась спать, не откликаясь ни на какие стуки. Утром же выяснилось, что вызывал Лузу радист Жорка из «ноль ноль один» – сообщить, что разрешение лететь с Севастьяновым для него получено.
Утром этот Жорка опять вызвал Лузу и попросил от имени семерых трудящихся захватить с собой банки четыре варенья из универмага, купить детских книг и два метра голубой резины для женских подвязок.
– Давайте я вам все это куплю, – миролюбиво сказала за обедом Олимпиада. – Я всей тайге покупаю. На прошлой неделе костюм мерила за директоршу двадцатого прииска – очень к лицу.
Олимпиада действительно все и всем покупала, сама другой раз не зная, кому делает одолжение; и лишь глубокой осенью, когда таежники сходились в городе, узнавала она своих подшефных по курткам, платьям, чемоданам или галстукам.
Поутру Луза вылетел с Севастьяновым. Под самолетом куском оторванного неба повисло море, потом оно скрылось, и потянулась тайга, просвечивающаяся реками, полубритыми сопками, налитыми желтой и голубой водой, редкими и низкими жилищами. Вдруг открывались селенья и вновь пропадали. К ним не вела ни одна тропа.
– Как называется? – кричал Луза. – Вот это! Город? Как называется?
– Нумеруем, – безнадежно отвечал бортмеханик, – только, брат, и делаем, что нумеруем. Ум за разум заходит.
Возле нескольких домиков, огороженных проволокой, они сбросили парашют с почтой. Таежные птицы долго кружились над местом его приземления.
– Ведь как привыкли к науке и технике, – прокричал Лузе бортмеханик, – заметят парашют и сейчас: крр, крр, – слетаются, сволочи. Давеча бычью тушу спустили, так, я тебе скажу, тысяч десять этих гавриков налетело, драку затеяли; ну, думаю, унесут нашего быка вместе с парашютом… А вот на почту не лезут, – разбираются, значит, сукины дети!
На аэродром ноль ноль один сели к вечеру. Светло-зеленая лесная поляна, ровная, как озеро, окружена была высоким стройным лесом. В его глубине светились маленькие огоньки, там было уже темно.
По краям поляны, в тени деревьев, стояли как бы широкие кусты, укутанные брезентом, за ними, еще глубже в лесу, светились палатки. Сырой запах леса мешался с бензиновой гарью. Звучала песня. И было очень странно и весело в этом ни на что не похожем миру.
– Михаил Семенович сообщает, что вам нет смысла догонять его, – сказал Лузе высокий худой человек в комбинезоне – как все тут, – когда Луза и Севастьянов вошли в ближайший бревенчатый дом. – Садитесь, – отдохните. Сейчас поужинаем.
Лузе стало неловко.
– Значит, обратно лететь? – спросил он, почесывая голову.
– Да, утром. Вы хорошо себя чувствуете? Тогда, стало быть, утром.
Ужинали сначала вчетвером: Севастьянов с бортмехаником, Луза и высокий. Но вскоре Севастьянов ушел, забрав варенье и подвязки, бортмеханик тотчас завалился спать, а высокий, сидя у стола, внимательно читал толстую книгу.
И Луза тотчас бы лег спать, если бы не эта книга. Что-то было обидное в чтении.
Он курил, сопел, харкал, выходил за дверь, – ночь была полна утомительной тишины, – и наконец промолвил в пространство:
– Хорошее у вас место.
– Да, – ответил высокий, вежливо отрываясь от книги. – Что-что, а место хорошее.
– Вполне подходящее, – сказал Луза подмигивая.
– Вполне, – улыбнулся высокий, берясь за книгу.
– Скучновато маленько, я думаю?
– Не очень, – с каким-то значением в голосе ответил высокий. – Вы и ночью курите? – спросил он, не давая Лузе заговорить.
– Тоже ночь! – небрежно заметил Луза. – В колхозе теперь, знаете, как? Когда погода – так все тебе день и день, а пошел дождь – так вот тебе и ночь с самого утра.
– Вот как! – недоверчиво отозвался высокий из-за книги, и Луза понял, что следует подчиниться и лечь спать.
Утром Севастьянов передал Лузе привет и деньги за варенье от Жорки.
– Ты, отец, нигде такую фигуру, Женю Тарасенкову, не встречал? – спросил Севастьянов Лузу. – Ну, так нету у нас больше Жени Тарасенковой, – печально и торжественно произнес он, и бортмеханик ударил себя по щеке ладонью:
– Заарканили девчонку?
Луза ничего не понял, о какой Жене идет разговор, но и не стал добиваться.
Опять шли над вчерашней тайгой, но теперь она казалась Лузе иной, полной значения. Он ловил таинственные дымки, еле заметные тропы, лодчонки на маленьких реках, штабеля дров на безлюдных поляках, вороха цементных бочек и груды ящиков на гребнях сопок – следы могучего строительного шторма, разбросавшего добро по всей советской земле.
Когда сели в Николаевске-на-Амуре, Севастьянов, прищурясь, сказал:
– Ты в наших делах новый человек – никого не видал, ничего не слыхал, понял? Так вот, если про Женю Тарасенкову узнаешь, любому скажи: передайте Жорке, она там-то. Если б не Жорка, все мы перепутались бы в тайге. Всеобщий друг он.
У Зуева опять толпился народ, как в бане. Жильцы разместились в сараях, в заднем флигеле и в палатках на огороде. Народ прибывал ежечасно. Осень гнала людей из тайги толпами. Не успел Луза рассказать о своей неудачной поездке, как ввалилась георазведка Барсова – столичные ребята, мечтавшие о кафедрах, строгие, в роговых очках. Они собирались немедленно ставить спектакль, чтобы перезнакомиться с девушками, и гурьбой торчали у ворот, распространяя зловоние пропотевшей робы и шик прирожденных ленинградцев. Они напевали из Блока:
Я помню нежность ваших плеч,
Они застенчивы и чутки…
и вслух говорили о мимо проходящих женщинах мелкие слова, полные значения. К обеду, с песнями, как новобранцы, пришли рыбоведы Вержбицкого и заняли баню, несмотря на протесты зуевской племянницы Олимпиады. Прошел слух, что Шотман выводит из тайги три золоторазведывательных отряда и с часу на час сам будет здесь, чтобы руководить их размещением на зимовку.
Зуев велел вынести во двор стол с самоваром, лавки, табуреты и свое любимое вертящееся кресло на одной ножке, отбитое еще в гражданских боях на юге и доставленное домой с гордостью и отвагой.
Они сидели с Лузой у самовара и всех расспрашивали о новостях, будто скупали их по дешевке перед большим базаром.
– Неужто подняли север? – приговаривал Зуев. – Или баламутят, вид только показывают?
– Ты про что?
– Да про север наш, про моря наши, про тайгу.
– Подняли, – отвечает Луза уверенно. – У нас, на переднем плане, и то потише вашего.
– Не единым штыком жива страна, – отвечал Зуев. – Вы только народу нам не жалейте, мы золотом закидаем, рыбой завалим, лесом загородим границу.
Олимпиада, накинув белую шаль на платье, от которого она отрезала рукава, ворот и добрую половину подола, вертелась у их стола, встречая знакомых.
– Ах, вот из отряда Стеклицкого, – томно вскрикивала она, когда входил седой от пыли инженер-нефтяник. – Ну, брюки впору? Садитесь к столу.
– Какие брюки? – лепетал тот, но, вспомнив, что действительно поручал кому-то купить штаны и получил покупку с запиской: «Носите себе на здоровье», – благодарно тряс ее руку с азартом стариннейшего знакомого.
– Ваш неоплатный должник. Буду в Москве, бидон духов вам куплю.
– Знаю я мужские посулы, – горько, со значением, произнесла Олимпиада, щуря на гостя озабоченно шальные глаза. – С мужчины попробуй чего получить…
Молодежь подходила к столу, наливала чай, сообщала о новостях.
– Чего понаходили? – кричал Зуев, легко поворачиваясь во все стороны на своем одноногом кресле. – Нефть есть, уголь есть?
– Все нашли, – говорил Барсов, – всего доотказу. Одного важнейшего элемента нету – человека! Дайте мне пятьдесят тысяч душ – всех возьму.
– Пятьдесят тысяч… – качал головой Зуев, поглядывая на Лузу. – Где их возьмешь?
Старик Зуев все принимал близко к сердцу и страдал вместе с молодежью, если что-нибудь не удавалось.
– Э, да тут надо хитро подходить, – говорил он, чмокая языком и придумывая решительный метод. – В первую очередь нужны, значит, тебе бабы. Баба на землю сядет, десятерых мужиков за собой поведет. Верно? Семьи надо укоренять, понял?..
К ночи налетел с севера холодный ветер.
– Прощай, тайга, до весны! – кричала во дворе молодежь. – Прощай до весны, море!
– Спектакль, последний таежный спектакль! – неслось из сада, и девушки толпой валили в сарай, где уже прибивали занавес из простыней и при свечах играли на гитарах.
Молодая бравая скрипачка из бригады Мосфина, в пестром джемпере и пушистой шапочке, настраивает скрипку, одним глазом поглядывая на усатого нефтяника, достающего из ее чемодана, из-под вороха трусов, баночек, чулок, истрепанные нотные тетради.
А старик Зуев и Луза все сидят за столом, все пьют чай, все расспрашивают молодежь о новостях тайги и моря; и им весело и немножко беспокойно, как в молодости.
Только они стали подниматься из-за стола, звякнула калитка, и маленькими шажками, подпрыгивая, вбежал Шотман.
За ним плелась измученная женщина с ребенком. Шотманская группа была самая знаменитая из всех. Его люди жили в тайге семьями, в тайге рожали детей и таскали их с собой с места на место, как цыгане.
– Скоро вынужден буду школу семилетку открыть при отряде, – еще в середине лета смеялся Шотман, – потом рабфак, потом вуз, а потом стану передавать должности по наследству, от отца к сыну. У меня кадры растут без отрыва от производства и семьи.
Года три тому назад на Колыме укрепилось за ним прозвище «Что такое».
– «Что такое» приехал?
– Приехал.
Люди, бывшие с Шотманом в таежных походах, рассказывали, что разговорами он может «замотать в доску» и матерого медведя.
Расспрашивать – действительно любимое занятие Шотмана. Для него нет скучных дел и скучных людей. Отвязаться от него можно, лишь вывернув себя наизнанку. Другого выхода нет.
Вот он идет вприпрыжку, невысокий, худощавый, с черно-седыми, вьющимися на висках волосами и черной бородкой, напоминающей птичий хвостик. Он похож на музыканта или скорее всего на дирижера, потому что руки его всегда распростерты, он ими подбодряет или успокаивает рассказчика, а говоря сам – что-то, в дополнение слов, изображает. Если бы у него не было рук, он потерял бы половину своего красноречия.
– Слушай, Соломон, ты мне этак усы выдернешь, – говорил ему в таких случаях Михаил Семенович. – И что это ты вертишь своими руками? Что тебе, некуда их девать? Положи их в карманы, пожалуйста.
Но в карманы нельзя сунуть рук. Карманы полны еще с прошлого года. Там ключи, лупа, отвертки, нитки и множество кусочков руд и минералов – «для памяти».
– Что такое? В чем дело? – обыкновенно отвечал Михаилу Семеновичу Шотман. – Я показываю тебе, чтобы ты понял, а не просто верчу руками.
– Ну, крути-верти, рассказывай! – и Михаил Семенович с нарочитым испугом прикрывал рукой усы.
– Зуев! – закричал Шотман, вбегая во двор. – Принимай героиню. Комнату ей и тишину. Она родит двойню. Решено. Не о чем разговаривать. Кто у тебя в бане? Занята? Выбросить штыковой атакой. За мной!
За ним понеслись пятеро полуголых красноармейцев. Это были знаменитые экскурсанты. Они прошли пешком три тысячи километров, утопили в таежной реке все свои вещи и были найдены Шотманом накануне смерти в одних трусах.
Из бани донесся дикий вопль и грянуло «ура».
– Ну, значит – осень, – сказала Олимпиада. – Раз Соломон Оскарович вышел из тайги, значит всему конец. Значит, и гостей больше нечего ждать.
Рыбоведы Звягина и геологи Барсова капитулировали перед Шотманом, шел спор о почетных условиях сдачи. Побежденные требовали за героическую защиту оставить им предбанник и получили его вместе с толпой одиночек нефтяников и растениеведов.
– Уплотниться до крайности, – распорядился Шотман, но в его приказе не было никакой нужды.
– Из Кэрби? – спрашивал один другого.
– Из Чумигана. На юг.
– На юг?
– Ложимся вместе.
– У кого проблема кормов? Прошу к моей свечке.
– Ленинградцы – сюда! Газеты двухнедельного засола.
Вдруг в шум этих криков ворвался пронзительный свист. Человек встал на ящик, подняв вверх руку.
– Не видал ли кто из вас Женю Тарасенкову? – громко спросил он.
– Женю Тарасенкову? Как же! Еще бы! – раздались голоса.
– Так нету у нас Жени Тарасенковой, – печально провозгласил человек. – Все выяснено. На прошлой декаде приземлился у их села летчик Френкель, осоавиахимовец. Через день, как он вылетел, исчезла и Женя. – Человек на ящике погрозил рукой в воздух. – Плохо тебе будет, Френкель! – мрачно сказал он. – Кто увидит этого Френкеля, так и скажите ему: плохо тебе будет, Френкель!