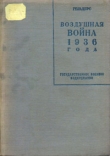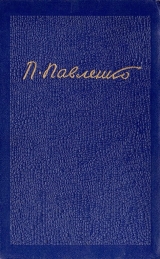
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
Десять самолетов шли из Москвы на Восток.
1
Немного в мире берегов, похожих на дальневосточные. Чертой неисчислимых бухт и заливов Советский Союз граничит с Японским морем. Оно не похоже на описания, сделанные поэтами, потому что туманно, дождливо и ветрено.
Красота его просто невидима, только воображаема.
Так пейзажи старинной японской кисти открывают ним очаровательные дожди и туманы, занимающие семь восьмых полотна, и только где-нибудь в уголке картины отлично написанные человечки и кривые сосны одни убеждают нас, как прекрасна и удивительна вся природа, не закрывай ее от наших глаз туман.
Дождь, без которого немыслимо японское бытие, все породил здесь, вплоть до искусства. Живопись разучилась далеко видеть, а если иной раз и взглянет, то так условно, будто взглянула, полузакрыв глаза.
Художники лишь догадываются о целом. Проклятый туман приучил их не верить в реальность.
Все в Японии рассчитано на дождь и туман.
Японские лаки, спасающие дерево от гниения, рассчитаны на дождливую погоду. Они напоминают лавровый лист, блестящий под дождем… Они придуманы для того, чтобы вода быстрее стекала со стен, чтобы храмы из лакированного красного дерева выглядели в дождь великолепнее, чем при солнце. Лак придуман для украшения дождливых пейзажей. Он – единственное сухое пятно среди мокрого, тусклого, отсыревшего мира.
На дождь рассчитана и старинная обувь Японии – гэта, деревянные сандалии на высоких подставках, и зонтики, и деревенские плащи из соломы, и дома, и привычки.
Японское море бурно, но бухты вырыло оно в наших берегах извилистые и покойные. Заливы напоминают озера. Парус не исчезает с моря до глубокой осени. Запах гниющей рыбы все лето стоит на берегах, возле рыбалок и стойбищ, пока не сменяется запахом прелых водорослей, неизгонимым даже декабрьскими ветрами.
Море трудолюбиво и плодовито. С азиатским упорством долбит оно новые бухты, кормит полчища рыб и разводит на дне тысячеверстные луга водорослей; и запах рыбы и водорослей, как рабочий пот моря, и зиму и лето стоит у оживленных берегов.
В июле Ольга пошла с экспедицией Звягина.
Темой работ было изучение видового состава флоры дальневосточных морей и составление водорослевых карт.
В начале июля во-всю – и ненадолго – развернулись сухие дни лета. Над жизнью встали две тени – золотисто-голубая и золотисто-синяя, тени неба и моря.
Сопровождаемые птицами, проходили на север ивасевые косяки; трепеща парусами, за ними летели рыбачьи флотилии. За рыбаками двигались экспедиции. Впрочем, они шли не только с юга на север, но спускались и с севера или пробирались с запада на восток, исследуя моря, горы, тайгу, рыб и редкие стойбища здешних народов.
Ольга оказалась в экипаже маленькой парусной «Чайки». Работа была романтична до глупости. Вставали до солнца, как птицы, и на заре занимались гимнастикой, распевая на все голоса.
Утренний костер никогда не хотел разгораться с первого раза, его не жгли, а топили керосином, и он, фыркнув, взрывался так, что кувырком разлетались все чайники и кастрюли.
С утра на шлюпках уходили в море и до темноты ковыряли дно, ловили и записывали течения, добывали водоросли, измеряли глубины. Подводные луга тянулись почти беспрерывно вдоль берегов. Зоостера, багрянка-анфельция, филлоспадикс, птилота, алария, дисмаресция, фукус, хордария, порфира и сотни других чудесных названий напоминали имена богов и героев древности.
Жизнь шла, как бы повторяя детство. Труд был игрой или, скорее всего, увлечением, ему отдавали себя целиком. В приступе делового энтузиазма пробовали даже варить щи из морской капусты, но есть их было почти немыслимо.
– Однакож прекрасная витаминозность, – разочарованно говорил Звягин, откладывая ложку, – но безусловно страшновато на вкус.
Дел было множество. Оказалось, что океанография – очень боевая наука и емкость ее почти безгранична. Ребята делали доклады на рыбалках о водорослях, о витаминах, о пище вообще и о быте, ревизовали столовки и втолковывали директорам промыслов законы течений и ветров. В одном месте открыли клуб, в другом помогли составить отчет, в третьем создали краеведческое бюро, в четвертом прибежал к ним председатель совета, бывший красноармеец, с просьбой сообщить Академии наук, что он нашел нефть. Он передал им письмо:
«Председателю Академии наук, копия райком.
В ответ на Ваш научный вопрос прилагаю литр найденной мной нефти. Словами объяснить, какая она из себя, не могу».
В бухте Терней Ольга вспомнила о Зарецких и забежала к ним в день прибытия.
У них сидел Шлегель, худой, небритый, сгорбленный, и рядом незнакомый, с маленьким орлиным лицом, старик.
Он все время улыбался и глядел насмешливо, ел осторожно и как бы нехотя, пряча под скатерть тонкие грязноватые руки. Летние красноармейские штаны его лоснились, как кожаные, но тужурка была аккуратна, хоть и явно узка.
– Строили мы и не такие вещи, гражданин Зарецкий, – говорил он, когда Ольга, входя в комнату и целуя Зарецкого, протянула руку и ему.
Он быстро и ловко вскочил, коротко взглянул на Шлегеля и, не называя своего имени, почтительно пожал ольгину руку, низко поклонившись.
– Не ждали меня увидеть? – спросил Шлегель. – Кажется, на некоторое время буду жив.
Зарецкий, усадив Ольгу за стол, запоздало отвечал худощавому:
– Мало что вы там строили… разное ведь валяли…
– Так точно. И всегда хорошо.
– Проверь вас! – засмеялся Зарецкий. – Вы не обижайтесь, я человек откровенный. Сами понимаете…
– Нет, гражданин Зарецкий, не понимаю…
Шлегель налил всем по рюмке водки, чокнулся. Старик прикусил губу и, поклонившись, выпил.
– Ну что ж, я вас оформлю у себя, – вяло и нехотя сказал Зарецкий, – посмотрим.
– А как ваше мнение на сей счет? – спросил Шлегель худощавого старика.
Тот встал и, аккуратно складывая салфетку, произнес, ни на кого не глядя:
– Я прошу меня оставить в прежнем состоянии рядового заключенного. Здесь работать я не хотел бы, меня некому здесь проверить. Можно итти?
– Пожалуйста, – сказал Шлегель.
Старик поклонился всем сразу и, не подавая никому руки, вышел, осторожно ступая на носки больших, не по ноге, сапог.
– Кто это? – спросила Ольга.
– А-а, интересный тип. Десять лет по процессу промпартии. Ахтырский. Святой человек среди инженеров-транспортников.
– Исправляется?
– Может.
– Но сволочь, – заметил Зарецкий, поглядев на Шлегеля многозначительно.
– Зато работник. У тебя такие же сукины дети, да только лентяй на лентяе.
– Условия, условия! – громко произнес Зарецкий. – Мне создали такие условия, дорогой мой, что работать хорошо невозможно. Сам удивляюсь, как в этих условиях у меня не все еще разбежались…..
– Выгодно, потому и не разбежались, – прервал его Шлегель. – Ты думаешь, раз беспорядок, так он всем должен не нравиться? У тебя сидят любители беспорядка.
– Это у вас профессиональная подозрительность, – заметила Ольга.
– Ерунда! Нет бóльших оптимистов, чем мы, чекисты. Мы все, Оля, очень веселый народ. Иначе не выживешь, поверьте мне. Только величайший оптимизм держит нас на ногах.
После обеда жена Зарецкого мигнула Ольге и увела ее в свою спальню.
– Ты Шлегеля хорошо знаешь, Оля? – сказала она. – Поговори с ним, душка, что он от моего старика хочет.
– Он здесь по делу?
– Да ведь чекист же. Они и спят, как допрос чинят. Кто их поймет. Пристал к Степану – ты да ты, да из-за тебя, мол, все нелады, и вообще, так сворачивает, что и ранили его из-за нас. Ты же знаешь – мы семь лет из тайги не вылезаем.
– Как же я могу поговорить? – сказала Ольга и испугалась мысли, что ей нужно лезть в большое и неизвестное дело. – Я, впрочем, скажу, спрошу, – добавила она, не глядя на Зарецкую. – Но почему его ранили из-за вас?
– По смыслу так выходит. У Степана, видишь ли, сколько-то там беспаспортных рабочих. Ну, вот и пристал как банный лист: кто, да откуда, да кто разрешил? А где их, паспортных, тут найдешь? Не Москва. Перекованные которые – и те в тайгу не желают… Вон Ахтырский – и тот нос задирает, не хочу, говорит…
За чаем Ольга еще раз спросила Шлегеля, как все-таки его рана и пойман ли стрелявший.
– Рана пустяк, а поймать – товарищи не дают, – сказал он сухо.
– Не возводи ты, Семен Аронович, напраслины, – добродушно посмеиваясь, ответил Зарецкий. – Тебе бы только голый закон блюсти, а ты вот иди поскреби землю – узнаешь беду. Изволь, я их уволить согласен, – сказал он волнуясь. – А прорыв на твой счет.
Шлегель молчал.
Потом он спросил:
– Тебе сколько лет, Степан?
– А что, стар, что ли?
– Да нет. Незаметно, что взрослый.
В этой обстановке Ольга не решалась ничего спросить и стала прощаться.
Шлегель пошел проводить ее до берега.
– Зарецкая, небось, уже поручила вам переговорить со мной? – спросил он ее по дороге.
– Догадываетесь, о чем она просила?
– Знаю. Глупости. Она думает, что он у нее хозяйственный гений. А он дурак. И ни хозяин, и ни чорт его знает. Просто веселый дурак. Типичный дурак.
– Он честный человек.
– То есть не крадет? Да, в этом честный. А что он всю жизнь только и делает, что мечтает, это как, по-вашему, называется? Он всю жизнь мечтает. Вот ерунда с горохом! Еще в гражданскую войну с ним возились, как с обиженным гением. Потом он мечтал, что он опытный, прямо необыкновенный строитель, а РКИ мешает смелому человеку. Его посадили в РКИ. Он стал мечтать, что он знаменитый разоблачитель воров и что каждый, проработавший год на хозяйстве, – сукин сын и подлец. Его послали на хозяйство, – так тут у него прорывы, потому что ГПУ не понимает великой его души.
Они шли, взяв друг друга за руку, по узкой тропе у самого моря. Был ранний вечер, беспокойно пахнущий морским пространством. Перед глазами вставало большое небо, стлалось большое море, линия могучих лесов вычерчивалась слева.
– Ах, мне это понятно, – сказала Ольга. – Так хочется делать только самые великие дела.
– У великих дел, я думаю, нет специальности, – ответил Шлегель. – Да и вообще говоря, я знаю на свете только одну хорошую специальность. Вот ваш покойный отец владел ею в совершенстве.
– Что это?
– Он был удивительным революционным практиком, чем бы ни занимался. Он везде искал новое, вцеплялся в него, и, я думаю, во всех науках его интересовало только одно – как победить белых с наименьшей затратой сил. Варвара Ильинична имела другую специальность – она заставляла верить в себя. Ей верили, чем бы она ни занималась. Что такое великое дело? Это великий характер, проявившийся в кооперации, физике, рыбоведении, войне или искусстве. Можно быть великим дворником и можно быть бездарным профессором, а?
– Но люди должны мечтать, Шлегель. Люди, не создавшие ничего великого, больше других имеют право на мечту о великом.
– На севере, Ольга, вы увидите Шотмана. Вы знаете его? Седенький квелый старик. Старикашка, как его называют тут. Вот – мечтатель! Если он увлекается музыкой – знайте, что он уже где-то воспитывает музыканта. Когда он увлекается архитектурой – так значит запустил руку в чью-то душу и строит там. И посмотрите, сколько вокруг него толчется людей!.. Я сам писал стихи, – сказал Шлегель, кашляя от смущения. – Я хотел быть знаменитым поэтом, но однажды увидел молодого болвана, сюсюкающего о любви… У него были подлые поросячьи глаза, противные, грязные руки, и он явно хотел получать большие гонорары за свои безграмотные стихи. Ему снились лаковые туфли и шницель, а не лавровые венки. И тогда я подумал: я поэт? Я стану писать стихи о любви? О будущем? Я?.. Мне стало страшно. Какую душу надо иметь, чтобы рискнуть на этот подвиг! С тех пор я – чекист. Не то, что здесь нужна душа поменьше, но совсем другая душа, потверже, посуше. Когда я высовываю голову из своего кабинета, в котором самый старый заключенный – это я сам, когда я поднимаю глаза от преступников, подлецов, идиотов, я хочу видеть, что кто-то мечтал за меня, кто-то возвел города, написал хорошие книги и поставил замечательные спектакли, нашел новую дорогу в науке, – и мне становится легко. Вздохну разок-другой о своих стихах и опять погружаюсь в дела. Чтобы я хорошо работал, всегда должно быть что-нибудь радостное за моим окном…
Он плюнул, отдышался и добавил:
– Но я не умею два дня пить чай и болтать, что я был бы великим полководцем, гениальным поэтом или музыкантом, если бы кончил в свое время городское училище. А у Зарецкого не в порядке паспорта рабочих, завхоз – вор, в бараках грязно, у него самого всегда слюнявые губы, потому что он не умеет курить трубку. Нам здесь трудновато работать, Оля, мы на отлете, на виду у врагов, вдали от своих центров, народу мало, да и народ еще не понял, в чем стиль жизни. Каждый считает себя умней дела, а это – чепуха. Социалистическое хозяйство – это прежде всего дисциплина, а не единоличный размах, Зарецкий же никак этого не поймет. Он хочет добывать золото, а ему велят строить дороги, так он уже взбешен.
Шлегель говорил задыхаясь и, говоря, замедлял шаг. Он был еще болен.
Ни той щеголеватости костюма, ни той подобранности фигуры, что поразила Ольгу в вагоне, в ночь первой встречи со Шлегелем.
Если у чекиста не чищены сапоги, значит он болен.
Если у него не все пуговицы на гимнастерке, значит с ним что-то случилось.
Небритый, небрежно одетый, весь он стал каким-то грузным, малоподвижным. Похудевшее лицо кажется шероховатым, словно напудренным.
– Вам бы лежать и лежать. Закрыть глаза и лежать, ни о чем не думая.
– Нашему брату, Оля, это не с руки. Покой чекиста портит. Вот лежал я, на семь кило пополнел – на семь лет постарел. Нет, нет, – сказал он смеясь, – не моя, знаешь, специальность отдыхать, не умею этого… А сил сколько уходит на отдых! Ну его к дьяволу!
Но Шлегель был плох, как ни старался бодриться.
– Вам сейчас лет сорок пять можно дать, – сказала Ольга.
– Да, да, перележал. Я себя знаю, – опять повторил Шлегель и перевел разговор на другую тему.
Шлегель еще долго не отпускал Ольгу, долго водил ее по тихому большому берегу, расспрашивая об экспедиции и ребятах.
– Я бы сам поднялся на север, но не могу. Если что, пишите мне, – сказал он, прощаясь. – А я отвечу. Я здорово пишу письма, честное слово. Плохие поэты всегда пишут хорошие письма.
У Звягина подобрались отличные ребята, и они так сроднились между собой, что образовали семью. Об окончании плавания думали, как о несчастье.
25 сентября Звягин был в лимане Амура первым из всех.
Ольга устроила всю группу в старой бане Зуева.
В Николаевске-на-Амуре все было тихо, город еще не вернулся из тайги и моря. Недели через две ждали человек двести с приисков и разведок, и предполагалось, что состоится не менее сотни свадеб. Николаевские девчата нервничали на вечерних уличных гуляниях, ожидали первой осени и вместе с ней женихов из тайги.
В то самое время, как Ольга шла с экспедицией к северу, Луза получил телеграмму от Михаила Семеновича, приглашающую приехать к нему и, несмотря на то, что дел на границе было по горло, выехал в Никольск-Уссурийский. Михаил Семенович приглашал с собой в поездку по краю в связи с предстоящим съездом партизан.
– Народ тебе надо будет подобрать – для приграничной полосы. И вообще проветриться…
Ехали в салон-вагоне втроем, не считая проводника, – Михаил Семенович, порученец Черняев и Луза; но это было только в идее, а на самом деле в вагоне толпилось по меньшей мере двадцать или тридцать человек. Они влезали на маленьких станциях и, от остановки до остановки, докладывали о хлебе, о сое, о кадрах, потом, не успев попрощаться, вылезали, и вместо них появлялись другие.
Во Владивостоке стояло солнечное и ветреное утро. Вагон поставили в тупик, почти у берега залива. Из вагона были видны корпуса пароходов, слышно пение грузчиков и удары волны в гранит эстакады. Было еще рано. Город спал. Связисты сунули в угол вагона два телефонных аппарата и включили вагон в мир. Черняев, в голубом бумажном трико, зловещим шопотом закричал в трубку:
– Алло, город, алло!
Наскоро выпив чаю, Михаил Семенович и Луза пешком пошли в город, смотрели, как дворники метут улицы, как открываются магазины, заходили на почту, в больницу, на Миллионовку, где в улочках-щелях копошились воры и контрабандисты, а кондитеры пекли и варили какую-то сладкую ерунду, пахнущую чесноком.
Потом они сели за общий стол в дешевой столовой и вместе с портовыми рабочими съели какой-то острый соус, сладковато-кислый и душисто-вонючий, запив его теплым, почти горячим, пивом.
Потом вошли они в только что открытый магазин готового платья и долго приценивались к вещам, а в десять часов утра вернулись в вагон заседать.
Не успел Луза выпить у проводника бутылку нарзана, чтобы рассеять вкус соуса, как из салона он услышал голос Михаила Семеновича, заработавший на низких нотах. Он почти кричал:
– Пальто стоит триста – с ума сойти! Кому продаете? Город грязный, запущенный. Дворники с утра пьяны. Улицы нужно иногда поливать водой, слыхали об этом? Или вам создать институт по уборке улиц?
Луза сидел в купе рядом с салоном. Доклады о рыбе, золоте, детях и банно-прачечном деле ходили в его голове, как дым. Порученец Черняев шопотом кричал в телефонную трубку, чтобы соединили с краем. Проводник стоял в тамбуре, строгий и бледный: он был так близко к государственному делу, что, ему казалось, должен был принимать посильное участие, – торжественно впускал посетителей и делал им знак пройти или подождать, не говоря ни слова.
– Насчет обеда ничего неизвестно? – спросил его Луза.
– Видите, принимает, – ответил проводник. – До вечера не управимся.
Луза вернулся к себе в купе. Молодой профессор говорил в салоне Михаилу Семеновичу:
– Мне больше нечего делать. Техникум создан, кадры налицо. А у меня в портфеле начатый исторический труд…
– Давно в партии?
– Десять лет… Слушайте, Михаил Семенович, я сделал все, что мог. Как говорится, даже самая лучшая девушка не может дать больше того, что у нее есть.
– Чепуха, она может повторить.
– Не могу, Михаил Семенович, не могу. Надо подумать и о себе.
– У вас будет много времени. Я вот думаю, что вам трудно быть коммунистом всю жизнь. Еще год, еще два, потом конец.
– Михаил Семенович…
– Говорю прямо – вам осталось два-три года. Начните думать о себе сегодня же, только думайте о себе моей головой. Нечего обижаться, когда виноваты. Иному, брат, трудно быть коммунистом всю жизнь. Дернет на нервах – и через пять лет от него одни дырки. Вы, Фраткин, интеллигент, тонкая душа, думайте о себе строже. У нас и пролетарии заваливаются, возьмите хотя бы Зарецкого. Раз в жизни побил японцев и никак этого забыть не может, а с тех пор он нам двадцать дел испортил, собака. Это талант, Фраткин, – быть коммунистом, большой талант.
– Если так, пошлите меня в ЦК, пусть ЦК проверит.
– Идея, только не вас пошлем, а письмо.
– Я…
– Вы, Фраткин, человек без запаса, без внутренних фондов. Прямо говорю вам – через два года вас выгонят из партии по любой статье, к вам все грехи подойдут… Передержали мы вас на профессорстве, вот что. Руководя человеком, всегда надо помнить, на что он годен и сколько способен продержаться. Хватит! Через две недели поеду в край, поставлю там ваш вопрос…
Он встает из-за стола и грузно делает несколько шагов по салону.
– Хорошо бы пообедать, товарищ Черняев, – говорит он раздраженно и спрашивает Фраткина: – В «козла» играете? Садитесь… Вася! – зовет он Лузу. – Вылезай из купе. Спишь, сукин сын, как меланхолик.
Пока из вокзального буфета прибудет обед, они садятся играть в домино: Михаил Семенович с Черняевым, Луза с профессором.
– У кого «марат»?
«Маратом» называют костяшку 6:6.
«Марат» у Лузы. Луза заходчик.
– Вы, Черняев, вторая рука – не зевать, – командует Михаил Семенович, глядя себе в пятерню, вобравшую семь костей домино.
Порученец Черняев, давний компаньон Михаила Семеновича, играет, ни на кого не поднимая глаз. Он весь в благородном порыве подыграть своему партнеру и знает, что большего с него и не требуют. Первую ошибку делает профессор. Михаил Семенович зверски ударяет по столу ладонью с костяшкой.
– Шляпа вы, – замечает он тонким певучим голосом, – вы же своего подводите таким ходом. Ах, чорт нас, вы даже в игре шляпа! Берегись, Вася, профессора.
Затем отличается Луза. Он запер ходы, сам того не заметив.
– Что же ты лезешь играть, раз не умеешь? – Михаил Семенович бьет кулаком по столу. – Еще вызывается играть… Вот козел!
– Да я ж не вызывался…
– А ну вас, давайте обедать. Раз садишься играть – играй!
Три часа дня. Обед кончен.
– Машину, – говорит, зевая, Михаил Семенович.
Они едут поглядеть, как идут работы по береговой обороне, начатые в апреле.
Берег завален мотками проволоки, пустыми цементными бочками, осколками ящиков и грудами щебня. Бетонщики, землекопы и электрики в синих робах расхаживают между костров, походных горнов и бетономешалок. Громадные ящики с деталями будущего орудия стоят возле. Это будет одно орудие. Его еще нет, но будущее хозяйство этого скромного «хутора», как здесь любовно называют эти гигантские пушки, уже разместилось вокруг строительной площадки.
В клубе этого «хутора» (в клубе, собственно, орудия) поет хор, рядом монтируют рацию, и артиллерист, бойкое существо в синей робе и бескозырке, оглушительно насвистывая, любовно ходит вокруг двигателя электростанции, которая также составляет хозяйство этой пушки.
Потом идет штаб самой пушки, командная рубка, маленький госпиталь, склады, казармы, подвалы, огород и цветник.
– Война становится трудной специальностью, – с довольным видом говорит Михаил Семенович.
Затем Михаил Семенович и Луза едут на Дальзавод – осматривают жилые дома, в порт – осматривают китобойное судно, за город – осматривают водопровод.
Лузе приходит в голову, что Михаилу Семеновичу все равно, что осматривать, и что он, должно быть, к утру уже и не вспомнит, чем интересовался накануне вечером. Но это неверно.
Созидательный поток стихиен только по виду. На самом же деле он вроде периодической системы элементов, белые пятна в нем определены очень точно, а все известное занимает давно изученное место. Но жизнь всегда жизнь. К тому, что подсказано центром, на местах любят прибавить что-нибудь свое или по-своему изменить, не думая о целости общего замысла, и Михаил Семенович там подстегнет, а там приглушит, а главное – приглядится к людям. Не все они растут в одном темпе, не все одинаково понимают задачи дня, а для Дальнего Востока вторая пятилетка в сущности является первой.
– Хором еще не умеем петь, – говорит Михаил Семенович. – Обязательно кто-нибудь отскочит в сторону и заголосит свое.
Вечер застает Михаила Семеновича и Лузу на холмистой дороге в глубине залива. По лесу пробирается туман. Лесорубными тропами его длинная белая струя легко спускается с холмов в глухие пади и растекается меж дерев.
Сырой солоноватый ветер липнет к лицу. Они возвращаются в город затемно и, не заходя в вагон, бредут на пристань, где их уже поджидает у стенки готовый к отходу баркас.
– Можно отчаливать? – спрашивает капитан баркаса, веселый, вечно играющий в «козла» Боярышников.
– Пожалуйста, – отвечает Михаил Семенович и прибавляет рассеянно: – Как освободишься, залезай в кают-компанию, сыграем перед сном.
– Есть залезай, сыграем, – шутливо отвечает капитан.
Черняев сидя спит в крохотной кают-компании.
– Товарищ начальник штаба, проснись, покажи телеграммы, – ласково говорит ему Михаил Семенович.
Не открывая глаз, Черняев бормочет:
– Все в порядке. Ваши все посланы, а вам из края ничего нет.
– Я ж не в отпуску, – недовольно замечает Михаил Семенович. – Как это нет? Проспал, небось.
– Честное слово, ничего не было, – говорит Черняев, еще крепче закрывая глаза.
Он приготовился к морской болезни и сосредоточенно ждет ее первых спазм.
Михаил Семенович свободен, делать ему решительно нечего, капитан задержался на мостике, и он пристает к Лузе. Долго и мелочно расспрашивает его о колхозе, о приграничном быте, а потом начинает рассказывать сам.
Это не речь, а сказка о цементе, которого ему всегда нехватает для края. Он любит выдумывать новые способы выработки цемента или мечтает найти «клейкие земли». В умной, лукавой голове его вечно жива народная тяга к скатерти-самобранке или к ковру-самолету.
– И вот, допустим, приходит ко мне человек и говорит: «Нашел я клейкие земли, ну, что-нибудь вроде нефти, или природной смолы, или там вроде торфа. Запас сто тысяч тонн». Я б ему, ни слова не говоря, отсчитал бы сию минуту сто тысяч целковых.
– Отсчитали бы?
– Сию же минуту.
Сейчас Михаил Семенович говорит почти сам с собой и не похож на ответственного руководителя, на старого боевика, на всеобщего учителя, каким он бывает на людях. Он просто человек с усталыми глазами и морщинистым лбом, у которого жизнь из цемента, и гречневых круп, и мануфактуры, и угля, – как бывают другие жизни из вечных страстей и стихов. Железо, хлеб или удобрения могут вызывать у него повышенную температуру, как заболевшие почки. Где-то в глубине мозга, подобно симфонии, которую держит в памяти дирижер, живет образ плана ближайших лет жизни. И, как дирижер, он руководит отдельными движениями вещности, прислушивается к углям и к лесосплаву, как к сердцебиению, и потом решает – напрягаться ли ему, или отдохнуть, попридержать что-то или форсировать… Черняев, зная характер Михаила Семеновича, всегда угадывает причины его веселья и мрачности. «Уж это наверняка уголь», – говорит он, замечая, что голос Михаила Семеновича становится все медленнее и громче, а интонации все зловещее. «Это рыба его рассмешила», – догадывается он в другой раз, потому что привык уже по теням и морщинам на лице понимать, рыбные они или угольные, кадровые или хлебные.
Ночь грохочет за стеной каюты. Михаил Семенович разложил на столе карту края и, блаженно щурясь, разглядывает ее. Но было бы неверно сказать о нем, что он всего лишь хозяйственник. Нет, и угли, и нефть, и золото, и дороги – это для него всего лишь внешние средства воздействия на человека. В сущности, у него гигантский университет. Нанайцы учатся сеять хлеб и доить коров, таежные охотники учатся добывать золото и строить города, старатели превращаются в добротных нефтяников или управляют драгами, домохозяйки идут к заводским станкам.
Запуская руку по самый локоть в гущу таежных сел, Михаил Семенович собирает оттуда пополнение и для флота и для промышленности. Находятся садоводы и научные работники, летчики и слесари, пропагандисты и счетоводы. И собственно для того, чтобы поближе увидеть их, нацелиться на них и вытащить их на свет, он и кружит по краю, не очень доверяя анкетам, а предпочитая всему свой острый и цепкий глаз.
Сидя сейчас над картой края, он, конечно, прежде всего думает о людях. Планы строительства даны Москвой. Москва требует золота и угля, платины и нефти, рыбы и леса. Людей, которые все это дадут, нужно найти и воспитать на месте. Они есть. Нужно найти. А найдя, воспитать.
И вот имена, лица, улыбки, меткие слова сотен людей проходят сквозь его память. Он запоминает самое незначительное – толковую реплику на партийном собрании, смелый поступок, письмо в газету о непорядках.
У него все на счету, но до времени лежит как бы в архиве. Сейчас он разбирает архив памяти. Ему ничто не мешает. Он раскладывает наблюдение к наблюдению, догадку к догадке, отзыв к отзыву.
– Мы тут, Василий, замечательные рыбацкие колхозы организуем. Места ж какие! И поверь мне, вот тут, – он стучит карандашиком по озеру Хасан, – обязательно городишко возникнет, обязательно; вижу, как прорезывается, нужда в нем есть. А дорог пока нет, мрак, захолустье… включить надо будет на следующую пятилетку. Я, как в эти места попадаю, только о дороге и думаю…
Он рассматривает карту, как замысловатый ребус, которого ему еще не приходилось решать, хотя с картой не расстается ни днем, ни ночью.
– Гляжу на Амур… Бо-ольшие будут хлопоты с ним. Надо что-то предпринимать, входить с предложениями…
– Тебе, Михаил Семенович, уж и Амур помешал. Текет – ну и все. Что тебе?
– Текет-то он текет, – поддразнивая Лузу, замечает Михаил Семенович, – да пока пользы нам от него мало. Речной флотишко подводит – маловат, слабоват: а ты вообрази, какая у нас жизнь развернется вскорости, что тогда скажем?
– Свой флот будешь строить?
– А что ж, хорошо бы. Греха нет. Да боюсь, своими силами не справимся, а Москва сейчас не даст… Оживить бы нам Амур на манер Волги.
– Построятся города, сам оживет.
– Само, брат, ничего не делается. Да-да. Иди-ка лучше спать, я один помечтаю.
Луза того только и ждал.
Море же становится совершенно непроходимо. Буксир, кряхтя, влезает на волну и; виляя кормой, падает с нее вниз. Луза плашмя валится на диван.
– Что ж это капитан не идет, – бормочет, зевая, Михаил Семенович, на которого качка не действует. – Хорошо бы игрануть перед сном. Люблю я вот так отдохнуть, Вася. Хорошо промять кости на свежем воздухе. Вася! – зовет он, но Луза лежит не шелохнувшись. – Васька, открой глаза, расскажу тебе про войну.
Луза не слышит, да если б и слышал, ни за что не открыл бы.
Качка такая, что с буфета сверху вниз несутся на люстру, которая теперь ниже буфета, тарелки, осколки их летят в стены. Черняев лежит, завернув голову в простыню.
– Ах, сволочи вы, сволочи, – мечтательно шепчет Михаил Семенович, – даже по морю ездить не умеете.
Ошалев от качки, от морской болезни, от тоски и презрения к себе, на рассвете сполз Луза с койки, смутно думая о самоубийстве, но, выйдя на палубу, увидел далекий берег. Силы сразу вернулись к нему.
Михаил Семенович уже стоял на узком мостике, следя за рыбачьими сейнерами.
– Ничего работают! – крикнул он Лузе. – Молодцы!
Открывалась чистая, изящная бухта Славянки.
Выпив чаю у предисполкома, немедленно поехали по колхозам.
Дороги только предполагались, но районщик довольно подробно объяснил их будущий вид, чем привел в восторг Михаила Семеновича.
Ехали не спеша, километров двенадцать в час, тащили машины на руках и часто отдыхали на траве у дороги.
– Как это ты себе позволяешь такой беспорядок? – качал головой Луза, неодобрительно глядя на Михаила Семеновича, распахнувшего шинель. – А еще ответственное лицо!
– Какой беспорядок? А что? – спрашивал Михаил Семенович, лежа на траве в расстегнутой шинели.
Лицо Михаила Семеновича выражало довольство.
– Сколько раз в году так мотаешься?
Он склонен сделать выговор за небережливость к себе, но Михаил Семенович отвечает виновато:
– Я? Маловато, Вася. Ну, вырвешься на посевную, на рыбу выскочишь, на уборочную, слетаешь разок на стройки, на лесосплав съездишь, на сою, на рис… Да разве это дело?..
По дороге заглянули на стекольный завод инвалидной артели. Он стоял меж сопок, в стороне от жилья. Инвалиды делали стаканы из зеленого бутылочного стекла, из боя.