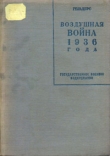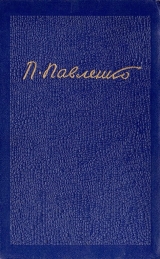
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
Олимпиада собрала девушек из всех экспедиций и устроила их в бане за печкой. При свете пятилинейной лампы все осмотрели друг друга, знакомясь.
Ольга никого из женщин не знала и, лежа на полатях за печкой, сонно прислушивалась к разговорам на мужской половине. В бане было тепло; Ольга скинула платье и голышом завернулась в пыльное и колючее от набившихся соломинок одеяло.
Девушки отгородились от мужчин старой дырявой ширмой.
Мужчины пили водку с вареньем и при свете электрических фонарей у своих одеял читали газеты, сразу за три месяца.
Шотман разговаривал с Вержбицким и Звягиным о геологии.
– Для нас, геологов, нехватает наличного человечества. Мы работаем на историю. Я один нашел золота лет на сто вперед. Мне надо полмиллиона человек, чтобы его разработать. Где их взять? Я открываю, исследую и записываю, а добывать некому.
Звягин, завидуя перспективам золота и стыдясь за свои непрактичные водоросли, возражал.
– Бред! Ерунда! – кричал в ответ Шотман. – Что такое! Ваши подводные огороды великая, батенька, вещь. Корм. Еда. Сотни тысяч тонн корма. Вы еще при жизни увидите торжество ваших водорослей… Это же прелесть – увидеть при жизни! Станете добывать из них иод и какие-нибудь важнецкие витамины, агар-агар и альгин, научитесь прессовать кирпичи из водорослевых отбросов или пережигать их на удобрение. Или, может быть, топливо из них нам дадите, или, наконец, научите нас есть морскую капусту вместо привозных помидоров?
Шотман, молчавший полгода, говорил, не слушая возражений и реплик. Тут все было – молодость, и упущенные романы, и кое-что из теории, и холостяцкая бродячая жизнь.
– Мы холостяки по профессии, – говорил он. – Да, да, чорт его… мы бродяги. Мы не успеваем жить настоящим. Настоящее – что такое? Как только закончится настоящее, оно расползается, как амеба, на прошлое и будущее. Стоит вырасти настоящему, как его уже нет. Вместе с ним часть тебя разделилась надвое, отпочковалась туда и сюда… Часть меня хранится в папках, для меня найденное золото есть прошлое, а с другой стороны – оно будущее чистой воды… Двенадцать лет назад я нашел золото на Верхней Оби. Оно лежит в папках. О нем вспомнят лет через тридцать, как о забытом романе. Я нашел золото у Чумигана. В Чумигане заговорят о нем лет через сорок. Я открыл золото в Кэрби. В Кэрби меня помянут добрым словом лет через семьдесят. Я помру, а меня все еще будут находить десятилетиями. Не горсть пыли останется от меня, а хорошая горсть золота, честное слово! Будете раскапывать меня и сорок и пятьдесят лет спустя и говорить: это – Шотман, это – тоже он, подлец. Шотманское золото!.. Я еще найду себе дела лет на полтораста. Найду все золото, запишу на себя – и помру. Разрабатывайте, будьте любезны!
Наступила золотая пора геологии. Да, да!.. Страна обращается к нам – дайте золото, глину, гранит, нефть, руды… А четыре года назад в Среднеазиатском геолкоме был всего-навсего один микроскоп, а всесоюзный геологический съезд в Ташкенте начался с доклада о возрасте земли. Оказывается, ей не полтора миллиарда лет, как до сих пор считали, а всего триста миллионов. Подумайте, какое открытие! А в это время геология Дальнего Востока изучена лишь на два процента! На землю, на землю, геологи! В тайгу, в тундру, в горы!.. Мы – разведчики неоткрытых сокровищ! Охотники за неизвестным!..
Он все еще продолжал говорить, но его мало кто слушал. Гасли свечки и фонари, храп раздавался из всех углов. Но Ольга еще не спала. Дрожащий шотманский голос разбудил ее воображение, и, вся изнемогая от тепла и усталости, Ольга, как в бреду, не могла справиться с мыслями.
«Хорошо, – думала она потягиваясь, – здорово говорил Шотман о нас. Был бы он вместо этого Звягина…»
Ольге было особенно приятно, что Шотман упомянул об альгине.
Океанография оказалась наукой смелой и трудоемкой. Спокойно забиралась она на территории соседних наук и, с виду сухая, отвлеченная, чуждая великих дел, вызывала к жизни промысла поистине фантастические, хотя и реальные во всех отношениях, вроде подводного луговодства. Скромной и тихой океанографии требовались подводные лодки и водолазы, химики, бетонщики-экспериментаторы и художники-повара, чтобы руководить жизнью морского дна, испытывать в лабораториях добытые продукты и смело подготовлять их для практической жизни. Варвара строила на Посьете завод, повар Гришукин, рискуя своим положением в кулинарии, изобретал «подводные» салаты из водорослей, а профессор Звягин ходил заниматься в школу водолазов и, встречаясь с командфлотом, настойчиво выпрашивал у него какую-нибудь старенькую подводную лодчонку для научной работы.
Довольная, Ольга лежала и, улыбаясь, думала об этом заводе.
На мужской половине инженер Лубенцов полушопотом рассказывал кому-то о своих амурных делах.
– В каждой экспедиции у меня жена, – развязно повествовал он. – На сегодняшний день у меня их три. Прекрасные девчата, клянусь честью!
– Ну и ну… – остановил его чей-то шопот.
– Я считаю, что это не этично, – сказал второй голос.
– У нас за такие дела бьют, – спокойно заметил красноармеец-турист.
– А впрочем, может быть, я очень несчастный человек, – ответил Лубенцов с напускной беспечностью.
Красноармеец в трусах покачал головой и вышел из бани, накинув одеяло на плечи.
– Беда эдак жить-то, – произнес он, шагая через спящих. – Эх, парень! А еще в научных работниках ходишь!
Шотман поднял голову, взглянул на красноармейца и, словно узнав в нем стариннейшего знакомого, закивал головой.
Красноармеец этот, прошедший для удовольствия тысячи километров, два раза тонувший и проголодавший семь суток в тайге, был очень знакомой ему фигурой.
Люди этого типа стали складываться года четыре или пять назад. Они сразу сложились тысячами, будто их одним махом породил общий ветер. Они бросались в жизнь, как некогда бросались в поезда их отцы на прифронтовых полустанках, чтобы пойти войной на старую Россию. Отцы голодали, болели тифами и не мылись, и не меняли белье месяцами – потому что смысл жизни был только в войне и в победе. Всякий хорошо выспавшийся человек, когда по неделям не спала страна, казался врагом.
Тем временем подросли ребята, зачатые в сражениях. Тяжелая слава отцов была их гордостью. Но вот они выглянули в жизнь – и жизнь сказала им: «Все, что есть в вас, мое. Я не оставлю вам на свои личные расходы ни отношений к другу, ни отношений к женщинам. Все, что ость в вас, должно быть мною. Я – душа ваша, я – ум ваш и ваша кровь».
И вот они вышли сотнями тысяч и миллионами, чтобы итти с революцией ее поступью, ни на шаг не отставая.
Страна обживала новые города, холила по новым дорогам, пела новые песни, и любила, и мыслила, как только раз или два в истории мира удавалось мыслить самым великим людям.
И этот маленький красноармеец, прошедший тысячи километров, был одним из рядовых великанов начинающейся великой жизни.
В его душе, не знавшей старых чувств, революция значилась счастьем и радостью. Он так понимал ее, и ни разу еще не ошибся.
Слова Лубенцова о нескольких женах – обычные слова лет десять или даже восемь назад – привели его в ярость.
Он вышел в предбанник и не вернулся. В бане все уже спали. Стала засыпать и Ольга, хоть и страшновато сделалось ей от лубенцовских рассказов.
Неясный, в темноте, необъяснимый шорох возле лавки Олимпиады казался воображаемым. Но потом Ольга уловила несколько слов, взмах руки, скольжение босой ноги по полу.
– Ой, до чего страшно! – шепнула она сама себе и тихо поползла в самый дальний угол полатей, к печке.
Закусив губы и до боли наморщив лоб, она пыталась не потерять этих шорохов за звоном в ушах. Уши ее пели, в них звенело что-то тоненькое и острое и расходилось кругами, как вода. По временам она ничего не слышала. Привстав, она провела вокруг себя рукой и всмотрелась в темноту. Движения успокоили ее, слух освободился от звона. Она легла, облегченно потея. Вдруг шорох босой ступни возник рядом. Звон заложил уши.
«На всю баню слышно, как у меня бьется сердце, – подумала она. – Крикнуть?»
– Тсс… извиняюсь, – услышала она тонкий шопот у своего лица. – Комсомолка будете?
– Да.
– На собрание. Тихо.
Ольга завернулась в одеяло и пошла за голосом, ни о чем не спрашивая и вся дрожа от страха.
В предбаннике местный прокурор из старых комсомольцев пил чай и тревожно поглядывал на выходящих из бани ребят. Женщина-геолог с грудным ребенком села у печки.
Красноармеец в трусах привел Ольгу и шепнул:
– Все!
Прокурор сказал, допивая чай:
– Ерунда происходит, уважаемые ребята. На зиму без всякой науки и техники остаемся. Как вы на это смотрите?
Все молчали.
– Конечно, – сказал прокурор, разводя руками, – официально я ничего предложить не могу, но обращаюсь к ЛКСМ – к сознанию. Районы у нас обезлюдели окончательно. Учителей мало. Инженеров недохватка процентов восемьдесят. Я официально ничего предложить не могу, но… – он сел на колени по-азиатски и произнес шопотом: – клянусь партийным билетом, сами должны придумать выход…
Красноармеец в трусах перебил его.
– От отпусков вам, товарищи студенты, надо отказаться, – сказал он твердо. – Я не научный работник, но совесть же надо иметь. Шотман завтра поутру хочет обсуждать отпуска и премии. Надо вам, ребята, остаться в тайге на зиму, вот что.
– Сезонники! – мрачно произнес прокурор. – Летом от вас проходу нет, а зимой человек от человека на пятьсот километров. А планы-то нам на зиму не снижают, а темпы и зимой, как летом. Предлагаю, ребята, на совесть… Ну, профессора вы, ну, инженеры, ну, чорт с вами… а зиму пробудьте.
Геолог с ребенком сказала:
– На шестнадцатом прииске ужасно как плохо работа идет.
– Ну да, ну да, – обрадованно зашептал прокурор. – И на четвертом, и на тридцать девятом – везде, друг, плохо, я то же самое говорю. Вы только, ребята, поймите на совесть… Я за лето объездил пять тысяч километров, а я что – профессор Визе, что ли? Я прокурор. А я лес рубил, я дороги вел, я рыбу ловил… Жену посадил в Угольцево; брат приехал в гости, арестовал я его, в Кэрби послал, в кооперацию. Сестра обещала приехать, да испугалась. В крайком пожаловалась.
Он закурил.
– Матрос тут один в прошлом году отстал от парохода, я его восьмой месяц держу инструктором. Молит, просит – семья, говорит, во Владивостоке. Жаловался Шлегелю. Шлегель – приказ: немедленно отправить домой. А я разве могу отправить?
И прокурор медленно обвел глазами присутствующих.
Ребята смотрели на него не дыша.
– За такие дела меня судить надо, – сказал он мрачно.
– Да, – прошептал красноармеец, – плохое твое положение.
– Мое положение совершенно плохое.
Геолог с ребенком встала, отбросила на спину распущенные волосы:
– Чорт знает что! Придется остаться.
Ольга хотела сказать что-то и не могла. Слезы сжимали речь.
– Ты чего? – спросил ее красноармеец-турист. – Согласна, что ли?
Ольга закивала головой.
– Завтра выступи перед своими, внеси предложение – всем остаться, поняла? Трястись тут нечего. Завтра выйди вперед, смело скажи: я, мол, девушка, и то остаюсь. Поняла? Чтобы парням вышло обиднее. Я, мол, одинокая девушка, и то остаюсь… А мы поддержим.
Вдруг геолог схватила ребенка и, спотыкаясь, бросилась в темный угол. Все оглянулись. У дверей стоял растерянный Шотман в одном белье.
– Чорт вас знает, расселись на дороге, – сказал он нарочито грубым голосом и, будто ничего не заметив, вернулся в баню.
В ту ночь, за час до пробуждения, увидела Ольга сон.
Он был необычен. Ей снились мысли. Они шли одна за другой, как бы по страницам книги, незримо лежавшей перед ее сознанием. Не она их произносила, не она их рождала. Они шли, как идут облака над морем, когда, не глядя на небо, видишь по теням на синей волне их белый, тронутый солнцем густой караван. Мысли шли одна за другой, и Ольга видела их. Они были похожи на Михаила Семеновича, на Шлегеля или Янкова, на геолога с ребенком или на самое Ольгу. Они шли гурьбой, оглядывая Ольгу внимательно нескромными взглядами, а она стояла перед ними, как на врачебной комиссии, смущенная и растерянная.
Она проснулась в слезах, взволнованная и ясная, как только что появившийся на свет ребенок. Душа ее была полна отваги, больше той, до которой поднималась ее натура. И, сознавая, что она никогда не сумеет выполнить всего того великого, что ей, как счастье, приснилось, радостно думала, что все равно, чем бы это ни кончилось, чем бы это ни стало, она возьмет себе в жизни только самое тяжелое и понесет его легко. Только так хотелось ей жить.
…Утром, в час слета научных групп, прилетел Михаил Семенович. Из бани неслись крики «ура» и аплодисменты. Не дослушав повествований Лузы, Михаил Семенович направился к бане и стал у дверей, за толпой любопытных.
Мать-геолог тихо стирала детские рубашонки, прислушиваясь к тому, что говорилось. Местный прокурор безразлично сидел на перевернутой вверх дном шайке, борясь со сном.
Очевидно, кто-то произнес сейчас хорошую, дельную речь, и все шептались: «Молодец», «здорово».
Михаил Семенович раздвинул толпу, ища Шотмана. Вдруг чьи-то руки сжали его лицо; губы, соленые от слез, коснулись его щеки.
– Ольга?
– Мы остаемся в тайге, – шепнула она.
Шотман встал, за ним поднялись все.
Опять пронеслось «ура».
– Мы остаемся! – крикнул Шотман. – Видел ты таких пацанов? Это ж удивительно, что за народ!
Геолог, стиравшая белье, подняла мокрую красную руку.
– Я имею предложение, – сказала она устало и, подняв глаза на Михаила Семеновича, добавила: – Некоторых придется отправить в отпуск. Например, Лубенцова.
– Ставлю на голосование. Формулируйте! – крикнул Шотман.
– Отправить в отпуск ввиду того, что у него слабый характер, – и геолог вернулась в предбанник.
Все подняли руки, не ожидая председательского сигнала.
– В чем дело? – спросил Михаил Семенович.
– Бабник он у нас, – раздался голос. – Пусть едет на сладкие воды. Так и запишите ему. Освобожден от зимовки за бабство.
Лубенцов вышел на середину. Лицо его было бледно, он улыбался.
– Постойте, постойте! – кричал он глухим голосом.
– Домой, домой! Валяй к своим бабам!
Ему не дали говорить, и, раздраженно протолкавшись сквозь толпу, он вышел во двор. Его передергивало.
Любопытствующие старухи потянулись за ним. Луза глядел издали.
– Слышали, какое дело? – спросил Лубенцов.
Луза кивнул головой.
– Ну что мне делать? Застрелиться?
Луза пожал плечами.
– Нет, вы скажите, что мне делать?
Подошел Зуев, крякнул, сказал:
– Мало тебя, дурака, стукнули. Бери бумагу и поезжай в Кисловодск, не порти тут воздуха.
Из бани доносилось громкое, беспорядочное пение «Партизанской дальневосточной». Завхозы, подпевая общему хору, уже пробивались наружу, вытаскивая из походных сумок свои блокноты.
Когда двести человек, отправляющихся на юг, во Владивосток, а оттуда – на дальний юг, к Черному морю, вдруг останавливаются все враз, – это создает завхозам еще большее беспокойство, чем их отъезд. Завхозы бежали, перебрасываясь короткими замечаниями и хохоча.
Да, будет у них хлопот полон рот. Нагонит им жару Шотман.
Зуев крикнул вдогонку:
– Все?
– Все, – ответили завхозы. – Все как один. Такое, знаете, беспокойство на нашу голову…
И правда, пока не распределили ребят по местам, город очумел от суеты. Ученые ставили концерт за концертом, спектакль за спектаклем и, надо сказать по совести, многим девчатам попортили кровь. Никогда так не работала почта, как в эти дни. Сотни писем шли на дальний запад и юг, в Москву, в Киев; и все писали об одном – не ждать в этом году.
2
Мурусима вернулся домой затемно. Ему не хотелось отвечать на письмо, прежде чем он не продумает всей совокупности тем, требующих объяснения. Проходчик Шарапов, не раздеваясь, в грязных сапогах лежал на печи. Мурусима ударил рукой по его ноге.
– Бросьте, Матвей Матвеевич, – пробормотал тот, – я ж устал как собака.
– Вставайте, расскажите, что в Харбине.
– Матвей Матвеевич, нельзя отложить на завтра? Лихорадит меня.
– Не выйдет. Слезайте. В Харбине видели Накаду?
– Видел и даже говорил с ним, – сказал Шарапов, слезая с печи. – Пренеприятное впечатление.
– Стоит нашему азиату стать умницей, как европейцам он тотчас кажется подлецом, – засмеялся Мурусима. – Рассказывайте подробнее.
– Да все чепуха какая-то. Никто ничего не знает, но все, кому не лень, руководят.
– Обычная история, когда имеешь дело с русскими, – заметил Мурусима, кладя перед собой чистый лист бумаги. – Рассказывайте по порядку. Были у Якуямы?
– Был, – ответил Шарапов, – и, что бы вы ни говорили мне больше о подлецах и умницах, скажу вам, что этот ваш Якуяма, на мой взгляд, и умница тройная и совсем не подлец.
Мурусима серьезно кивнул головой в знак согласия, так как совершенно точно был убежден в обратном и Якуяму давно считал законченным подлецом.
Шарапов рассказывал о собрании особой группы резидентов, созванном по инициативе сверху. Оно должно было наметить линию работы с русскими белыми.
Собрались, говорил он, в Харбине, в ресторане «Фантазия», на Китайской улице. Были барон Торнау, Шарапов и Вревский от «Братства русской правды», бело-казачий офицер Самойличенко и некто Шпильман от кооперации.
– Он будто бы из тех садовников Шпильманов, которых привезла с собой Анна Иоанновна из Голштинии. Врет, по-моему, – сказал Шарапов. – Никогда я о таких царских садовниках не слыхал. Жулик по запаху.
Он стал рассказывать о собрании, выбирая наиболее важное и подсмеиваясь над тем, о чем он умалчивал.
От японцев был капитан разведки Якуяма. В последний момент предупредили, что приедет православный японский епископ Дзудзи Накада. Тогда русские срочно вызвали из подворья епископа Павла, знающего десяток японских слов.
Ровно в восемь, как только русские вошли в убранный китайскими коврами номер, послышались голоса японцев.
Уродливо сгибаясь, они волокли под руки крохотного, даже на японский взгляд, старичка, в рясе и клобуке, с панагией на груди…
– Монсеньор Дзудзи Накада, – улыбаясь зашептали они, бессильные сдержать свой восторг. – Очень благодарны за ваше внимание. Это наш владыко, почтенный отец Накада, православный епископ Кореи.
Старательно суча ногами, старичок едва поспевал за своими вожатыми. Вид у него был смешной.
Русские встали. Епископ Павел тревожно вздохнул. Японский старичок, мелко тряся сморщенной головкой, благословил присутствующих и, страшно обрадовавшись, поспешил к Павлу, обнял его за талию, пригнул к себе и поцеловал в плечо. Потом они сели за круглый стол, в первой половине номера. Во второй же, за полуаркой, где надлежало стоять кроватям, накрыт был стол с закусками и винами. Он был организован по-русско-японски, с явным преобладанием русских блюд и вин.
Торнау открыл бутылку шампанского. Шпильман сам обошел с подносом.
– За дружескую встречу, – сказал Якуяма.
– Дай бог, дай бог, – дружно шепнули епископы.
Разговор шел по-русски.
– Глубокоуважаемый отец епископ господин Накада почтил нас своим присутствием весьма на короткое время, – сказал Якуяма. – Я выражу общее желание… Он поклонился старику. – Прошу высказать ваше толкование о поднятии головы дьяволами.
– Я хочу высказать свое понимание сегодняшней встречи, – скромно ответил епископ. – Причины того, что…
– Пожалуйста, пожалуйста, ваше преосвященство, будьте добры, – ободрил Шпильман, разливая вторую бутылку.
Накада очень хорошо, хотя как-то игрушечно, механически, заговорил по-русски, но скоро разошелся, любезно взглядывая на Павла.
– Мы часто слышим, – говорил он, – такое толкование, что ангел, «восходящий от востока солнца», упоминаемый в стихе втором «Книги Откровения», означает японскую нацию. Я горел желанием узнать, действительно ли это относится к Японии, и уверенно могу сказать, что недалек тот день, когда пророчество сбудется именно в таком смысле. У пророка Иеремии мы читаем, что его народ, то есть избранный народ божий, будет призван из страны Востока. Так было предсказано за две тысячи лет, и, конечно, не означает какую-то тысячу евреев, находящихся в Биробиджане, а означает нас, японцев. Вспомним пророка Исаию: «Кто воздвиг от Востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорял царей?» А в разделе сорок шестом, стих одиннадцатый: «Я воззвал орла от Востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Слово «Восток» в обоих случаях употреблено здесь как «мизрахо», что по-еврейски означает страну Восходящего Солнца…
– Мгм, весьма возможно, что орел указывает на то, что народ для своего выступления воспользуется аэропланами, – невежливо вставил Павел.
Накада тотчас обернулся к нему с протестующими жестами.
– Он поднимается на помощь народу, угнетенному антихристом, – строго сказал он, опуская шутку об аэропланах. – Горе мне, если я говорю об этом из чувства расового предубеждения или национальной гордости. Нет, нет. Я хочу сказать одно мнение: пора осознать, чего хочет от нас господь. Пора быть достойными его призвания.
После речи Накады решили подойти к столу. Епископ вскорости отбыл, за ним последовал Павел. Стало свободнее. Торнау, чтобы начать разговор, спросил, нет ли новостей из России.
– Вы, честное слово, явно преувеличиваете мою осведомленность, – улыбаясь и кивая туловищем взад и вперед, будто он задыхался от смеха, сказал капитан Якуяма. – В конце концов мы интересуемся Россией, поскольку она интересует вас.
Он явно издевался над русскими и не желал говорить первым.
Всего этого не рассказывал Шарапов, но Мурусима и без него отлично умел представить себе живописную картину происходившего. Ему нужна была лишь легкая ориентировка, он был опытным человеком.
– Тогда, повидимому, бросили говорить о высокой Политике и заговорили о делах маньчжурских? – сказал он Шарапову.
– Да, заговорили о «Братстве» и вообще, как теперь строить дела в связи с японской экспансией…
– В связи, с чем? – удивленно переспросил Мурусима.
– Ну, да вы же понимаете… Вы не обрывайте меня, Матвей Матвеевич. Заговорили о партизанах. «Маньчжурские коммунисты плохо знают решения своего Коминтерна, – сказал Якуяма. – Подводя итоги яванскому восстанию двадцать шестого года, Коминтерн остался им недоволен. Вместо того чтобы сделать вооруженное выступление решающим пунктом всеобщей забастовки и крестьянского восстания, Коминтерн…»
– Это безусловно ошибка яванцев, – перебил Мурусима, – капитан Якуяма, наверно, сравнивает их с маньчжурскими коммунистами… Продолжайте дальше.
– «Я очень удивлен, что вы знаете что-то о Коминтерне», – сказал тогда барон капитану. «О, да. У вас, в Китае, слишком часто удивляются», – ответил капитан…
– Ну, в общем мне ясно, что произошло, – опять перебил проходчика Мурусима. – Охарактеризуйте мне этого Шельмана… или как его?.. Шпильмана. Кто он?
– Чорт его знает, – ответил Шарапов, – говорит, что из царских садовников… года до двадцать шестого жил в Сибири, у красных. Напился, сукин сын, здорово, до хамства. «Бросьте, говорит, эти крендели-бандели. Хотите с большевиками воевать, а у самих душа от страха в носок завернута. Клади, говорит, душу на стол, показывай морских чертей».
– Мгм… странное поведение. Не провокатор? – с интересом спросил Мурусима.
– Не думаю.
– Нахален, как провокатор… Ну-ка, дальше.
– Ну, напился, как чорт. «Продаю, кричит, себя целиком, покупай, кто хочет! Принимаю; кричит, заказы. Я, говорит, на Дальнем Востоке туз пик. Во Владивостоке три комнаты с кухней, жена, мебель. Заходите, когда свободны».
– Слушайте, Шарапов, это очень ловкий человек.
– Да нет, дурак он. Химически чистый дурак. Я ему говорю, что скоро буду во Владивостоке, – передать, мол, привет жене? «А-а, адреса хочешь? – кричит. Говори цену. Дам».
– Вы, конечно, не взяли?
– Взял. Почему нет?
– Ошибка, – строго и мрачно заметил Мурусима. – Ну, дальше.
– А дальше и не было ничего. Этот купчишка весь наш разговор смял. Одно я понял – Якуяма сворачивает информационную сеть и всех переводит в оперативную. Вревский мне проговорился, что информаторы должны будут скоро переменить оружие. «Как прикажете, говорю, понимать, полковник?»
– Он, конечно, вам ничего не ответил?
– Пожал плечами. «Читайте, говорит, газеты».
– Хорошо, – сказал Мурусима, – это было, я теперь нижу, интересное собрание. Этот Шпильман в особенности…
– Дался вам Шпильман! Мы собрались о другом потолковать, – недовольно заметил Шарапов. – А капитан Якуяма тоже, как на грех, этим Шпильманом занялся не ко времени…
– Кооператор Шпильман интереснее всех вас, – весело сказал Мурусима. – Многие из вас, милейший друг мой, уже пережили свое время. Борьба вошла в новое русло, приняла новые формы, выдвинула новых людей.
– Например…
– Кулаков, невозвращенцев, лишенцев. Они знают Советы, вы – нет. У них есть глаза и слух, вы слепы и глухи. У них есть голос, они знают слова, родившиеся после вас. Что можно сделать с вами, друг мой? Сегодняшняя Россия для вас – неизвестность. А тарифная сетка союза Нарпит вам знакома? А как надо писать прокламацию – вы знаете? Нет, вы не знаете этого, не умеете.
– Я прямо боюсь спросить, чем же, собственно, мы все вам полезны?
– Я думаю, тем, что мы помогаем вам мстить, – сказал Мурусима, заботливо сморщив лоб. – Не говоря о хороших заработках.
Шарапов встал, прошел по комнате.
– Слушайте, Мурусима, – сказал он, почти закрыв глаза. – Скажите мне, зачем мы вам нужны, если мы все бесполезны? Вот у вас, говорят, жена и две дочери в Благовещенске. Вы почти русский, по вашему же признанию. Вы читаете Пушкина… Стойте, я же плясал у вас в Благовещенске и знаю вашу жену…
– Прекрасная женщина…
– А, не ерундите мне! Бросьте эти крендели-бандели, как говорит Шпильман. Вы старый разведчик, как и я. Чего вы валяете дурака? Прекрасная женщина… Из того типа баб, кто больше заплатит.
– Игра! – сказал Мурусима, беря его за руку и тряся ее. – Игра! Вы всё проиграли. Тот, кто всё проиграл, играет до смерти. Вот что нас связывает. Идите спать. Я напишу письмо.
Письмо его было коротким:
«Позволю себе сигнализировать, что ваше собеседование с русскими не достигло цели. Мне кажется, что вы недостаточно ясно представляете себе существующую здесь обстановку и ускоряете течение событий средствами, которые не кажутся мне своевременными. Во втором письме, пересланном с китайцем, я вам изложил весьма подробно план моих ближайших задач. Они обширны и проникнуты последовательностью. Их выполнение диктует нам методы величайшей осторожности даже в тех немногих областях, которые мы с вами назвали ударными и где допустима настойчивость.
Мне кажется, несмотря на то, что мы не так давно обменялись с вами мнениями, настала пора следующей встречи, так как я предвижу опасное расхождение между нашими тактическими приемами. Прошу вас довести о моем мнении до сведения известного вам лица, пока же кратко отвечаю на ваши срочные вопросы.
1, Нет, не строится. 2. Запланировано, но к работам еще не приступлено. 3. Не слышно. 4. Не приступлено. 5. Около десяти поездов за это время. 6. За последнюю неделю слухи о городе в тайге, пока не проверенные. 7. Полухрустов – начальник строительства. 8. Проверяю. 9. Работы еще не начаты, хотя о них говорят. 10. Инженер Зверичев, Леонид Сергеевич, человек с раздвоенным подбородком. Лет сорока. Считается прекрасным специалистом. Энергичен. Инициативен. В партии лет пятнадцать. На хорошем счету. Либо холост, либо супруга в России. 11. Проследовало семь партий. Разрабатываю. 12. Урожай средний. 13. Пятилетний план, повидимому, будет выполнен».
Шарапов сказал:
– Должен я вас предупредить – за мной кто-то следит. Обстреляли на рубеже.
– Хотите прибавки? – спросил Мурусима, запечатывая письмо. – Ей-богу, вы в качестве офицера столько не зарабатывали, сколько сейчас.
– Тогда за мной не охотились.
– Зато вы теперь политический деятель.
– Это мне льстит, но вам и Якуяме стоит дороже.
– Якуяма был офицер генерального штаба, человек иной эпохи, чем Мурусима. Сторонник старой прусской разведывательной школы, Мурусима сорок три года вел бескровные войны на Тихом океане. Войну с Россией он пережил во Владивостоке. Он любил произносить вслух слова покойного Накамуры:
Я был два раза убит китайцами,
Трижды сожжен дикарями Формозы,
Четырежды расстрелян большевиками -
И все же родил сына в Сиаме, родил
Сына в Кантоне, родил двух дочерей
В Сибири. Я – Накамура, человек многих судеб.
С Накамурой Мурусима кончил Берлинскую академию, с ним вместе работал он у Гейнца, прохвоста, какого не видел свет.
«Каждый, сегодня продавший на грош, завтра может продать на рубль», – говорили в их время. Разведка есть психология, наука об узнавании людей, разведка есть внимательность и осторожность, искусство.
Мурусима в свое время поставил десять тысяч телефонов на острове Формоза. Была проявлена немалая предприимчивость. Телефоны ставили в отоплении, в раковинах клозетов. На Филиппинах Мурусима – шеф конторы по ремонту и отделке квартир. В Корее – переселенческий агент. Наука об узнавании людей есть только первый раздел разведки. Узнав человека, учишься выведывать, что он знает. Это второй раздел. Третий – уменье внушить ему свои мысли и добиться, чтоб он их усвоил и повторил. Четвертый – оставаться неуловимым.
В Корее Мурусима распространял альбомы с видами Северного Китая и читал по радио лекции о свободных землях.
В 1920 году он жил во Владивостоке торговцем шелка. Красные обложили город со всех сторон, и на Миллионке, в узких уличках этого гигантского дома-квартала, в самых глухих коридорах его, на «китайском небе», уже стряпались документы на все случаи жизни.
Когда красные приблизились к городу, Мурусима постучался во все знакомые двери.
– Я разорен, – сказал он, горько улыбаясь. – Наше командование – о грубияны, о нахалы из нахалов! – не эвакуирует моих складов. Я оставлен большевикам, мои милые знакомые.
Его жалели. В награду за сочувствие он дарил шелк.
– Не оставлять же большевикам, – говорил он резонно. – Берите и не забывайте несчастного Мурусиму. Быть может, мы скоро встретимся. Берите, носите, если только вам позволят носить красивые платья.
Он раздал вагона три шелка, не забыв записать, кто и сколько его получил.
После большевиков он сгинул. Месяца через два его встретили на Семеновском базаре продающим японские зубные щетки. Вид его был ужасен. Кто-то тайком накормил его на кухне и подарил пару белья.
– Отчего бы вам не уехать домой, Мурусима?
– Мне? Вы смеетесь! Я – вор. Я не продал шелка и не вернул его стоимость банку. Родина меня предала.
Он стал доставать старым знакомым дешевую контрабанду: чулки, сигареты, бритвы.
Почти нищий, он сохранил широкие жесты богатого человека. Никто не смел, из боязни обидеть, отказаться от его трогательных подарков.