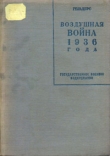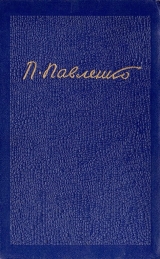
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
– Это за то, что вы когда-то у меня покупали, – говорил он. – В несчастье я вспоминаю всех осуществлявших мое благополучие.
Многие из знакомых работали у большевиков, и дружба со старым японцем была рискованной. Но он бывал так трогателен, когда входил, запыхавшись, и, быстро вертя своей черной, седеющей и от седины будто пыльной головой, рассказывал, что дела его пошли в гору и он будет торговать рыбой, что язык не поворачивался сказать ему грубость. Как-никак, а многие прожили с Мурусимой десятки лет, дружили, вместе ходили в театры, вместе выписывали журналы и вместе жили летом на даче, где-нибудь возле Океанской.
И старик дарил дешевый халатик из пестрого японского ситца или старую ширму, расписанную багровыми птицами.
И вдруг пропал, сгинул, потерялся бесследно. Говорили, что кто-то повстречал его на Посьете укладчиком рыбы на промысле. Другие видели Мурусиму рулевым на шаланде. Третьи… Но тут он явился столь же неожиданно, как и пропал. Он важно сошел с парохода-экспресса, прибывшего из Иокогамы, и проследовал в гостиницу «Золотой Рог».
Старые знакомые дрогнули. И было отчего. Скоро припомнил им Мурусима и шелк и ширмы…
Прощаясь, Мурусима сказал Шарапову:
– В случае, если я замечу что-нибудь опасное, я уйду на северо-восток – скажем, к бухте Терней. Там начальствует некто Зарецкий, добряк, широкая душа, милейший человек. Там тогда и ищите.
– Тяжеленько будет найти. Ишь куда лезете! Стоит ли? Добрых тысяча километров от границы. Север, морозы… – ответил Шарапов, но Мурусима только развел руками.
3
В сентябре, проводив Ольгу на север, Шлегель из бухты Терней пробрался тайгой на Нижний Амур. Вид начатого города был потрясающе хаотичен. Склады горючего стояли рядом с жилищами, а больница ютилась вдалеке от жилищ, на каждом шагу торчали машины, и всюду на пустырях стояли знаки, гласившие, что это место заводов, клубов и яслей. Значки эти переносили с пустыря на пустырь, а потом поставили все вместе за стеной конторы. Никакого воображения не хватало понять в толчее, сутолоке и безобразии площадки, что получится дальше.
Этот начальный вид пугал неопытных. Трудно было себе представить, чтобы из этой грязи, бревен, сора, взорванной земли и машин, перепутавших свое назначение, можно было организовать что-нибудь серьезное.
Поэтому все говорили о быте, и он казался страшнее, чем был. Героика собственных дел познавалась, только когда человек заболевал или получал отпуск. Он вдруг просыпался тогда в ужасе от своего упорства.
Те, кто были здоровы, не имели времени продумать и охватить сделанного. Труд их был тяжел и от тяжести казался маленьким, незначительным, а с мировой точки зрения особенно ничтожным. Но когда им рассказывали о планах всего строительства на Дальнем Востоке, в котором их город был всего одной деталью, они переводили планы на бревна и кубометры земли, на трудодни и начинали тогда понимать, что участвуют в необыкновенном деле необычайного века, и им хотелось самим переделан, все это великое дело до конца.
Шлегель жил у Янкова. По вечерам они старались по зажигать огня из-за комаров и все же ходили с окровавленными щеками и опухшими глазами.
– Нечистая сила, а не природа, – хрипел Янков. – Уничтожить бы ее к чертям. Развели тайгу, а человек в ней жить не может. Вырубить бы ее к чертям и выжечь да рассадить свои парки.
– Нечего ожидать, жги, – говорил Шлегель.
– Сила не берет.
– Тогда сиди и молчи.
Шлегель приехал предупредить, что в большое строительное сражение вливаются свежие части – идут лесорубы из Архангельска, каменщики с Украины, инженеры с Волги, что новый город по частям заказан и строится на ленинградских и украинских заводах и движется армией ящиков в поездах и на пароходах.
– Пора заказывать и будущие кадры, – говорил он. – Думали об этом?
– Много надо, Семен Ароныч. Специальные вузы придется открывать.
– Ну и что ж, откроем.
– Корабельных мастеров надо? – Надо. Судостроителей, электромонтеров, электриков надо? – Надо. Всего, я думаю, тысяч десять на первые годы.
– Пора заказывать, – торопил Шлегель. – Пока людей соберете да выучите – глядишь, и город будет готов.
Он торопил с заказом на людей не зря. Люди были нужны.
В тот же год мореходная школа большого города была приписана к таежной стройке, в корабельный техникум подброшены кадры и стипендии, а в технических вузах столиц забронированы за новым городом в тайге десятки людей.
Город строился теперь всюду – от океана до океана, во всю ширину страны, связывая воедино судьбы многих людей в разных углах страны.
В сентябре сами собой родились две новые профессии – поэта и парикмахера. Инженер Лубенцов, тот самый, которого отправляли в Кисловодск за «слабый характер», но потом оставили по настоянию Шотмана, сломав ногу на рубке, объявил себя на время отдыха парикмахером. Лубенцов был горняком по профессии и на строительство города попал временно, на зиму. Нужно было валить тайгу, и ему дали в руки топор.
А слесарь Горин, лежа в лихорадке, стал писать песни. Репертуар их обоих вначале был прост. Лубенцов подстригал косички на висках и шее и вырывал волосы под так называемый второй номер. Мучительное удовольствие это не всякий мог выдержать, но Лубенцов был упорен и совершенствовался. Постигнув тайны безболезненной стрижки, он изобрел три фасона – «голяк», «чубчик» и «Евгений Онегин». Обрадованный льготами и всеобщим вниманием, он разработал затем дамскую прическу «АН». Фантастическая путаница волос, кое-где нечаянно тронутых ножницами, поразительно напоминала колтун, но выбирать было не из чего. Оставалось надеяться на талант Лубенцова и верить его упорству. К зиме он ожидал освоения высших ступеней техники.
А слесарь Горин писал лозунги в клубе и эпитафии на могилах. Он делал также надписи на венках и бичевал шкурников и лодырей в стенной газете.
Теперь он умирал, обескровленный язвой желудка. И хотя все его обнадеживали, он знал, что смерть неминуема, и не огорчался этим. О себе он сначала написал так:
«Первый поэт великого города – Горин», но потом переделал на «Самый ранний поэт Горин», на «Поэт из первой партии строителей», на «Поэт от мая до сентября 1932 года». Он умер на варианте:
«Я первый стал сочинять песни и лозунги на строительстве города. Я сочинил девятьсот лозунгов, тридцать одну надпись на плакатах и двести надписей на могилах. Меня звали Горин. Я хочу, чтобы на нашем кладбище потом разбили парк отдыха».
Первый бал с танцами был еще в июле, в день электричества, в сентябре же налегли на экскурсии, потому что был особенно светел и легок сентябрь, последний месяц перед морозами и ветрами.
В сентябре были неправдоподобно тихи и сонны чащобы, покинутые птицами. Как бы искусанные до крови клещами, не шелохнувшись, стояли развесистые клены. Все чище, все выше и незаметнее делалось небо, все шире проглядывали сквозь лысеющий лес горизонты. Желто-веснушчатый дубовый лист становился калянее, звонче. Стихи первых поэтов переписывали на фанерные щиты и выставляли перед палатками, как расписание настроений.
Сормовичи сколачивали лодки, вятичи занимались гармониками, краснобакинцы совершенствовали хор, красноэтновцы налегали на рыбную ловлю, арзамасцы плели силки.
Ольга встала в шесть часов утра в еще не проснувшемся Хабаровске, вдалеке от этой стройки. Михаил Семенович, у которого она гостила теперь, еще спал. Привезя ее с собой в Хабаровск, он хотел было немедленно послать ее на Посьет, к Варваре Ильиничне, но Ольга твердо решила зиму провести на Дальнем Севере.
Сначала Михаил Семенович не хотел и слышать об этом плане, но постепенно Ольга убедила его.
Он настоял, однако, чтобы она ехала зимовать на стройку двести четырнадцать, к Гавриле Янкову, и перебросил ее самолетом в Хабаровск, откуда она, передохнув, и направлялась теперь на стройку.
Ольга пробежала в крайком по широкой нарядной улице Маркса, в сущности единственной улице города, заглянула на почту, написала записки друзьям и через полчаса влезла в кабину самолета, ахая, что не взяла ничего из продуктов.
– Да вам лететь-то четыре часа, – пренебрежительно сказал летчик Френкель, – а дядя ваш, небось, все приготовил. Я ему говорил: племянницу привезу. «Вези, – говорит, – вези, только рыбьего жира захвати для нее».
– Для меня? С ума сошел! – засмеялась Ольга.
– А я и забыл про этот жир, будь он проклят! Заест теперь старик.
Перед полетом пассажиры перезнакомились. Двое из них летели в Николаевск-на-Амуре, и Ольга дала записку к Шотману, который, говорят, остался зимовать на одном из молодых приисков. Скоро затем она вздремнула. Путь показался ей медленным и даже неинтересным. Было десять часов утра, когда пассажиры прильнули к окнам. Ольга не видела ничего, кроме сплошной тайги, прорезанной синим зигзагом Амура. Овальное озеро прошло под правым крылом.
– Где же, где? – кричала она.
– Да чудачка вы, вот же, сюда смотрите! – кричали пассажиры, направляя ее голову вниз.
Она не видела ничего, кроме леса. Кое-где его ровную густоту прорезали узкие дороги. Вдалеке шел дым. Но вот что-то мелькнуло впереди.
– Да прозевали вы все на свете! – крикнули Ольге.
Она увидела несколько бараков в желто-белесой березовой роще, за ней распростерся, качаясь, аэродром, вокруг него лежала навзничь брошенная тайга. Трудно было поверить, что все эти деревья свалили люди.
Френкель, лениво и зло тараща глаза на меняющийся день ото дня пейзаж, вьюном бросился к земле и, коснувшись ее, долго подруливал к дощатому учреждению на краю аэродрома.
– Что он, прямо в уборную, что ли, въезжает?
Из дощатого учреждения быстро вышел Ян ков. Это была контора.
– Вот и молодец, Олюшка, вот и молодец! – залепетал он, опасливо подбираясь к самолету. – Ну как, Френкель? – выразительно подмигнул он летчику, делая руками какие-то жесты, напоминающие о поручении. – Ну, да то, что я просил… да ну, вот это… Нет?
– Вы с ума сошли, Гаврила Ефимович! – закричала Ольга, целуя его в прогорклые усы. – Какой такой рыбий жир?.. Я здорова, как корова.
– Ну-ну, корова-морова… это так говорится, а посмотришь…
– Да посмотрите… Хоть на конкурс здоровья…
– Ладно, ладно, – недовольно бурчал Янков, – ни черта, подлецы, не слушаете… Я же тебя просил, как родного сына. Все планы разбил, сукин сын.
– Слово даю, из Николаевска привезу! – крикнул Френкель, подмигивая Ольге. – Бидон привезу.
– Я бидона не просил у тебя, – сказал Янков, садясь в машину. – Я у тебя пятьсот граммов просил, арап проклятый.
Он устало провел рукой по глазам, хихикнул в усы и, успокоившись, стал показывать Ольге площадку строительства. В березовой роще вокруг бараков толпились грузовики и тракторы.
Мимо рощи они подкатили к баракам, от них – к Амуру, к старым избам бывшего села. У реки он и жил.
Завтракая, поговорили о том, чем Ольге заняться. Она кратко пояснила Гавриле Ефимовичу, что геологи Шотмана решили провести зиму в тайге, на строительстве, и вызвали на зимовку все остальные партии. Она приехала на стройку 214, потому что океанографу нечего делать зимой в море.
– Соломон молодец, – сказал Янков, – умеет вашего брата держать в руках. Жаль, однако, что ты не геолог. Соль тут надо искать, – добавил он горячо. – Соль зарезала, сука: полтора рубля накладных на пуд. Торфа тут не может быть? Хорошо бы нашли торф. А эти базальты-мазальты оставьте к чертям, ну их!
Его избушка глядела на Амур. На той стороне реки багровела высокая сопка, спускаясь рыжими боками в черную тайгу.
Когда вечером Ольга вернулась из конторы строительства, Янков дремал в кресле.
Она разбудила его. За окнами голубело все напряженнее, все страшнее. Казалось, сейчас зелено-голубым огнем вспыхнут Амур и тайга. С набережной доносились песни на многих, неизвестных Ольге, языках.
– Я бы прошлась, Гаврила Ефимович, – сказала Ольга. – Сегодня в Хабаровске оперетта, сегодня я проснулась в Хабаровске, в пути написала Шотману, сейчас мою записку уже передают ему, а между опереттой и Шотманом тысячи километров. Пойдемте пройдемтесь. Завтра я сажусь за работу.
– Пренеприятная, ты понимаешь, история вышла с этим рыбьим жиром, – ни с того ни с сего вдруг сказал Янков. – Дело, видишь, в том, что я вроде как бы ослеп. Не совсем, а этой… как ее… птичьей, ну… куриной слепухой, что ли…
– Что же вы мне ничего не написали?
– Да что писать-то?.. Болтать начнут… паника… то да се… Я молчком, молчком. Дали мы молнию – прислать рыбьего жира, у нас слепых пятнадцать человек. Я уж помалкиваю о себе. На тебя хотел было свалить – дескать, малокровие у девчонки, а ты – дура какая-то несмышленая – запутала все к чертям. Жди вот теперь.
Он встал, протянув вперед руки.
– Накинь на меня пальто, выйдем пройдемся.
На набережной плясали и пели. Многие, как Ольга с Янковым, степенно и осторожно ходили парами. Бригада грузина Гогоберидзе готовилась петь старинную украинскую песню, молотовцы обещали ответить имеретинской хоровой. Латыш медленно читал еврейские стихи.
– Обмениваются, – важно сказал Янков. – Порешили мы обменяться языками. Грузины – по-украински, украинцы – по-грузински, латыши – по-еврейски, евреи – по-татарски… Удивительная история! – хихикнул он. – Я то же самое не удержался…
Молодой армянин, держась за плечо товарища, вышел в круг. Его лицо было спокойно. Он поднял его к луне, ни на кого не глядя, и запел татарскую песню, состоящую из одного долгого волнистого звука.
– Тоже страдает этой… – сказал Янков, узнав армянина по голосу, – а таится, как зверь, будто заразу схватил.
Ночь была, как в Крыму.
– Не найдешь, где у вас героизм, – шопотом сказала Ольга. – Только с глазами какая-то глупость.
– Потому что ты дура. Ты, небось, хочешь, чтобы, как на войне, убитые валялись, раненые кричали, кровь лилась?
Они шли по тропе строительной площадки.
– На войне все, милая, проще. Не убили – стало быть, жив, а жив – значит доволен. Ранили тебя? Герой. А тут у нас похуже войны. Убивать некого. Умереть негде. Хотел бы крикнуть «ура» да погибнуть со славой, так ведь и это не быстро делается. Я третий год кричу «ура», а кроме выговора ничего не имею. Чего-то нету. Ума, что ли, нехватка или характера, чорт его знает. Да, о чем я начал-то?
– О героизме, – вежливо подсказала Ольга.
– Верно, о героизме. Где Марченко? – крикнул он танцующим.
– У себя, – хором ответили ребята. – У себя на даче.
– Вот я тебе сейчас покажу героя, каких ты сроду не видела, Иди в сторону клуба.
Пока они шли по узким и сбивчивым тропинкам строительной площадки, Янков рассказал случай из жизни этого Марченко, происшедший текущей зимой.
Рубили тайгу километрах в десяти от строительства. Стоял жестокий, ветреный декабрь; пали тяжелые, невиданно густые снега, и занесло, запушило временные дороги от лесопилки к тайге. Нужно было наладить подачу леса во что бы то ни стало. Никто не знал, что предпринять. Машин не хватало, лошади сбились с ног. Тогда Марченко предложил прорубить во льду Амура канал глубиной в семьдесят сантиметров, налить его водой из прорубей и гнать по каналу бревно за бревном. Вырубили канал, налили его водой, поставили вдоль канала ребят с шестами и дали старт бревнам. Первые три часа дело шло ничего, но потом вода стала густеть, замерзать на морозе, бревна обрастали льдом и застревали в канале.
– Вспомнить страшно, – говорил Янков. – Ударили мы в колокол, чтобы сменить ребят у канала. Глядим, подняли они шесты вверх, машут ими, а сами ни с места. Высылаем смену, выяснить, в чем там у них дело. Бегут гонцы назад, лица на них нет… «Давай, говорят, машину: попримерзла вся первая смена. Стоят, как памятники, только руками машут». Выслали машины и рубщиков с топорами. Подъедут к парню, тяпнут топором по бахилам, сколют лед с них – и в машину героя. А он аж звенит, так захолодал. Ну, вторая смена учла это, – костры ей разожгли и держали не больше двух часов. За три дня десять тысяч кубометров бревен сплавили по ледяному каналу. Выскочили.
– Куда итти? – спросила Ольга. – Вот клуб.
– Роща налево? В нее.
В роще сразу потемнело, тропа исчезла из-под ног.
– Георгий! – крикнул Янков. – Эй, Марченко, где ты?
Издали доносилось бормотание радиоприемника.
– Это его радио… Эй, Марченко!
За крутым зигзагом тропинки перед самым носом возник шалаш.
– Кто тут? – спросил глуховатый тенорок, и фигура на четвереньках показалась из шалаша.
– Ты, Георгий? – спросил Янков.
– Я, Гаврила Ефимович. Здорово! Чего ходишь по ночам?
Янков со значением сжал руку Ольги, погрозил ей пальцем, чтобы она молчала. Она отступила с тропинки к деревьям.
– В гости к тебе пришел. Ты чего делаешь?
– Я? Манилу слушаю. Залезай в шалаш.
– Да ну его, духота… Я вот на травку тут сяду.
Ольга увидела, как Янков осторожно опустился на траву перед шалашом. Стоявший на четвереньках тоже сел, но как-то вполоборота к Янкову, будто стесняясь.
– Новости, что ли, получил? – спросил он.
– Да не то что новости… Курить будешь? На.
Марченко протянул руку, но тотчас взмахнул ею и рассмеялся:
– Я ведь бросил. Не хочу.
– Племянница ко мне приехала, – сказал, затягиваясь дымом, Янков. – Научный работник, замечательная девка. Повертелась сегодня на стройке и говорит: «Героизма что-то у вас не видно». Слышишь? Ну, думаю… надо ее сунуть в какой-нибудь переплет.
– А что ж ты думаешь, – перебил его Марченко, глядя куда-то вбок, мимо гостя. – Что ж ты думаешь, героизм редко бывает. В этом году не было еще у нас героизма.
– Зачем говорить зря – было, – сказал Янков. – Я ей про твой ледовый канал рассказывал…
– Так то в прошлом году, – рассмеялся Марченко. – А в нынешнем… Вот разве экскурсии в склады, что ты придумал…
– Ну, подумаешь! А вот Лубенцов, по-твоему, как, не проявил героизма?
– Нет, ничего он такого не проявил.
– А Горин?
– Подумаешь, стихи писал. Одним словом, нету у нас в этом году геройства, чего там! Работаем хорошо, а геройства нет. Давай выстроим город в шесть месяцев – вот тебе и героизм, бери – не хочу!
– Комаров тут у тебя… фу-фу, тьфу. Эх, развел! – забормотал Янков, махая руками и вертя головой.
Марченко тихонько рассмеялся.
– Дай-ка, – сказал он, – одну папироску, от комаров, и правда, отбою нет.
Янков протянул коробку, но Марченко, сидевший вполоборота, не видел ее и долго шарил рукой в воздухе, ничего не находя.
– Ну, бери, чего ждешь? – спросил Янков.
– Не, не стоит, – опуская руку, ответил Марченко. – Дал слово – буду держаться.
– Чорт проклятый, тогда хоть костер разведи! Сил же нет никаких.
– Вот ребята с реки вернутся, сделают. Сиди пока, почесывайся.
– Пойду я тогда лучше домой, – сказал Янков. – Хорош хозяин, нечего сказать. Да и темнота тут у тебя в роще, – произнес он с деланным удивлением, – глаза, чего доброго, повыкалываешь.
– А я тебе фонарь дам, Гаврила Ефимович, – сказал Марченко и, быстро став на четвереньки, исчез в шалаше.
Слышно было, как он с остервенением шарил там во всех углах.
Ольга вышла из кустов и взяла Янкова под руку.
– Идемте, – шепнула она. – Он в шалаше, не видит.
– Ну, пока! – крикнул Янков, семеня за Ольгой. – Не провожай, не надо.
Когда они вышли из рощи, Янков засмеялся.
– Вот надул малого, так это действительно надул! Еще хорошо, не пошел он провожать, а то бы разоблачил. Да, захвалили его, стервеца, важный стал, сидит, мечтает…
– Да он же слепой, как и вы, – сказала Ольга, стуча зубами. – Он ничего не видит, он слепой.
Старик остановился.
– Не может быть! – сказал он испуганно.
– Да я же видела, как он сидел к вам боком, как протянул руку за папироской в другую сторону, ничего не нашел и говорит – бросил курить… Да, вот это – герой, – сказала она тихо. – Вот это настоящий человек.
– Какой он герой! – сказал Янков. – Нашли, в чем соревноваться. Завтра ставлю на партком – дать этим куриным героям по заду. Морочат друг другу головы.
– Да вы и сами ж такой!
– Я администрация, а он производственник. Разница!
И до самого дома он с ней не разговаривал и лег спать, не произнеся ни слова.
Через неделю Ольга пошла к Марченко знакомиться.
– Слыхал об вас. Геройства ищете? Нету, нету, – месяца через три, не ране.
– Что так?
– Народу много прислали нового, не обвыкнет. Сначала тут человека тоска берет, а как ее скинет, тогда только с него и спрашивай. Зрение, как бы сказать, приобретут.
На стройку прислали народу тысяч восемь, они дошли до места с первыми заморозками; тайга встретила их печальной ветреной тишиной, город был дымен, грязен. Низкие землянки, похожие на могильные насыпи, с тонкими железными трубами вместо крестов, гнали вдоль пустыря зловонные клубы дыма. Все было далеко отсюда, даже счастье.
Осень была такой тяжелой, что не знали, как дотянуть до весны. Кто-то пустил слух, что плохо с продовольствием и, как станет Амур, паек споловинят. Гаврила Янков отпечатал тогда афиши: «Экскурсия в центральный склад строительства» – и дня четыре подряд водил людей в сухие и теплые свои подвалы, где лежали детали машин для еще не построенных цехов, оборудование фабрики-кухни для будущего города, банно-прачечные комплекты, стекло, цемент, гвозди. Из этих складов повел в ледники, показал бычьи туши, развешанные на крючьях шеренгой в полкилометра, консервов миллион коробок, десятки тысяч чувалов с зерном, масла сотен пять бочек. Народ кричал «ура», толпясь у бычьих туш, и никто не досматривал дальше и не видел (да и не интересно уже было) бочек с апельсиновым вареньем и солеными огурцами.
Народ сразу повеселел. Чтобы согнать тоску, Янков открыл выставку: «Вид города в конце пятилетки», а при ней отдел детских запасов – манной крупы, сгущенного молока и фруктового сока.
Только навалились на стройку – подобралась куриная слепота. Молодой фрезеровщик из Таганрога Макарян придумал тогда обмениваться языками. Кто заболевал слепотой, тому, как бы в наказание, приставляли учителя и давали наказ выучить песню на любом языке. Были такие, что пели на трех языках и даже пробовали говорить, но пока больше руками.
Дым над низкими землянками шел далеко в тайгу, и тайга осторожно сходилась на дым и огни стройки.
Два стойбища нанайцев решили ночевать в начале города, у реки, одиночные охотники запросто стучались в двери столовых и, обогревшись, бросали на столы соболиные шкурки.
– Давай кооперацию! – кричали они по-русски и требовали за шкурки соль и патроны.
И еще не были закончены стапеля и доки, а город уже начался, – сюда волокли нанайцы пушнину, ездили за хлебом и записывали в загсе рождения, свадьбы, а один раз привезли мертвого старичка с длинной бородой и просили похоронить его на большом и красивом кладбище в кедровой роще. Потом поставили нанайцы деревянных богов на сопках и раз в неделю били их палками, если случалась дурная охота. Потом подписали они договор с Гаврилой Янковым на гужевые работы, а милиционер Шишов, крича веселым тенорком, солидно стал регулировать движение автомобилей и собачьих упряжек. На набережной вывесили объявление: «После восьми часов вечера езда на тракторах и танках строго воспрещается. Штраф три рубля».
Город обозначался медленно и мучительно, и не он еще, а тайга пробивалась к нему и, прильнув, рассматривала настороженно.
– О войне говорят, – сказал Марченко. – Неровен час – случится война, на десять лет нас с дороги собьет. Воевать своими краевыми силами придется. Что накопили – это, значит, отдай.
– Ты бы отпуск взял, съездил отдохнуть, – сказала Ольга.
– Не с руки. Я, детка, дал себе слово до председателя города здесь дойти. Я так и в газете написал. Город я зачал первый из первых, я и закончу – все пройду и председателем города сяду. Выстрою себе город и буду им править, мечта такая меня заела.
– А вдруг не выберут?
– Меня? Конечно, все может быть, но мечту иметь надо. Мой отец вон дворником в Киеве служил; неважная работа – нужники чистить. А теперь первый человек по коммунальному делу. Пишет мне, в институт хотел поступить какой-то; не взяли по годам, – обиделся, в колхоз уехал. «Я, говорит, иным манером начну действовать». В шестьдесят-то лет!
Он нащупал больными глазами ее лицо и улыбнулся, лукаво поджав губы.
– То есть невозможно себе и представить, что дальше получится. Полез народ в гору да шибко полез, я тебе скажу. Нам, брат, в общем-то и война не в войну – куда меня ни сунь, я везде за хозяина. Один страх, что убьют, да ведь от этого тоже средство имеется.
– Какое? – машинально спросила Ольга, шарахаясь от неожиданного крика в радиоаппарате.
– Москва тычется, – пояснил Марченко. – Концерт, что ли?.. Да, так я не сказал тебе, средство какое? Вот оно, – он хлопнул себя по груди и на минуту приложил руку к сердцу. – Это, детка, такая конструкция, я с ей ни черта не боюсь. Я с ей везде буду первый.