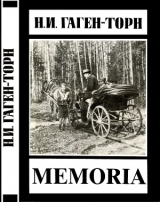
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Олеша и Борис Иваныч
– Ты скажи мне: конь-от, он какой ростом? Как собака, как олень аль поболе? – Олеша поднял на меня синие глаза.
– Ты разве никогда не видел коня, Алешенька?
– На картинках видел, а живого не видывал. Смотрю когда на оленей и думаю: ужели он больше? Он страшный? Как медведь?
– Почему страшный? Ты же видел на картинках! На конях работают, пашут землю!
– Вида-ал, – задумчиво протянул Олеша. – Я въяве поглядел бы! И коня и как хлеб сеют…
– Ты отсюда не выезжал?
– В Териберку ездил. Корову я там видал, – оживился Олеша, – така больша! Рога каки толстушши!
Он надул губы, руками и губами показывая толщину и тяжесть коровьих рогов.
– Там я и молоко пил коровье… Сладко!
– Ты тут родился, Алеша?
– Не, я по третьему году был, как тятя хоромы здесь поставил. С Онеги мы… Ране он с другим онежанам летовать сюда ходил, а потом хоромы поставил и нас насовсем перевел. Я Онегу-то не помню… Только море да камни, чайки да олешки.
Мы с ним сидели в тундре на камнях и держали полные корзинки грибов. Олеша привел сюда меня посмотреть, не приехал ли Семен-лопин. Но его еще не было.
– Олешки наши у Семена летуют. Вот подгонит их, ты и увидишь; пыжиков маленьких я люблю, – задумчиво улыбнулся Олеша, похлопывая прутиком по кустам голубицы.
– А я вот пыжиков живых не видела… И грибов таких больших. У нас их зовут подберезовики, а это надберезовики! Смотри! – Я поднялась с камня и сорвала крепкий березовый гриб, который поднялся над гибкими, ползущими по земле веточками берез. – Таким одним наесться можно! Ведь не червивый!
– Маленькие лучше. Маманя не велит больших брать… Ты мне про коня скажи: копыта у него, бают, кованы железом, – это как?
– Подкованы. Кузнецы подковы делают, такие вот, – я палочкой нарисовала на земле, – и прибивают гвоздями к копыту…
– О-о-о! – удивился Олеша. – Не больно разве?
– Нет, оно роговое, копыто. А куют, чтобы не кололось.
– Одно копыто-то на ноге?
– Одно.
– А у оленя – двойное. И у коровы – я видел…
Я забавлялась, рассматривая Олешу: русский мальчик не знает ни коня, ни земли, ни телеги… Море – вместо поля. Ход трески – вместо летней страды… Как странно, подумала я.
– Олеша, а яблоки ты видел?
– Сушеные? – живо сказал Олеша. – Я и яблоки, и изюм видал.
– Нет, живые, румяные яблоки, они висят на деревьях, так много, что ветки гнутся…
Олеша засмеялся.
– Эдак в песне поют только:
…Яблочко румяное,
Дочушка желанная.
В песнях и про виноградье красно-зелено поют, а како оно? Растет, бают, завиваясь, как хмель, а я хмеля тоже не видывал. Тут у нас Борис безногий как начнет старины сказывать, всяко насказывает: про сады да про дубы, про Киев-град да про князя Володимира; как заиграет песню, все припеват: «Виноградье красно-зелено».
– Сведи меня к нему, Алеша!
– Ну-к што ж! Пойдем!
Олеша поднялся, подтягивая голенища сапог-бахил.
Мы прошли моховище, по каменистой тропинке стали спускаться. Внизу блестели на солнце светлые бревна срубов, голубела круглая Гавриловская губа. Оттеняя вход из океана, стояли на скалах черные кресты.
По океанской переливающейся дали бродили, точно кони по пашне, черненькие полоски – рыбачьи лодки йолы.
Я тихонько толкнула Олешу в плечо. Он оглянулся, ответил на мою улыбку и побежал, сбивая камешки.
Я, с полной грибов корзиной, побежала за ним. Обгоняя друг друга, мы спустились к дому. Я взбежала к себе в светелку, поставила грибы, взяла блокнот и позвала:
– Пошли!
Олеша поправил поясок на рубашке и степенно повел меня улицей к конторе Областьрыбы.
На дверях висел замок.
– Борис Иваныч! – крикнул Олеша в темноту склада.
– Тут! – ответил голос. Олеша вошел в соседнее здание. Там стояли котлы, тянулись чугунные трубы. Лесенка вела на галерейку.
– Борис Иваныч! – крикнул Олеша.
– Ту-ут! – ответили сверху. Над перилами галерейки наклонились худые плечи и острое худощавое лицо с небольшой бородкой. – Вот я!..
– Тут тя питерка спрашивает, – сказал Олеша, задирая вверх беловолосую голову. – Выдь на низ!
– Пошто я питерке занадобился? – довольно хмуро спросили сверху.
– Простите, что беспокою вас, Борис Иванович! – сказала я, выступая в полосу света. – Я студентка. Работаю по изучению здешнего края. Очень бы хотела побеседовать с вами, если у вас есть время.
– Ну добро! – ласковее ответил голос. – Пождите – иду!
Деревяшка застучала по галерейке, потом по лестнице. Сухонькая, небольшая фигурка в черной длинной блузе под ремешком быстро спустилась.
Борис Иванович подошел, глянул, протянул мне руку. Как щипцами охватили меня его твердые, небольшие глаза в мохнатых бровях. Кости лица обтягивала обветренная, темная кожа. Бородка оставляла открытыми подвижные губы. Спросил:
– Вы что – рыбоведению обучаетесь? Или по экономике?
– Нет, – призналась я. – Занимаюсь я вовсе пустяками – записываю песни, сказки, старые старины, новые новины, добрым людям на утешенье, себе на поученье.
Борис Иванович засмеялся. Потеплели глаза.
– А-а, ну это – особая стать! Этим я тоже грешен. Тогда пождите мало время, я тут покончу, да ко мне домой пойдем, побеседуем. Не сочтите за труд, подождите, я сейчас. Ну, показал завод Олешка вам? – спросил он. – Специалистом у нас скоро будет… Что вам еще показать?
– Откровенно говоря, лучше бы рассказать старины, – призналась я.
– Ну добро, добро! Этому я и сам привержен, люблю книги старинные, от руки писанные, иконы письма древнего, прекрасного и всякие рукомесла. Пойдемте ко мне, буду сказывать… – Он светло глянул на меня.
– Очень рада!..
– Я до вечера ушел, Онуфрий, ты сам запри! – крикнул он наверх.
– Ладно! – прогудело оттуда.
Постукивая деревяшкой, Борис Иванович пошел впереди, я шла за ним, положив руку на худенькое плечо Олеши. Борис Иванович отомкнул дверь конторы. Лесенка из сеней вела в светелку. Мы поднялись. Борис Иванович распахнул дверь.
Я остановилась изумленная: широкое окно сияло лазоревым наличником. За ним блестели серебряным блеском океанские дали, а на фоне их покачивалось, привешенное на веревочке к оконному наличнику, резное суденышко. Оно было так искусно вырезано и оснащено, что казалось: приплыло сюда из океана, чудом не увеличившись, и повисло на окне. По бокам его покачивались на таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю; другая, с девичьим лицом в высокой короне, смотрела в комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. На столе стояли рогатые фигурки оленчиков, резанные из кости, и такая же резная шкатулка.
– В старину боле прекрасного было. Сейчас же – благообразия мало.
– Это потому, – убежденно сказала я, – что все растет и меняется. Когда ребенок бежит и кричит, раскрыв рот, разве он благообразен? Благообразны бывают старики. А сейчас – детство нового мира. Он строится: совсем, совсем новый! Мы прошли войну, кровь, голод, а теперь – вышли в жизнь. Очень интересно – какая станет она? И знаете, что еще интересно? – спросила я, понижая голос. Борис Иванович придвинулся, стукнув своей деревяшкой, и сел. – Еще интересно видеть, как именно все меняется. Сохраняется старое и – появляется новое. В старине надо найти и понять такое, про которое еще не знали, а оно – было! Жило да жило, неведомое, вдруг – всплыло! Расцвело неизвестными цветами, как этот ваш шкафчик…
– Так… удивительного и чрезвычайного в жизни немало, ежели уметь видеть, это правда. И красоту, как цветы, легко рвать надо, чтобы не измять. Это все – правда. Но что же выглядеть думаете и чего ищете?
– Приехала я из Питера изучать лопарей. Но лопарей пока нет, а интересного кругом – много! В Коле я будто в сказку попала. А песни какие! Слушала бы, не отрывалась… Пела там старины Марфа Олсуфьевна Шаньгина… Олеша сказал, что вы тоже поете. Вот я и пришла…
– Про Шаньгину я наслышан, – кивнул Борис Иванович, – наслышан: женка память имеет твердую и голос хороший. Но сам ее не слыхал. Учился у другой великой души женщины… – Он указал тонким сухим пальцем на фотографию на стене. – Мария Дмитриевна Кривополенова. Мастерица была и утешительница.
Узкая койка у стены была застелена узорным рядном. На бревенчатых стенах висели фотографии: сморщенная старушка в повойнике и темном платке смотрела большими глазами; какой-то норвежский городок, чистые домики и суда у пристани; осанистый старик с раздвоенной бородой. В углу стоял деревянный шкафчик, ярко разрисованный птицами, цветами и травами.
Хозяин выдвинул из-за стола табуреты, приглашая садиться, а сам встал, прислонясь к окну и рассматривая меня.
– Борис Иванович! – доверчиво сказала я, поднимая на него глаза. – Если бы вы знали, как мне интересно жить на свете! Войдешь в комнату к незнакомому человеку, посмотришь: как интересно! Как здесь живут? И не знаю, что лучше: про себя ли рассказывать, вас ли расспрашивать?
– Любопытствуете к жизни? – усмехнулся Борис Иванович.
– Любопытствую! Нет, пожалуй, больше, чем любопытствую: хочется полюбоваться – откуда это так много в жизни прекрасного?
– А с непрекрасным как быть? – хмурясь, спросил Борис Иванович. Он сжал губы. – Со скверною как?
– Ну? – удивилась я. – Мне кажется, оно просто от недоразумения. Надо постараться понять, где хорошее, оно и окажется… Хорошего же все хотят? Я думаю, прекрасное должно все расти и расти на земле.
– Ну это едва ли! – покачал головой Борис Иванович. – Мысли текут из века в век. Песни хранят старину, тем и важны они. – Борис Иванович кивнул головой. Сел, положив на стол руки. – Слушайте, когда так:
Во таульи во городе,
Во тауль во хорошеем —
Поизволил наш царь-государь,
Да царь Иван Васильевич,
Он поизволил жонитися.
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас во каменной Москвы,
Да у царя во Большой Орде
Кострюка, сына Демрюковича,
Да у его на родной сестре
Да на Марии Демрюковне…
Пел Борис Иванович негромко, протяжно и однотонно, широко открывая рот и покачивая седоватой головой.
Сначала я усомнилась даже – пение ли это? Но чем дольше он пел, тем яснее выступали Москва, царские палаты, звенели свадебные чаши.
Глаза Бориса Ивановича смотрели вдаль, будто изумляясь встающим воспоминаниям. В однообразном ритме, в троекратной повторности нарастала многократность передачи, отложились переживания многих человеческих душ. Песня несла слова, как река раковины: с мерным, повторяющимся рокотом.
Я слушала, держа карандаш.
– Так вы близко знаете Кривополенову? Я читала, как Озаровская вывезла ее в Петроград, она выступала там.
– Знавал. А она, как бывала в Архангельске, – у нас останавливалась, в Соломбале. А я с детства любитель был песен и память имел. Бывало, хожу вокруг и все слушаю. А как отняли ногу – новое пристрастие заимел. Утешает песня в несчастье. Как потерял ногу, она и говорит: «Калека ты, Борис, теперь не работник. Самое тебе дело петь, людям на потеху, себе на усладу, старине на прославление. Ты запоминай-ка!» И стала с голосу учить. – Борис Иванович замолчал, сжав губы, – не хотел говорить о своем несчастье. – Ну – что еще спрашивать будете?
– Я бы очень хотела про Кострюка записать. Может, вы продиктуете?
– Могу… Могу и сам записать…
– Я боюсь, Борис Иванович, что вы запишете слишком грамотно, – засмеялась я.
– Запишу сколь обучен, – нахмурился Борис Иванович.
– Ну да, а надо не так, как мы с вами грамматике обучены, а как слышится, это называется фонетически.
– Пошто так?
– Потому, что тогда остается говор, каким поется. Вы знаете, что в разных местах говорят различно. С говора записанная песня скажет, откуда она пришла, откуда родом, это – ключик в историю.
– Понимаю, – кивнул Борис Иванович, – для того и в трубу записывают?
– Борис Иванович, ты спой ей про виноградье. Вишь, мы не знаем, како виноградье, а поем! – вдруг сказал Олеша. Он тихо сидел на порожке.
– Это свадебная, величальная.
– Спойте, пожалуйста!
Борис Иванович погладил бородку и запел:
Виноградье – красно-зелено,
Да ишшо кто такой стучит,
Да во светых-то вечерах,
Да во светых-то вечерах?
Да виноградчица стучит.
Да ишшо спрашивают ребята
Да господина во дворе
Да ишшо около двора,
Да все трава да мурава,
Да все трава да мурава,
Да цветы лазуревы…
Олеша смотрел расширенными глазами: казалось, он видел удивительные лазоревые цветы, прекрасный терем с хрустальными воротами и серебряными «ободверенками», неизвестную, но такую знакомую в корнях своих жизнь. Мне повернулось впервые «Виноградье» не толстой книгой А. Шейна, где записаны тексты песен, а узорчатой песней безногого Бориса Ивановича. Чем дальше он пел, тем больше развертывалось то, что жило не в словах, не в ритме – в отзвуке прошлого, долетавшего в глуховатом голосе, строгом, худом лице и подвижных бровях сказителя.
Я попрощалась с Борисом Ивановичем и договорилась, что приду, когда он будет свободен, вечером, буду еще записывать песни.
Заря, из широкого окна, заливала комнату Бориса Ивановича розовым светом. В нем, как в воде, плавали у окна подвешенные на шнурках птицы с девичьими лицами, покачивался резной кораблик, уплывая в полыхающее небо.
Борис Иванович сидел спиной к заре, опираясь локтями о стол. Лицо его казалось темным. Нос прямой полосой пересекал удлиненную линию глаз, как на византийских иконах. Клинышек бороды сливался с темным воротом рубашки.
Борис Иванович внимательно слушал меня – мы говорили о старообрядцах.
– Книги древнего письма, Борис Иванович, как и всякие книги, – говорила я, – отражают точку зрения группы людей, их писавших. Те, кто писал до Никона, – отразили свое понимание греческих текстов, с которых переводили, Никон – свое. В этом ли дело? Разве надо так держаться за букву?
– Я и не держусь, – отвечал Борис Иванович. – Дело не в букве и не в двуеперстии, а в том, что насилием введенное – духа лишается. Сказ есть: стоит Россия, не проваливается потому, что три старца неведомых в лесах за нее молятся. Перестанут они молиться и – рухнет все… – Борис Иванович посмотрел на меня и сказал: – Может, и не молятся они, а просто помнят да помалкивают. И того довольно. Беда приходит, когда обеспамятует народ. Понимаете, что сказать хочу?
– Нет, – призналась я.
– Видно, не имею слов настоящих… А – чую… Будто вьется ниточка али стежка по полю. Идет и идет по ней кто-то. От самого Киева до Архангельска – все идет. Многие сотни лет. Уж забыл, когда вышел, а памятует: надо идти вперед… Ты его не пинай: он сам знает, куда идти. Сила великая в том, что сердце помнит… – Борис Иванович поднял палец. Строго, как бы недоумевая от невозможности отыскать слова тому, что для себя было ясно.
– Я думаю, то, что вы рассказываете, называется традиция культуры – сказала я. – Но ведь большая сила, Борис Иванович, не только в сохранении, но и в разрушении традиций.
– Новое – не отрицаю. Но оно откуда берется? Чтобы разобраться – старое понимать надо.
У лопарей
Река Воронья недалеко за поселком. На берегу ее выпрямились тоненькие, хрупкие березки. Сплетались ветками ольхи и тальники. Вода, пенясь, скакала по большим серым камням. Между ними торчали колья, перегораживая реку. Оставался узкий проход в стремнине. У берега, прислонясь спиной к камню, стоял небольшой темноглазый человек. Он курил трубку. Седоватую жидкую бородку шевелил ветер. Человек поглядывал на реку, на небо, на бегущие легкие облака. В руке он держал шнурок, уходящий в воду.
– Федя, – шепотом спросила Лиза, – как вы думаете, это он?
– Вероятно. Кому же здесь быть? И вид у него такой…
– Что он делает, Федя?
– Не знаю. Надо спросить…
– Но как? Неловко. Подойти и так, прямо, спросить – что вы делаете?
– Надо начать разговор…
– Безусловно. – Она вздохнула и помолчала. – У Нины это как-то просто выходит: возьмет и заговорит. А мне трудно начать, стесняюсь, – горько сказала Лиза.
– Ну, как-нибудь заговорим, – улыбнулся Федя. Он подошел к человеку у камня. – Здравствуйте.
– Здравствуйте, – не вынимая трубочки изо рта, ответил человек.
– Скажите, пожалуйста, этот забор – семгу ловить?
– Для семги.
– Ловить собираетесь?
– Жду ее, семгу.
– Как же вы ее ловите?
Человек передвинул трубку и усмехнулся, меряя глазами Федю: он приходился Феде ниже плеча.
– Пойдет семга – буду вытягивать, – он потянул за шнурок, – вот так.
– Здравствуйте! – Лиза подошла. Она смотрела внимательными темными глазами. – Вы тут живете?
Человек улыбнулся.
– Вчера вежу поставили, – он кивнул на березовую поросль.
– Вы ловозерский? Мы слышали, что прикочевали, – живо сказала Лиза, – как вы по-русски хорошо говорите!
– Почему не говорить? Я при царе в Петрозаводске служил, в военной службе.
– Разве лопарей призывали?
– Почему нет? Самоедов не призывали, а карелов и нас – призывали. У меня и жена по-русски немного говорит. – Митюша-лопин стал опять смотреть на воду. – Не идет.
– А как вы узнаете?
– По воде: рябить станет. Я и потяну… Кто знает, когда пойдет, может, к вечеру… – Митюша бездумно посмотрел на небо. Видно было, что он мог ждать рыбу – как дерево растет – неторопливо и беззвучно.
– Нам что же, с ним сидеть? – прошептала Лиза. – Или в вежу идти? Спросите про вежу, Федя…
Федя с укором посмотрел на нее, но спросил:
– Не помешаем, если пройдем к веже?
– Идите, посмотрите, – приветливо ответил Митюша, указывая тропку среди тальников. Тропка привела на бугорок.
– Смотрите, Лиза, совсем индейский вигвам, но крытый брезентом!
– Неужели брезентом? – озабоченно сказала Лиза. – А не оленьими кожами? Как жаль!
Они обошли кругом вежу. Снизу ее окружал валик из дерна. Брезентовая покрышка натянута на тонкие березовые жерди, как зонтик на спицы. Вверху, где жерди скрещивались, было дымовое отверстие.
– Войдем?
– Спросим… Можно войти? – тоненько спросила Лиза.
Изнутри откинули брезентовую полу. Показалась женская голова:
– Проходите.
Свет падал сверху, освещая оленьи шкуры, большой самовар на земле, черный крюк, подвешенный над очагом. Пахло свежими березами.
– Хорошо как! – сказала Лиза, осматриваясь. – Я думала: как жить в веже? А пожалуй, пожила бы с удовольствием, комаров и мошки нет, прохладно… – Она присела у очага.
Две девочки, взявшись за руки, подошли к ней.
– По-русски знаете? – спросила Лиза ту, что постарше.
Девочка покачала головой и спряталась за другую.
– Не умеешь? Вот беда! А вы говорите? – спросила Лиза женщину.
– Мал-мало умею.
– Надо мне по-лопарски учиться. Это как по-вашему? – Лиза показала на свое платье. Девочка подвинулась ближе, рассматривая Лизу. Она еще раз спросила, и женщина засмеялась:
– Ну учи, учи…
Лиза выговаривала незнакомые звуки, девочки смотрели, раскрыв рот. Потом засмеялись. Лиза указывала предмет, они сначала шепотом, потом звонко, раньше матери называли его. Лиза следила за их губами, старательно выговаривала. Они смеялись, качали головами, опять и опять повторяли. Это становилось увлекательным: научить говорить. Перебивая друг друга, девочки показывали пальцами на вещи, называли их. Покатывались от смеха, когда Лиза неверно произносила. Лиза достала записную книжку, записывала.
Девочка побольше подошла и взяла Лизу за руку, чтобы удобнее показывать ей вещи. Уже много слов накопилось в Лизиной книжке.
Федя вышел, сел на пенек рисовать вежу.
– Лиза! – позвал он. Лиза, а за ней обе девочки вышли. Девочки посмотрели на рисунок, по-птичьи защебетали тоненькими голосами, показывая измазанными пальчиками то на рисунок, то на вежу.
Побежали за матерью. Она вышла, улыбаясь и покачивая головой. Федя быстро нарисовал около вежи фигуру человека и лежащей собаки. Восхитились и мать и девочки. Не уставая, смотрели, как он срисовывал берестяной туес с узорами, корзинку для рыбы, люльку, обтянутую оленьей кожей. Лиза записывала названия, девочки приносили вещи, ставили перед Федей и жадно ждали: как возникнет она на бумаге? Наконец Федя устал.
– Довольно, Лиза, пожалуй, на сегодня? – спросил он.
– Достаточно. Для первого раза – очень хорошо, – согласилась Лиза. Они простились с хозяевами, пообещав завтра прийти.
С утра шел дождь. Мы сидели в светелке, разбирая свои записи.
– Две семьи лопарей на троих этнографов – мало! – мрачно сказала Лиза. – И неизвестно, когда прикочуют остальные к Вороньей реке.
– Может, дожди задержали? – предположил Федя, отрываясь от плана стойбища, который он чертил.
– Тяготит безделье, теряем время! – Лиза сердито поправила очки.
– Можно заниматься языком, что мы и делаем, – спокойно ответил Федя. – Как ваши лингвистические записи, Нина? – спросил он меня.
– Она увлекается сказами Бориса Ивановича, ей не до лопарей, – укорила Лиза.
– Лиза! Почему поморы менее интересны, чем лопари, хотела бы я знать?
– Потому, что мы ехали изучать лопарей.
– А приехали к поморам! – смеясь, ответила я.
– Тем хуже. Не выполняем задания. Ты мало озабочена этим?
Я писала в дневнике: «Лиза считает легкомыслием мой интерес к русскому фольклору. Но не лучше ли начать с изучения своего народа? Когда я слушаю старины Бориса Ивановича – я чувствую себя капелькой потока. Словно я знала всегда и этот глуховатый голос, и мерно повторяющийся ритм, и встающие образы.
Как Олеша знает про виноград, если он никогда его не видел. Это живет памятью рода. Поэтому, начав с изучения родного народа, больше научишься видеть, чем изучая чужой. Лиза считает обязательным заниматься лопарями, а мне хочется охватить всю страну…»
– Лиза! – позвала я. – Как быть, если любопытство одолевает? Любопытство ко всему на свете! И – сразу!
– Настоящий исследователь должен начинать с небольшого вопроса, овладеть им, а потом – расширять круг интересов, – спокойно сказал Федя. Поглядел ясными голубыми глазами.
– Я, должно быть, не исследователь, а просто бродяга! Хочется обежать всю страну! Посмотреть: что? где? как?
– И ничего не сделать – да? – резко сказала Лиза.
– Я записала шесть былин и восемь песен. Хотите – прочту?
Они не успели ответить: в море взвыла сирена.
– Пароход, – сказал Федя.
– Почта, – закричала я, – идем скорее!








