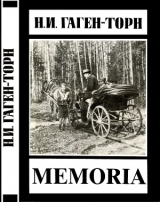
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Ольга Всеволодовна, – позвала ее какая-то женщина, – вот свободное место на нижних нарах.
– Ну и слава Богу! – просияла она, подхватив свой чемодан.
Мы познакомились с ней на следующий день.
– Я встречалась с Борисом Леонидовичем у Андрея Белого. А после войны уже раз заходила к нему на Лаврушинский, – сказала я ей. – Могли бы мы с вами и там встретиться, а вот где пришлось.
– Да, лучше бы там… Меня, вероятно, дома не было.
– Скажите, где Борис Леонидович, что с ним?
– Я от него ничего не имею, но мама моя писала, что он где-то под Вяткой, здоров. Обещала переслать его открытку.
Через несколько дней она получила и письмо и огромную посылку. Щедрой рукой угощала всех, устроила целый литературно-гастрономический пир на своих нарах. Мы, человек пять, сидели, поджав ноги, на нарах, пили чай, слушали стихи – она знала очень много стихов Бориса Леонидовича. Говорила о нем. Ольга Всеволодовна забавно и мило изображала, как он на даче раскланивается с деревьями, беседует с кошками. Рассказывала, что у нее есть сиамский кот, которого он очень любит. Она умела видеть смешное и рассказать о смешном. Не только рассказать, передать интонации Бориса Леонидовича, жесты и выражения в быту. И нежность, и восхищение Пастернаком передавались ею в одежде шутки. Мне очень нравилось это. Я повела ее в полустационар к Татьяне Михайловне и Нине Дмитриевне – угостить их стихами.
Вечерами, сидя в темноте на нарах, мы много говорили о судьбах литературы, о поэзии, читали друг другу и свои стихи.
Пришло письмо из дома, в нем открытка, написанная почерком Бориса Леонидовича, – несколько теплых, заботливых слов, без пометки – от кого и откуда, и фотография ее детей.
– Это – Ирочка, от первого брака, а это Митрон, – сияя, показывала она. – Какой большой стал!
Я рассматривала тонкое, задорное личико девушки и пучеглазого мальчика.
– Пожалуй, он похож на Бориса Леонидовича…
– Да, находят, что похож, – кивнула она пушистой головой, – и Борис Леонидович очень любит его…
Рассказы полны бытовых подробностей, овеяны светом прошлого счастья…
Только уже выйдя из лагерей, я узнала, что у Бориса Леонидовича другая жена, что та жила с ним в Переделкине и что Митя-Митрон вовсе не сын Пастернака. Ольга Всеволодовна – «вторая действительность», как сказал Борис Леонидович.
Ольга Всеволодовна реализовала в прошлое несостоявшуюся мечту. Это не единственный случай в лагерях, я уже писала об этом.
Об одежде заключенных
– Вы знаете, на воле я занималась этнографией и изучала одежду как один из источников выяснения этногенеза. Племенная одежда – это система символов, сигнализирующая о принадлежности человека к определенной группе и отражающая идеологию этой группы. Цвет, орнамент, покрой – не случайны. В них не индивидуальное, а групповое творчество, как в фольклоре. Род, а позднее поселение, носит одежду, как паспорт – можно по ней узнать принадлежность к роду, определить социальное положение. Одежда шамана, взрослого воина или юноши, женщины замужней или девушки имеет различия, всем ясные, как форма в нашу эпоху.
Я рассказывала Надежде Августиновне об изучении одежды, стоя в очереди перед каптеркой за получением весеннего обмундирования. Очередь была длинная и располагала к отвлеченным разговорам.
– Покрой отстаивался из раздумий, как удобнее и экономичнее использовать материал для защиты от холода и гнуса. Орнаментика и расцветка служат защитой – оберегом, от другой опасности – духов. Эстетика слишком большая роскошь, она приходит позднее.
Надежда Августиновна посмотрела насмешливыми голубыми глазами, хихикнула:
– Никогда не представляла, одевая вышитую блузку, что она – оберег. От кого она защищает?
– Вероятно, не защищает, а призывает: посмотрите, какая я красивая! – ответила я, смеясь. – Но это – рудимент. Эстетика пришла, когда сознание целесообразности орнамента забылось.
Надежда Августиновна запротестовала:
– Я все равно вам не верю! В каждой женщине существует исконная потребность украшать себя. Даже здесь, в этих страшных условиях, меня обрадовал присланный мамочкой халат не только потому, что он удобный и теплый, но и потому, что красивый. С запахом духов… А почему не выдают из посылок одеколон и духи?
– Они думают, что мы выпьем его вместо водки и станем пьяными.
– Господи, какая чушь! И как унизительна эта цензура – что можно, что нельзя… Отравляют единственную радость…
Я вспомнила, как она с детски доверчивой радостью показывала свою первую посылку. Угощала всех конфетами, радостно готовая все раздать. Стояла в пушистом синем халате, восхищаясь каждой вещью из дома.
– Женщина проявляет себя в том, что и как она носит, – говорила она. – Даже дурацкое и страшное казенное платье стараются переделать, украсить, хотя бы воротничком.
– Здесь что! – усмехнулась я. – Посмотрели бы на Колыме! Пригнали тюрзаков из тюрем, у них никаких вещей, только то, что на себе. Через 3–4 месяца начальство при шмоне руками развело: у каждой баульчик, а в нем и простыня, и комбинезон, и какая-нибудь вышитая блузка. Откуда?? Подбирали мешки, добыли в прачечной хлорки, белили их на снегу и шили. Старые трусы и чулки распускали на нитки и вышивали.
– Ну вот, видите! Хотела бы я только знать, как можно эстетически оформить это? – она указала глазами на маленькую старушку, которая отходила от каптерки, расписавшись в получении обмундирования. Старушка безропотно несла солдатские ботинки 42 размера и линялое серое платье с синей заплатой.
У раздачи возник шум.
– Ты мне не суй второй срок! – кричала плечистая девушка. – Ты мне дай ботинки первый срок и мой размер. Я – зазонница. Как я в таких ботинках работать буду? – она трясла огромными ботинками.
– Не бери на горло! Я тебе объяснила: первого срока нет! Платья есть первого срока, я и даю тебе первого, как рабочей. А ботинок нет.
– Это вам, придуркам, можно сидеть со вторым сроком, а ты себе небось нашла первого? Да и по ноге? А мне хочешь всучить второго? Я к оперу пойду!
– Пойди, пойди, попробуй!
– Преломление социальных отношений в одежде, – едко сказала Надежда Августиновна. – А что получим мы? Теперь ведь не дают ходить в своем.
Заключенным выдавалось казенное обмундирование два раза в год. Осенью – стеганые ватные бушлаты, байковые платки, валенки. Работающим за зоной полагались и ватные брюки. Весной отбирали зимнее обмундирование, давали летнее: стеганую телогрейку, ботинки, платье, сорочку, трусы и пару чулок.
Теоретически, работающие должны были получать новое, а инвалидам доставалось поношенное, сданное прошлый год в каптерку. Часто первого срока не хватало и работающим. Тогда поднималась перебранка с каптерщицей.
В день выдачи у каптерки обычно образовывалась огромная очередь, все стараются захватить пораньше, пока не разобрали другие. Получившие бегут в бараки, примеряют платье – «перемахнем»? Меняются, подбирая подходящее по размеру – ведь выдают как придется. Бегут в инвалидный барак, просят неработающих переделать, сами удлиняют или укорачивают, добывают белые лоскутки на воротнички. Весь выходной день, к которому приноравливают раздачу, лагерь возбужден и занят обновками.
Но не всегда это радостное возбуждение.
Через год давали зимнее обмундирование. Открыли двери каптерки, выстроилась очередь.
Что такое? Почему рядом с каптерщицей и ее помощницей поставлен еще стол и сидят двое? А на столе банка с густой хлоркой. Очередь недоумевала. Разнесся слух – будут клеймить одежду номерами. Неужели правда?
Начали выдачу. Получает бушлат, расписывается, но его не выдают на руки, а перекидывают к следующему столу. Там списки.
– Как фамилия? – спрашивает сидящая.
– Аникина.
Она ставит в списке галочку. Вторая за столиком переворачивает бушлат и на спине выводит хлоркой: А-285.
– Подставляй подол платья!
Аникина ахает:
– Что это? Что за издевательство?
– Не издевательство, а приказ. Вся одежда должна быть пронумерована. Бушлаты и телогрейки – на спине, платье – сбоку.
Она хлоркой выводит номер на платье.
– Следующая! Как фамилия?
– Дынина.
На бушлате ставят номер: Д-842. На платье и платке тот же самый номер.
Очередь перешептывается. Получившие утешают друг друга:
– Ничего, можно на это место заплатку пришить.
– Как жалко – новые бушлаты, нельзя было не взять.
Очередь начинает редеть: лучше перезимую без бушлата, чем с номером на спине, – шепчут отходящие.
Но на поверке зачитывают приказ: «С завтрашнего дня все зеки обязаны ходить в нумерованной по форме казенной одежде. За выход из барака в вольной или ненумерованной одежде – двое суток карцера. Обращение к зекам начальственного и вольнонаемного состава – по указанному на одежде номеру».
Стояли подавленные. Многие вытирали слезы. Как быть? А через день бригады строем шли на работу. На спинах белели вытравленные хлоркой номера. Смотрели и плакали: «Даже у лошадей и коров, есть имена, а мы – вещи нумерованные».
– Не могу я смотреть на эти номера, так и кажется, что в фашистском лагере опять – там с номерами ходили.
– Страшно!
– Что дальше будет?
Вернувшись из-за зоны, сообщили: видели на разгрузке вагона бригаду мужчин. Тоже все нумерованные – на телогрейках, на брюках, на шапках. Один крикнул нам:
– Майданек! – конвоир его за это прикладом.
– Страшно!
Я, собственно, не понимала, почему именно нумерование сблизило в сознании многих наш лагерь с фашистским? Почему номер так страшен? Равнодушно подставила подол платья, взяла бушлат. Осмотрела свой номер: Г-398. Что значит буква и цифра? Этот вопрос появился у многих. Стали искать объяснений: как построена нумерация? Нашлись грамотные статистики – растолковали: в картотеке лагеря фамилии стояли по алфавиту. Так и взяли букву. Номера, можно убедиться, или совпадают с первой буквой фамилии или с близлежащей. На каждую букву цифрами обозначают тысячу человек. Потом в следующую букву. На «К», это общеизвестно, всегда много фамилий. Оказалось, больше тысячи, и они захватили «Л».
Обрадовались, будто это легче. Загордились все: они думали, что нас задурят! А мы больше узнали. Знаем теперь, сколько тысяч сидит в Темниках: последние номера на «Щ». Послали «ксиву» (письмо) на центральный лазарет, проверить, совпадает ли. Вернувшиеся с лечения привезли ответ: точно, совпадает!
Есть неудержимое стремление у людей что-то выяснить в своей судьбе, постараться приоткрыть хоть какую-то тайну тех, распоряжающихся нами.
Еще о рукописях
Рукописи лежали в чемодане с двойным дном. А потребность писать дальше подсасывала, как голод.
Стих выковывает переживаемое в формулу. В стихе я давно научилась обходиться без записи. Проза дает свободу расположиться во времени, тут запись необходима. Шли мысли о юности, о становлении человека исследователем, о первых экспедициях. Они были в записях и возродили привычку связывать мысль с бумагой. И уже трудно было отказаться. Но как укрыть записи?
Нары нашей бригады стояли подряд. Я – в углу у стены. На соседней со мной вагонке долгоногая Марийка. Она тихонько вышивала, все думала о маленькой дочке, что осталась на Львовщине. Дальше – Лена Борис с Волыни, Оленка-гуцулка, Рузя и Галя. В наших я уверена – не сболтнут, что пишу. Может, и можно, лежа в своем углу, записывать дальше, хоть наметки?..
Раз, откачав норму воды, мы возвратились в барак. Девчата, сидя на нарах, занимались своими делами. Я лежала в углу с карандашом и клочком бумаги.
Вошла Свидерская, толстоногая и толстозадая женщина, о которой говорили: стукачка! Для чего, если не для осведомительской работы, привезли здоровую, крепкую бабу на полуинвалидный лагпункт? Зачем она ходит по баракам и со всеми заговаривает? В лагерях трудно что-нибудь скрыть, «параши» быстро разносят новости.
На 10-м лаготделении скоро открыто стали говорить ей:
– Катись, Свидерская, нечего тебе делать в нашем бараке.
Она оборачивалась и, крикливо пререкаясь, уходила, тряся толстым задом.
Эта вот Свидерская сунула нос и неожиданно вошла к нам в барак. Сказала мне медовым голосом:
– Письма пишете? Говорят, сегодня почту будут раздавать…
– Не лазь по чужим баракам, Свидерская, – сурово сказала Лена Борис, – нам тебя не треба.
Свидерская, ворча, утряслась из барака.
– Худо, – покачала головой черноглазая Оленка. – Видала, падла, что вы не письмо пишете.
– Байдуже! – ответила Рузя. – Не посмеет стучать, слишком явно будет, ведь никого, кроме нее и нас, в бараке не было.
– Не сразу и настучит.
Прошло с неделю.
Вечером, перед отбоем, надзиратели пришли в барак и подошли к моим нарам.
– Индивидуальный обыск, – сказала надзирательница, ощупывая меня, – следуйте за мной.
Надзиратель остался рыться в тумбочке и под нарами, а она повела меня в кабинет начальника режима.
Там стояли принесенные из каптерки мой чемодан и рюкзак.
– Произвели личный обыск заключенной? – спросил важно начальник режима, одергивая под ремнем гимнастерку.
Надзирательница сказала:
– Осмотрела всю, товарищ начальник. Ничего не найдено.
Он смотрел оловянными глазами:
– Произведите обыск вещей.
Надзиратель вошел:
– Ничего нет, товарищ начальник.
Присоединился к надзирательнице. Она вытряхнула на пол содержимое рюкзака. Щупали каждую тряпку. Я неподвижно стояла у дверей. Косой, низкий солнечный луч прошел за окном по дорожке. Шумно верещали воробьи, у них шло вечернее совещание. Я – неподвижна. Мелкая дрожь под коленками и сухие губы.
– В мешке ничего нет, товарищ начальник!
– Приступайте к осмотру чемодана. Отодвиньте его. Заключенная, соберите барахло в мешок.
Стараясь, чтоб незаметно было, как дрожат руки, я засунула вещи в рюкзак. Опять выпрямилась.
Присев на полу, надзиратели пересматривали и выкидывали все из чемодана. Начальник режима, поскрипывая сапогами, прошелся по кабинету.
– Ничего нет, товарищ начальник, – сказал надзиратель, поднимаясь и захлопывая крышку чемодана.
Начальник удивленно остановился:
– Не нашли?!
– Ничего нет, точно.
Молчание…
– Убирайте барахло, – начальник с силой поддал деревянный чемодан ногой, так что тот перелетел к двери, ударился о порог. Звонко, с треском, лопнуло фанерное дно.
И по кабинету, по порогу и за порог разлетелись бумажные листья.
– Вот! Ловите! – крикнул начальник режима. Надзиратель бросился за дверь, ловить листы по дороге, надзирательница хватала их на полу, будто и тут они могли исчезнуть. – А-а! – торжествовал начальник. – Целый склад! Видали, чем занимается? Следствие разберет, что за бумаги… Раз-бе-ре-ет!
Ему уже виделся орден за открытие нового дела. Оловянные глаза блестели.
Я стояла деревянной чуркой, крепко сжав мышцы лица. Я уже испытывала раньше: холодная лягушка шевелится под ребрами, на ладонях пот, ноги ватные. И чувство пустоты. Но не показать…
– В барак! – сказал начрежима. – Отбой был.
Надо идти спокойно. Не дать гаду радоваться… Надо дойти до барака совершенно спокойно…
Барак встретил меня напряженным молчанием. Не спали, но ни одна не подняла головы – в лагерях не расспрашивают. Я прошла в свой угол, разделась, легла на нары. Напряженные глаза девчат смотрели на меня.
– В последний момент он ударил ногой, и дно лопнуло, – тихо сказала я, – рукописи рассыпались.
Рузя и Галя побледнели. Темные глаза Оленки стали совсем черными.
– Святый Боже! – прошептала она.
– «Мордовка» сгребла их лапами в кучу и бросила в чемодан… А он – прямо лопался от торжества… – Я отвернулась к стене. Умение уйти в небытие, закостенеть – спасительно для арестанта. Оно вырабатывается…
Впереди была ночь опустошенности. Надо ее пережить… Не думать…
– Мару! – тихо позвала Рузя. Стала что-то шептать лежавшей рядом Марийке. Не поворачиваясь, я слышала, Марийка взяла подушку и одеяло и перешла куда-то. Рузя легла рядом со мной. По дыханию мы обе знали, что ни одна не спит. Я – как ощипанная птица. Ощипали живую… Молчу. Идет ночь. Рузя приподнялась и наклонилась послушать. Боится, жива ли? – подумала я машинально.
Не спросив ни слова, она опустилась на подушку. Ночь шла. Барак спал.
На нары беззвучно вползла Галя.
– Иди спать, Рузя, теперь моя очередь… – прошептала она.
Им предстоял день тяжелой работы, но они не спали, дежурили по очереди, чтобы не оставить меня одну. Знали: иногда к человеку подступит такое, что одиночество непереносимо. Но трогать, говорить с человеком не надо. Только следить: не придется ли помочь?
Милые мои девочки, мне помогла, навсегда стала опорой и помощью их молчаливая вахта в ту ночь.
* * *
Утром вызвали к оперуполномоченному.
В кабинете, заполняя диван, лежала груда листов и обрывков тетрадей.
Оперуполномоченный, поднимая глаза от стола, сказал:
– Почему не выполнили приказ? Я вам зачитал приказ, что писать запрещено. А вы продолжаете писать. Вот! – Он жестом показал на диван.
– Я вам тогда принесла чистовики, думая, что это на просмотр. Черновики остались у меня. Вы можете сами убедиться, что это черновики сданного.
– Почему их не сдали?
Я посмотрела ему в глаза и сказала не казенным, человеческим тоном:
– А вы можете себе представить автора, который не постарался бы сохранить плоды своей работы? Не могла же я, своими руками, принести уничтожить то, что делала годы… Так поступил бы каждый. Разве вы не понимаете?
– Пожалуй, понимаю, – медленно согласился он. Встал, взял наименее порванную тетрадь, перелистал. – Действительно, черновик сданного… Но ведь вам обещали вернуть по окончании срока…
– Ну кто мне их вернет? Если бы они еще оставались на лагпункте. А из управления… – Я пожала плечами. – Следователь в тюрьме сжег весь мой научный архив; неужели будут хранить эти рукописи?
Он, видимо, не был кадровым энкаведешником, этот светлоглазый офицер, – человеческое понимание встало в комнате.
– Я обязан вас наказать за нарушение дисциплины, – сказал он, раздумывая.
– Понимаю. Но, гражданин начальник, не отправляйте эти рукописи в управление! Мне осталось полтора года до окончания срока, если они будут у вас, я, может, действительно смогу получить их при освобождении, а там… – я махнула рукой.
Он долго молчал.
– Хорошо… Я их не отправлю. Если буду еще здесь, отдам вам при освобождении… Те тетради я прочел с интересом.
Он посмотрел на меня с добрым мальчишеским любопытством. Он явно не верил, что я враг народа, что справедливо лишить меня возможности писать. Ему, пожалуй, хотелось бы расспросить о написанном, сказать свое мнение, не как оперуполномоченному, а как читателю… Но он только дружески улыбнулся:
– Можете не волноваться, все будет цело…
– Спасибо!
– За нарушение дисциплины я отдам приказ – трое суток карцера с выводом на работу… Можете быть свободны…
Я ушла.
Карцер с выводом на работу? Это почти формальное наказание: целый день ходишь по лагерю, как и все, питаешься не штрафным, а обычным пайком, с бригадой; после поверки отправляешься в карцер, захватив с собой постель, а утром опять выходишь на работу. Начальник режима был явно разочарован.
Но что я буду делать с бумагами, если и получу их при освобождении? Ведь они теперь груда оборванных листов, так перепутанных, что вряд ли я смогу разобраться, когда забуду. Разорванные странички…
Недели две я раздумывала, наконец решилась: пошла к нему на прием.
– Гражданин начальник, вы не отправили мои рукописи в управление?
– Нет, я же вам обещал оставить их у себя, – удивленно сказал он.
– Да, спасибо. Но они превращены в такую кашу, что я боюсь, что через полтора года уже не смогу их разобрать, если их так оставить. Да и вам удобнее хранить их приведенными в порядок.
– Я не имею права выдать их вам на руки, и у меня нет времени, чтобы вы в кабинете приводили их в порядок, – сухо сказал он.
– Это я понимаю. И не решилась бы просить вас об этом. Но, быть может, можно посадить меня в карцер и туда принести рукописи? Там я за два дня все бы разобрала и перенумеровала страницы.
Он посмотрел озадаченно, а потом расхохотался:
– Рацпредложение?
– Ну да!
– Посадить без вывода, с карцерным режимом?
– Разумеется!
– Ну что же, я согласен! Сегодня напишу приказ. Завтра с утра пораньше вас возьмут в карцер и принесут рукописи. Когда кончите разборку, скажите надзирателю.
– Большое спасибо!
В восторге я отправилась в барак. Двое суток сидела я в карцере, разложив по нарам всю груду бумаг и приводя их в порядок: нумеровала, делала пометки, перечитывала стихи, чтобы лучше запомнить их наизусть.
Изредка заглядывал надзиратель:
– Тебе ничего не надо? На прогулку в карцерный двор велено выпускать, когда захочешь.
– Да мне некогда гулять!
– А кипятку тебе принести?
– Спасибо!
Вечером щелкнул замок. Надзиратель вошел с подушкой и одеялом:
– Велено дать постель.
Я сидела за бумагами, пока не стало совсем темно, торопилась. Приказ только на два дня, вдруг да не успею разобрать.
Кончила к вечерней поверке второго дня. Заявила, когда в карцер пришли с поверкой. Рукописи забрали.
– Велено сразу отпустить.
Я, с подушкой и одеялом, отправилась в барак.
Со смехом встретили меня девчата. Побежала в полустационар рассказать друзьям. Там волновались.
– Что это значит? За что опять карцер? – спросила Таня. Я рассказала. – Бывают же и среди них порядочные люди! Так и разрешил, пока не кончишь?
– Видимо, да. Надзиратели предупредительны были чрезвычайно.
– Может, и правда отдаст при освобождении.
– Если будет здесь. Где еще мы-то за полтора года окажемся, могут заслать к черту на рога.
– Во всяком случае, сейчас это здорово, а будущее когда будет!
Все радовались со мной.








