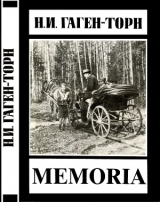
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Н. И. Гаген-Торн
Memoria
Галина Гаген-Торн. Об авторе этой книги
Выписка из метрической книги «церкви Смоленския Божия Матери, что при Императорской военно-медицинской академии», гласит: «Декабря 2-го рождена, а 1901 года февраля 3-го крещена Нина. Звание, имя и фамилия родителей: ассистент Академической хирургической клиники надворный советник Иоанн Эдуардович Гаген-Торн и законная жена его Вера Александровна, он лютеранского, а она православного вероисповедания, оба первым браком».
Нина Ивановна Гаген-Торн – плоть от плоти питерской служилой интеллигенции, четвертое поколение ее. Нина выросла на берегу Финского залива. Семья, еще со времен ее деда, кронштадтского военного врача, обрусевшего шведа, Эдуарда Давыдовича Гаген-Торна, выезжала на лето в лоцманское селение Лебяжье, в 20 верстах за Ораниенбаумом. Там, в Лебяжьем, а позже в 6 верстах от него, в Б. Ижоре, прошло детство и юность Нины. Она лазала на сосны, ездила верхом, ходила в море на байдарке – к ужасу теток, старших сестер отца, пытавшихся опекать семью младшего брата. И закалка вольной мальчишеской жизни очень пригодилась в ее дальнейшей трудной судьбе. Но о дальнейшем она лучше расскажет сама.
Книга кончается возвращением из ссылки в Ленинград. Дальше связных записей нет. Есть отрывочные дневниковые записи, не предназначавшиеся для публикации, с надписями: «После моей смерти никому не читать, дневники уничтожить»; «Читать только Оле» (внучке); «Все мои дневники отдайте в мой архив, в Пушкинский дом».
О днях далеких
Юрию Михайловичу Шейнманну посвящается
Каждому человеку под старость свойственно подводить итоги жизни и хочется рассказать о прожитом. Чтобы не кануло даром в Неведомое, остался хоть тоненький следок, как след Куликовой лапки на песке у реки, в огромных песках Вечности.
Впрочем, желание ухватить и сохранить миг свойственно не только старости – оно залог всей культуры, начало вступления человеческой души в культуру, которая ведь и есть передача накопленного.
Я помню, как оно во мне пробудилось: девочкой я стояла над озером на крутом холме. Озеро блестело внизу светлой латунью. За ним желтели стволы сосен, синели их уходящие вдаль вершины. Волнами переливались. А над ними, у горизонта, – сиял залив и был виден поднятый в небо палец Толбухина маяка. И такая, поразившая сердце, красота жила кругом, что я не знала: куда деться, чтобы охватить и запечатлеть ее навсегда?
Немыслимым казалось, чтобы ушли и стерлись эти тонкие травы с лучистыми глазками ромашек, лепет осиновых листьев над головой, я, стоящая над озером, сосны внизу. Мы все должны сохраниться в какой-то памяти.
«Я нас сохраню! Сохраню навсегда и для всех!» – сказала я им всем. И была уверена, что каким-то, еще неведомым мне, актом сумею создать неувядающую жизнь.
Это было зачатьем творчества. Мне не удалось сохранить для всех ни этих сосен, ни трав, ни этой минуты. У меня, оказалось, не хватило творческих сил, чтобы навсегда и для всех сделать своим пережитое мною.
Что же делать! Если невозможно передать трепет ощущений, личное, надо постараться сохранить хоть то ОБЩЕЕ, свидетелем чему я была и что не выпускается живым и многогранным в печатные памятники нашей эпохи.
Поэтому я не буду рассказывать […] о том, как в юности шумели сосны над моей головой и шумели нараставшим прибоем мысли. О том, как свежее дыхание родного Финского залива пробуждало жадность охватить землю, избегать ее ногами, проплавать ее моря и реки, насмотреться на обитающие вокруг существа.
Не буду говорить о том, что силы казались необъятными, впереди – вечность, и достижима мечта перевернуть мир и сделать его окончательно прекрасным. Это свойственно было многим из нашего поколения.
Я буду говорить […] о том, что я видела «по ту сторону жизни» – в лагерях. И о тех мыслях, которые приходят сейчас, по эту сторону, после того, как я побывала там и вернулась. Я постараюсь нарисовать правдивые портреты людей, о которых вряд ли смогут узнать иначе правду.
Эти мысли не укладываются ни в какую схему, а жизнь нашей эпохи построена по схемам, это ее основной (и неизбежный) закон.
Схемы стесняют свободу, но побуждают к движению. Мне кажется, для мысли они то же, что шлюзы для реки.
Вероятно, полезно заключить реку в шлюзы: ею можно тогда управлять, можно заставить двигать барки. Но мне милее вольная река, вольно несущая яхты, и трепет их белых парусов. И мне необходимо, как вода для жизни, вольное течение мысли, ее сверкание, когда солнце меняет цвета и создает блестящие радуги. Все это осталось на долю прошлого и, может быть, будущего…
Часть I. Юная кайса
Нина тогда напоминала то ли персонаж из скандинавских саг и преданий – юную кайсу, то ли этакую григовскую Сольвейг. Пшенно-белые волосы, голубые глаза, решительный тон… Председатель была избрана очень удачно.
Лев Успенский. Записки старого петербуржца
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
А. Блок
Гимназия
Гимназия. Сначала либеральнейшая, с оттенком демократизма гимназия Стоюниной. Ходили все девочки в голубых сатиновых халатах и легких тапочках, которые оставались в гимназии. Преподавали великолепные учителя: Н. О. Лосский, муж дочери Марии Николаевны Стоюниной, читал в VIII классе логику, а Ив. Ив. Лакрин – психологию. Стоюнинки гордились своей гимназией и своей свободой обращения. Детей не стесняли. Мне позволяли под халатом носить привычные мне штаны и матроски. Мы с Татой Глебовой и Мухой Гвоздевой, трое из нашего класса, ходили одетые мальчиками. Четыре года я училась у Стоюниной, но потом мы переехали на Бассейную улицу, в «кадетскую крепость», как называли эти кооперативные дома Товарищества. Там жила обеспеченная профессорская интеллигенция, жил и Радичев, бывал Набоков – левокадетские лидеры. Отец дружил с ними. Он к этому времени стал профессором военно-медицинской академии. Демократизм несколько выветрился из нашего дома и принял другие формы. Мама продолжала считать, что «люди», то есть кухарка и две горничные, должны питаться так же, как и «господа». Однако «господа» ели вдоволь – «людям» же к обеду полагалось по половине рябчика и по одному куску сладкого пирога на десерт. И хотя мама и говорила, что надо бы каждой дать хотя бы по маленькой комнатке, людская была одна на троих.
Меня перевели в другую гимназию. Это мотивировалось тем, что я ни за что не соглашалась, чтобы за мной приходила в гимназию прислуга, а мама не соглашалась пускать меня одну через Невский.
В гимназии княгини Оболенской сняли с меня мальчишеские штаны, надели коричневое платье с черным передником и запретили носить носки. Это было первое и неодолимое насилие надо мной. Дисциплина и «хорошее поведение» сказывались и в том, что в «большом зале» на переменах старшим классам не позволялось бегать, а для игр отводился лишь примыкавший к нему «малый зал». А в нижний этаж, где проводили свои перемены маленькие, нас не пускали. У меня бывали приступы тоски и потребность какой-то разрядки.
Отрадой и утешением были уроки истории. Древнюю историю преподавала Наталия Давидовна Флитнер, египтолог, работавшая в Эрмитаже (потом, взрослой, я встречалась с нею). Средневековье преподавал Алексей Георгиевич Ярошевский. Он прочел нам отрывок из «Песни о Роланде», рассказал о рыцарских турнирах. Советовал прочесть «Айвенго» и вообще прочитать Вальтера Скотта. И вот нахлынула вдруг на меня потребность разрядки! И я стремительно решилась – устроить в гимназии рыцарский турнир!
В «малом зале» из стульев сделали возвышенный трон. Были выбраны король и королева. Облачившись в какие-то мантии, распустив локоны, они уселись на троне. Были выбраны рыцари и кони – две здоровенные толстые глупые девы, охотно шедшие на всякие шалости. «Рыцарь» Нина Мелких написала стихи:
Герольд обходит государства
С большой серебряной трубой —
Герольд, что с серыми глазами
И золотыми волосами,
Обходит герцогства и царства
И кличет рыцарей на бой.
Герольдом была я. Серебряная труба – свернутая трубкой тетрадь. А герцогства и царства – соседние классы. Зрители турнира охотно набежали оттуда. Герольд и поэт – две Нины – превратились в рыцарей и сели на «коней». Портфели были щитами, а длинные линейки – мечами. Кони ржали и гарцевали. Мы выехали на середину круга перед троном и только собрались скрестить мечи, как появилась дежурная классная дама и, стащив нас с «коней», повела всех в директорскую. Но в директорской был инспектор и наш историк – Алексей Георгиевич. Классная дама, пылая гневом, рассказала им всю сцену.
– Ведь не мальчишки – девочки, из приличных семей, и устроили публичную драку! Чем это могло кончиться?
Алексей Георгиевич поправил очки и торопливо разгладил бородку.
– Что же это, девочки? – сказал он укоризненно. – Ну разве мыслимо драться публично?
– Это вовсе не драка, Алексей Георгиевич, – сказали мы обе, – это был настоящий рыцарский турнир.
– Мы хотели устроить военные состязания, – пояснила я.
– Необходимо поставить в известность родителей, – сказала классная дама.
– Да, да, мы разберемся на педагогическом совете, – заверил ее Алексей Георгиевич. – Ступайте, девочки, и, пожалуйста, чтобы этого больше не было.
На педагогическом совете, кажется, очень смеялись, как сообщили нам нянечки. Дома я рассказала за обедом сама.
– Далекое отражение военного времени в детской психике, – заметил отец, торопясь на прием.
Шел 1914 год, война была летом объявлена, но еще не очень чувствовалась в быту тыла. Может быть, и правда, это она давала такие «отражения»? Но мне хочется сказать не о том, как отразилась на нас война, передать не быт эпохи, а те картины, которые, казалось, были записаны во сне. Они – черточки того, что стало потом фундаментом моей молодости, ее трудностью и ее силой. Пожалуй, это было чувство свободной уверенности в себе, в праве быть самим собой и идти своим путем, обязательно раскрывающим впереди горизонты.
Литературу преподавала Ольга Владимировна Орбели, жена Рубена Орбели, брата Леона и Иосифа Абгаровичей, человек, несомненно, культурной среды, но культуры XIX века. Она не понимала и не любила культуру начала XX века. Помню, она дала нам сочинение на «вольную тему».

Семья Гаген-Торн. 1910 г.
Слева направо: мать Вера Александровна, отец Иван Эдуардович, Нина, Мария Оскаровна (племянница) с мужем Сергеем Ивановичем Фрейбергом, Оттилия Эдуардовна Гаген-Торн (тетя Тиля)

Нина Гаген-Торн, выпускница гимназии, председатель ОСУЗа. 1916 г.
А я тогда только что с упоением прочитала Рабиндраната Тагора и стала писать о нем. Незаметно, ловя что-то звеневшее в воздухе, я написала ритмической, в аллитерациях вьющейся прозой, и Ольга Владимировна подумала: Андрей Белый! Декадентство… Она прочла в классе вслух мое сочинение, иронически подчеркивая все аллитерации. Класс хохотал. Я не была уязвлена или обижена, нет, я взбунтовалась. Распахнув двери, я закричала:
– Бэби, кататься!
И толстая Бэби, мой конь из турнира, с топотом прискакала ко мне. Размахивая мечом-линейкой, я вскочила к ней на спину, и мы помчались по залу. Конечно, вскоре нас поймали и отправили в директорскую.
– Что это – опять Гаген-Торн? – с упреком сказала кроткая Елизавета Николаевна Герцфельд, директриса. – Что это, Бэби?
– Елизавета Николаевна, Бэби тут совсем ни при чем, она просто не поняла, что делает. Виновна – я. Но я просто не могла удержаться. Надо было вылить обиду!
– Какую обиду?
– Ольга Владимировна прочла вслух классу и осмеяла мое сочинение. А я, правда, писала как умела, стараясь передать свое впечатление от Рабиндраната Тагора… Очень сильное впечатление. Я и не слыхала об Андрее Белом. Я написала, как я Тагора почувствовала, а Ольга Владимировна все сделала таким смешным! – И, о позор, у меня брызнули слезы! Я торопливо утерла их измазанным мелом кулаком.
– Но вы же большая девочка, Гаген-Торн, расскажите связно!
Я взяла себя в руки и сказала:
– Понимаю, это глупо – скакать по залу, но это от неожиданности и отчаяния просто!
– Ну, ступайте, успокойтесь, можно же было найти другие формы для выражения вашего волнения, – вздохнула Елизавета Николаевна.
Очень сложно передать сейчас чувства подростка: я действительно была оскорблена и взволнована и, если бы я была ранима, это могло бы стать глубокой раной. Но тут был скорее бунт горячего жеребенка, который, если неосторожно его хлестнуть, несется очертя голову до пропасти не от страха и боли, а от бунта. Не успокой его – он и в пропасть прыгнет не заметив. Что надо делать? Вероятно, спокойной и твердой рукой держать вожжи. Не останавливать и не нахлестывать жеребенка, а сильной рукой дать почувствовать – сдержись.
Но в то время интеллигентные воспитатели больше всего думали о ранимости души ребенка и боялись его обидеть. Поэтому был созван специальный педагогический совет. Я, конечно, узнала об этом, как всегда, от нянечек, с которыми из принципа демократии дружила и часто забиралась к ним в комнату.
– Ольга Владимировна на совете волновались, даже заплакали, – сообщила нянечка Настя, – все про вас говорили, барышня, поминали влияние какое-то вредное. А им все про душу ребенка отвечали Алексей Георгиевич и Данила Александрович, который химии обучает.
– Ну и что? – спросила Нина Мелких.
– Да Ольга Владимировна сказали: признаю, что неправа.
Мы засмеялись.
– Пойдем, ребенок, ловкий ребенок! – сказала Нина.
И мы убежали, торжествуя победу. На следующем уроке Ольга Владимировна после звонка задержала класс на минутку.
– Гаген-Торн, – сказала она, – я должна сказать, что была неправа, иронизируя над вашим сочинением. Я вовсе не хотела вас обидеть.
– Ну, а я повела себя вовсе глупо, – призналась я с ноткой великодушия.
Надо ли было это делать ей? Надо ли было так решать на педагогическом совете? Вероятно, да! Для нервной и чуткой девочки это могло действительно стать серьезной травмой. И они – гуманные и вдумчивые учителя – были правы, опасаясь за душу ребенка. Но для меня, вероятно, нужно было другое – серьезный и вдумчивый разговор, а не это публичное извинение. Оно только добавило мне и без того достаточно сильное чувство «победительности», уверенности в том, что я могу и сумею сделать то, что захочу.
Я не была ни избалованной, ни злой, но во мне жила абсолютная уверенность в своей свободе. В седьмом классе все дрожали на уроках химии. Данила Александрович не был очень строг, он был презрителен и беспощаден к барышням. Шла зима 1916/17 года, и уже пахло в воздухе чем-то непонятным и тревожным. Какие-то слухи ползли по городу. И поэтому особенно оскорбительно-презрительной была его манера вызывать к доске. Он громко называл фамилию. Фигурка в коричневом платье и черном переднике вздрагивала и выходила к доске.
– Лепечите, милая барышня, – говорил он, откидываясь на стуле.
И смущенная барышня начинала действительно лепетать.
– Гаген-Торн!
Я вышла к доске.
– Лепечите, милая барышня.
Я повернулась и молча пошла на место.
– Что, ни слова не знаете?
– Нет, знаю, но я не барышня и лепетать не умею!
«Данило» расхохотался:
– Тогда отвечайте как умеете, уважаемый товарищ!
Класс зашушукался.
Это было в предфевральские дни, и «Данило» приписал происшедшее «демонстративно революционному поведению», которое он, видимо, одобрял. А у меня это не было обдуманное поведение, просто вновь взбрыкнул норовистый жеребенок.
И уже через несколько недель этот жеребенок понесся без всякой узды в Организацию средних учебных заведений (ОСУЗ), стал членом президиума Центральной управы. А Центральная управа ОСУЗа играла в парламент, упоенно и страстно готовясь к тому, что все мы когда-нибудь станем министрами и разделим портфели. Лев Успенский неплохо написал об ОСУЗе в своих «Записках старого петербуржца». Но, конечно, все было гораздо сложнее, чем написано у него. Сложнее и труднее у интеллигентских подростков, сплошь интеллигентских, даже рафинированно интеллигентских, проходил этот переход от Старого мира в мир Неведомый.
О, конечно, мы с радостью растаптывали Старый мир, мы были уверены, что будем создавать социализм. Но создавать на парламентский манер, своими интеллигентскими руками.
В то время ходила в ОСУЗе, как во всяком молодежном вертоплясе, песенка:
Там эсеры топят печи,
говорят в управе речи,
Революцию проводят,
всей управой верховодят.
И я усердно топила эту печь в каком-то холодном классе, где была наша база, и «входила в контакт с организацией учителей». Они были растеряны, старые и глубоко деликатные в своих проявлениях интеллигенты.
– «Предатели, погибла Россия», – шептали они слова Блока из поэмы «Двенадцать». А мы не были растеряны: мы наслаждались стремительностью шторма и организованностью своих выступлений. Мы не вполне знали, за что следует бороться, но были восхищены своей организацией, правом выпускать газету «Свободная школа», своей шестнадцатилетней взрослостью и тем, что почетным председателем и редактором нашей газеты был Владимир Пруссак – талантливый молодой поэт, впоследствии рано погибший от сыпного тифа. Он был витмаровец – ученик гимназии Витмара, где в 1914 году была раскрыта революционная группа. Эту группу тогда арестовали, и всех мальчишек выслали в Сибирь. Пруссак вернулся в Питер в первые дни февраля, стал одним из организаторов «Свободной школы» и ОСУЗа. Странно писать обо всем этом, странно, что все это было и быльем поросло, что об этом почти забыли мы сами, о том, что у нас, семнадцатилетних, была твердая уверенность в полной, абсолютной свободе мысли и свободе слова. О том, что Старый мир лопнул, развалился окончательно и совершенно. Мы, конечно же, были за советскую власть! Она – порождение и проявление Нового мира, где все будут свободны и все будет разумно. А то, что поколение наших отцов сопротивляется и негодует на грубость и резкость приемов в переделке мира, мы расценивали как результат инерции, накопленной в Старом мире с его условностями. Мы – отвергали все условности! Верили, что мы, молодежь, и построим Новый мир, договоримся со всеми, кто молод душой и понимает: все старое будет кончено навсегда! А пока мы должны создать свободную школу и перейти в не менее свободный, по-новому дышащий университет.
Но тут своевременно сказать несколько слов о предреволюционной зиме 1916/17 года, когда я увлеклась Владимиром Соловьевым, его философией. Нет, это было не увлечение, а глубокое, всем сердцем, всем пылом шестнадцати лет вхождение в философию.
Отец мой, как полагалось просвещенному медику и кадету, был атеистом. А я, по исконной традиции русской культуры, довольно рано стала искать выхода в антитезу. Это – обычное явление русской культуры: «отцы и дети». Но, воспитанная в атеизме семьи, уже к двенадцати годам я к церкви относилась скептически, а к Закону Божьему, преподаваемому в гимназии, тем более. В нашем классе было просто плохим тоном – всерьез относиться к урокам Закона Божьего.
Не помню, в шестом, или седьмом классе появился у нас новый законоучитель отец Иоанн Егоров. Он знал, конечно, об отношении к его предмету девочек дворянско-интеллигентской среды. У одних – прикрытое воспитанностью хорошего общества, у других – откровенно скептическое. Но, так или иначе, учить всерьез уроки Закона Божьего, конечно, никто не считал нужным. Трудно, вероятно, приходилось отцу Иоанну. На кого опереться? И, верно, был он не только образованный, но и неглупый, не склонный к рутине человек. Не знаю уж как, но он все же сумел найти подход и однажды, не без труда преодолевая вежливый, но явный скептицизм, начал рассказывать нам о работе Владимира Соловьева «Три разговора». Отец Иоанн знал, что для большей части класса она была не по силенкам, но ему надо было овладеть наиболее способной, развитой и, конечно, поэтому наиболее скептически к нему относившейся группой из пяти девочек, куда входили и Нина Мелких, и моя ближайшая подруга Аня Ольдерогге – страстный, уже оформившийся микробиолог, – и я. Он так пересказал нам эти «Три разговора», что мы сидели, затаив дыхание, забыв все, видя только блистательные образы «доктора Паули» и «белого, как свечка, отца Ибанна». Батюшка назвал нам и имя автора – Владимир Сергеевич Соловьев, профессор университета.
Мне так ясно представляется этот гимназический урок, когда о. Иоанн рассказывал нам о «Трех разговорах» В. Соловьева. Сам он крупный, с грубоватыми русскими чертами лица; полуседые пышные волосы чуть выше плеч и поднятая вверх рука в широком рукаве рясы. Говорил он вдохновенно. Я не знаю, что он за человек и какова его дальнейшая судьба, но сегодня благодарность к нему согрела меня. Он давно умер, конечно, пусть будет легок путь его в другие миры Царства Божьего.
И с тех пор я почувствовала, что не могу жить и думать, пока не найду книг Владимира Соловьева. Добывать, покупать книги сама я еще не умела. Где достать Соловьева? К счастью, однажды с визитом к маме пришла одна благодарная папина пациентка – светская дама нового стиля и нового века, не знавшая, как отблагодарить отца за удачную операцию. В разговоре она узнала, что я интересуюсь Владимиром Соловьевым, и подарила мне к Рождеству «Полное собрание сочинений» этого философа.
Я набросилась на «Три разговора». И – вступила в неведомый мир. Бессознательно, бунтарски мне был неприемлем отцовский позитивизм, не устраивали предлагаемые мне услужливо Бокль или Спенсер и «История греческой философии» Льюиса. И разговоры достопочтенного Петра Бернгардовича Струве, бывавшего у нас дома, не устраивали меня.
И вдруг – мир стал восприниматься совершенно с другой стороны.
Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами…
В. Соловьев
А дальше пришел Блок. Летом 1916 года Виталий Бианки дал мне томик Блока, а его старший брат, Анатолий Бианки, – нелегальные брошюры. Блок был, безусловно, важнее и интереснее. И он сразу, еще бессознательно, был угадан в сиянии Соловьева. Я в то лето добросовестно, по Льюису, конспектировала историю греческой философии, сидя у окна моей угловой комнаты на Приморском хуторе. В окно наблюдала, как папа играл в теннис с племянником Сашей, и заставляла себя не мешать им, пока не закончу заданный самой себе на сегодня параграф греческой философии. Довольно скучным, но необходимым казался мне Льюис. Вероятно, он был и в самом деле полезен. Но – огнем и мечом, и животворящим вином вошел Блок, как на скале возвышаясь на сверкающих образах Соловьева. А осенью Женя, самый близкий мне двоюродный брат, погодок, с которым я вместе росла, поступил в университет, купил и принес мне «Симфонии» Андрея Белого.
Весь мир зазвучал, как симфония, и я не заметила, что он сорвался со стержня и мячиком катится в революцию, подпрыгнув в нее в последние, снежные дни февраля.
Тут уж и Блока, и Белого закрыли, сверху легли брошюрки: «В борьбе обретешь ты право свое»… И рыжеватая бородка Толи Бианки подносила мне их, передавая «от Льва» – старейшего из братьев Бианки, человека вполне взрослого и позитивного. Он был в тот период энтомологом и писал «О лесных клопах».
Как обычны, как чрезвычайно обычны мои старческие воспоминания! Многие тысячелетия переживают их люди в старости. Надо ли их писать? Но время было не обычным. Так много вмещалось в каждый год того времени, так много менялось, что остались в памяти только ослепительно-резкие, как на бурном закатном небе, смены красок. Не буду вспоминать все подряд, а набросаю лишь основные этапы и разделю воспоминания на два потока. Самый глубокий и внутренний – воспоминания о Вольфиле[1]1
Вольно-философская ассоциация, возникшая в Петрограде в 1919 г.
[Закрыть], о встрече с Борисом Николаевичем[2]2
Борис Николаевич Бугаев – Андрей Белый.
[Закрыть], изучение Владимира Соловьева и Канта, прапамять чего-то извечного.
Это кристаллизовалось в стихах:
На меня, веселую птицу,
Бог наложит тяжелый крест.
По ночам мне часто снится
Золотой берестяный шест.
И летают кругом сороки
И стрекочут: «Пора, пора!»
Да, я знаю, приблизятся сроки,
Облетит золотая кора.
Кому путь крестом осияли,
Тем о счастии – нельзя просить.
Мне ведь только недолго дали
Здесь так просто и радостно жить!
«Здесь» – это в университетском общежитии, где жила наша коммуна. Где были и страстные споры, и трехсуточные вечеринки с выходом для танцев на Дворцовую площадь, были занятия в семинарах сразу – у Э. Л. Радлова по философии и у С. И. Солнцева по доклассовому обществу и лекции Л. Я. Штернберга по этнографии.
Это состояние души вылилось в такие строки:
Никого нет меня счастливей
На круглой земле!
Розоватые яблоки, вербы и сливы
Расцветают во мне.
Это вспомнившиеся стихи того времени. Все остальное осталось в недрах НКВД. Так вот двумя потоками и разбиваются воспоминания.
Возвращаюсь к зиме 1917/18 года.








