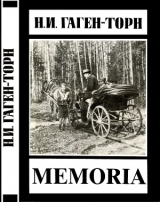
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Живут трудно, «несут подвиг». Едят хлеб да «тайную милостыню» – то, что молчаливо кладут им сочувствующие.
За отказ от работы их периодически сажают в холодный карцер, на триста граммов хлеба. Они в карцере поют церковные службы. Ежедневно и еженощно.
Раз посадили на месяц – больше уже не полагалось держать в карцере.
– И этого не вытянут, – говорили в лагере, – перемрут.
– Так и пусть подохнут! Нечего своевольничать, работать надо! Нашли тоже: работать грех! Ну, сами себя гробят.
– А все-таки жалко… Не вытянут.
Но они вытянули: вышли через месяц, держась за руки, с пением молитв.
Периодически их то объединяли в одном бараке, чтобы изолировать от остальных, то рассовывали в разные бараки поодиночке, чтобы не поддерживали друг друга.
Зимой группу «монашек» выгнали за зону – разгружать вагоны дров. Они встали и стали петь.
– Пустите собак! – крикнул начальник лагеря.
Овчарок спустили, они кинулись. Женщины стояли неподвижно, медленно крестя воздух перед собой. Собаки остановились: они приучены бросаться на сопротивляющегося или бегущего. Неподвижность и бесстрашие смутили собак. Они взлаивали, поворачивали головы к вожатым: «Что делать?»
Начальник приказал отозвать собак.
Анну Ивановну поселили ко мне в барак, чтобы изолировать от своих. Она тихо сидела или лежала на верхних нарах, пока люди были в бараке. Когда уходили на работу, спускалась и начинала молиться, глядя на восток.
Большинство относились к ней отрицательно:
– Мы работаем, а она дармоедничает. За наш счет хлеб ест…
– Разве за ваш? Ведь вы за нее норму не делаете? Каждая за себя.
– А если все так не будут работать, тогда как?
– Ну, это ведь дело государства…
– А почему мы мантулим, а они будут припухать? Пусть тоже работают. Не лучше нас… Нашли грех – работать нельзя! Одна упрямая глупость! В праздники и мы работать не выйдем, – говорили субботники и баптистки, – а в будни – Бог труды любит.
Когда все ушли из барака, а Анна Ивановна, окончив молиться, стояла у печки, я подошла к ней.
– Анна Ивановна! Люди-то приходят какие усталые! Надо им услужить?
– Надо бы, конечно.
– А у дневальных сколько дел! Тоже старухам нелегко…
Она молча смотрела на меня.
– Анна Ивановна, помоги людям! – сказала я, кланяясь. – Ведь ты не на лагерную власть, на людей поработай!
– А ты не скажешь дежурным?
– Не скажу…
– Тогда буду в бараке подсоблять. Людям помогать буду с радостью, но тайно: чтобы власти не знали.
– Ладно.
И она стала убирать в бараке.
Девчата
Старосту не гоняют на работу – она сама должна ее организовывать. Оставалось время присматриваться к лагпункту.
В зоне 12 бараков. Столовая, баня, больница, каптерка, контора начальства.
В конце зоны отдельная часть: швейная фабрика. В ней особая проходная с вахтером. Туда пускают и оттуда выходят только строем производственницы. Они сидят по 10 часов, по конвейеру сшивая детали. Строем выходят на обед, на ужин, после ужина – к себе в бараки. Их бараки расположены у самой фабрики. Они считаются лучшими, там «созданы бытовые условия»: не так тесно стоят вагонки нар, на каждые два человека поставлена тумбочка. Стол в середине барака накрыт белой скатертью, на окнах – марлевые занавески. Только некому, кроме дневальной, сидеть за этим столом: возвратившись с работы, умывшись в умывальной, девушки валятся на нары от утомления.
Мы, лагерная обслуга, убирали территорию на производстве. Это был субботник – очистить землю от мусора, вскопать грядки, посадить цветы вдоль трех корпусов швейной фабрики. Зашла в корпуса: такой же, не отличающийся от жилого, деревянный барак. Длинные столы в два ряда. На столах – швейные машины. Машины поставлены в ряд с плотностью, позволяющей вертеть ручку и откинуть соседке отстроченную деталь: рукав, карман, воротник. Под низким потолком слепят глаза яркие лампы. Грохочут машины. Воздух полон пыли, мелких волокон от простегиваемых бушлатов. Дышать трудно. Некогда дышать, конвейер идет, требует норму, норму, норму. Если ее не выполнят за 10 часов, оставляют еще на час, на два. При систематическом невыполнении – штрафной паек: уменьшают пайку хлеба, снимают второе блюдо. За перевыполнение обещают дать выходной день в конце месяца, устроить… «танцы с мальчиками» – привести под конвоем тоже перевыполнивших норму на мебельной фабрике с мужского лагпункта.
И как соблазнительна многим эта возможность. Встретиться с заключенными другой зоны! Узнать вести, может, увидеть брата, жениха, след которых потерян. Может, просто забыться, отплясывая под баян. Не может ни один человек выжить совсем без минуты радости, как не может выжить без еды и питья. Минуты смеха – физиологически необходимы. Это понимает начальство лагеря: чтобы девушки хорошо работали, оно разрешает вечера самодеятельности – этим можно выжать перевыполнение плана.
Две сотни девушек перемалывает мясорубка 10–12-часовой напряженной работы. Они спрессованы в массу, управляемую чужой волей. Лишены родных, движения, свободы, брошены в страшное одиночество и тоску. Если совсем лишить их развлечений, они станут вялыми в работе, сорвется план фабрики. Начальство объявляет: в конце месяца при перевыполнении плана будет выходной.
Девушки работают до обморока, подгоняя друг друга, – перевыполняют. Иногда их обманывают, не дают выходного, иногда – дают.
Топая тяжелыми ботинками, строем, под конвоем, приходят мужчины. В лагерной столовой – сцена. Занавес из актированных одеял украшен аппликациями художниц, которые участвовали в самодеятельности.
Отодвигают столы, рядами ставят скамейки. По одну сторону прохода конвой велит сесть мужчинам, по другую сторону – женщинам: как в церкви когда-то. Выступают и те и другие, по очереди. Поет мужской хор. Гулко и странно звучат низкие мужские голоса, ударяются в темный потолок столовой. Мы отвыкли слышать мужскую речь, видеть лица мужчин. Они смотрят на нас. В глазах у них нежность. «Бедные девушки, тяжело им», – шепчет кто-то. А у девушек колет сердце: латаные телогрейки, бритые головы, застиранные штаны: «Хлопцы вы, хлопцы!»
Звенит слезами женский хор, поет украинские песни. Хмурятся жалостью мужские лица. Идет безмолвный разговор.
Иногда следует милость начальства – танцы. Тут уж не безмолвное общение: можно и поговорить, передать записки, действует лагерная почта, за сотни километров переносящая новости.
– Становись в строй!
Обрывается баян. Серо-черные фигуры мужчин становятся строем, топают по дороге через вахту, в свою зону.
– Прощайте!
Встречи такие бывали в первое полугодие нашего пребывания в 6-м лаготделении. Тогда только начинали строиться рядом мужской лагпункт и мебельная фабрика. Еще не успели выстроить столовую, и мужчин строем водили в нашу, после того как отобедают женщины.
Их временная зона примыкала к нашей. Около уборной даже бровки не было, одна выгребная яма, уборные разделены только досками.
Когда и как умудрились оторвать доску, чтобы не слышали часовые на вышке? Не знаю. Вечером из уборной пробежали в наш, ближний барак четыре тени. Головы повязаны платками, одеты – в брюки и телогрейки, как все зазонницы на работе. Только рост что-то больно высок.
Я обходила барак, смотрела, хватило ли кипятку.
– Пани староста, – шепотом остановила меня дневальная, – не ходите, прошу дуже, у крайну секцию.
– А что такое, пани Бут?
Она усмехнулась виновато и умоляюще:
– Хлопцы там, наши хлопцы со Станиславщины… Прийшли до девчат своего села. Не тремайте их, пани староста!
– Хорошо, пани Бут, – шепотом ответила я. И громко крикнула: – Пани Бут, я пойду в КВЧ до отбоя. Если кто спросит – я там.
– Добре!
Когда я вернулась, никого уже не было.
На другой день топали строем мужчины в столовую. Четыре рослых парня приподняли смушковые шапки и усмехнулись мне.
– Зятья идут! – сказала дневальная соседнего барака. Я ничего не ответила.
Зашла раз в соседний барак. Увидела на верхних нарах голубоглазую девочку-подростка с толстой светлой косой. Она повернулась, и я вздрогнула: пустой рукав – руки нет от самого плеча.
– Откуда она? – тихо спросила соседку внизу. – Разве был новый этап?
– С ЦЛБ. Девчата рассказывали: ее из тюрьмы прямо на ЦЛБ отправили, в одиннадцатый корпус… На следствии электричеством пытали. Год в одиннадцатом корпусе пробыла. Теперь – ничего. Только нельзя поминать.
11-й корпус на ЦЛБ (Центральной лагерной больнице) – психиатрический.
– А где взяли?
– Во Львове. Из школы. За стихи, говорят.
– А рука?
– Не знаю. В лагеря уж безрукой попала. Девчата ей косу расчесывают и заплетают. Галей зовут. Украинка[13]13
В рукописи «Галя С.». По вполне понятным причинам автор не называет полную ее фамилию – Сокол. (Примечание Г. Ю. Г.-Т.)
[Закрыть].
Недели три не находили работы для однорукой. Галя сидела на верхних нарах, присматривалась. Постепенно нашла подружек. Немало девчат с Западной Украины. Она заметила Рузю и Оленку, которые дежурили у брамы – ворот в столовую. Столовая отделена от зоны забором. Туда велено ходить только строем и без строя никого не пускать. У ворот сторожат две девчонки. А каждому хочется первым прорваться, место занять. Смуглая, черная, как уголек, сверкает глазами:
– Кажут вам, дивчата, – не ходить, нельзя! Кажут же! Другая, беленькая как булочка, пунцовеет, надрывно кричит:
– Что мы поделаем? Не разрешают без строя пускать! Прибежавшие из цеха девчата то переругиваются, то смеются:
– Дывись, Оленка гавкает, як пес!
– А что я можу? – обиженно кричит Оленка. – Таке мое дило: ставлят, шоб не пускать.
Видя, что надзирателей нет, машет рукой и отходит от ворот. Беленькая, по-детски надув губы, тоже отходит, отворачивается. Толпа врывается в ворота. Толкучка у раздаточных окон. Получавшие хватают миски, торопливо усаживаются на лавки, к столам.
А у ворот черноглазая Оленка и беленькая Рузя опять силятся не пустить новую партию, пока не освободятся места.
В КВЧ поступили книги – неожиданно разрешили выдавать заключенным. И вот тогда-то я разговорилась с беленькой Рузей: она лежала на нарах в бараке и читала «Киевскую Русь» Б. А. Грекова.
– Интересно? – спросила я.
– Даже Киев от нас украли, – ответила она, сверкнув глазами на детски пухлом лице.
– Почему украли? Ты с Грушевским сравниваешь? – догадалась я.
– Конечно! Грушевский написал правдивую историю Украины, а этот – москаль… – не могла удержаться она и резко отодвинула книгу.
– В науке, Рузя, всегда были и будут разные точки зрения. Только так и может двигаться наука, выясняется новое. Греков не «украл», как ты говоришь, Киев от Украины для Руси. У него просто другая точка зрения, чем у Грушевского. И мне кажется – более правильная.
Она смотрела недоверчиво.
– Ну, скажи: жил, допустим, какой-то Петр. У него сыновья: Иван да Степан. Иван ушел жить на север, Степан – на юг. У них появились дети, внуки. Если Степановы внуки будут кричать: Петро наш дед, а не ваш! А Ивановы отвечать: наш! В морду дадим! Умно будет?
Она усмехнулась.
– Ну чей дед Петро?
– И тех и других.
– Так и говорит Греков. А Грушевский кричит: наш! Киевское государство объединяло многие восточнославянские племена. Оно распалось. На севере образовалось Московское государство, на юге Украина в муках отстаивала свою культуру от Польши, от татар, от турок. Создалось два народа, но корень их общий – Киевское государство, объединявшее восточных славян.
– Москали не славяне – помесь финнов, чуди, мордвы.
– Чистых рас вообще нет. А почему у этой помеси сохранилась память о Киеве, о князе Владимире как о своих предках, а у вас потерялась? Былины-то живы на севере! Есть у вас песни о киевских богатырях?
Она недоуменно посмотрела на меня, проронила:
– У нас думы.
– Да, о гайдамаках, о турецкой неволе – это история, когда создавался украинский народ. А Северное Поморье сохранило более древний пласт. Это достовернее любых концепций ученого. Почему именно сохранились на севере – это другой вопрос, но ведь не историки это придумали.
Она беспомощно посмотрела. Потом сказала:
– Вы образованнее, я просто не нахожу возражений.
– Дело не в образованности, Рузя, я ведь тебе ничего не навязываю. Даю факты. Разбирайся сама.
Так начался ряд длинных разговоров. Мы стояли на поверках в рядах. Стоять приходилось подолгу – всегда что-нибудь не сходилось: то больше, то меньше людей. Надзиратели проходят, по нескольку раз пересчитывают из конца в конец две тысячи женщин.
В ожидании говорю:
– Хотите, девушки, послушать стихи?
Надо чем-то время заполнить. Стоят, переминаясь с ноги на ногу, по пять человек в раду. Рузя и Галя соглашаются почти равнодушно, и я начинаю:
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет…
На лицах проступает внимание.
– Это чьи стихи? – спрашивает Галя.
– Алексея Толстого. Не современного писателя, а поэта девятнадцатого века. Он вырос в имении на Украине и много писал о ней.
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Темно-голубые…
Слушают. Все отрешенней от лагеря, все нежнее улыбаются глаза.
На следующей поверке становятся рядом со мной. Просят:
– Читайте стихи. Алексея Толстого!
Одну за другой я читаю баллады про Киев, про Гаральда Гардрада, про богатырей и змея Тугарина.
– Вот как украинец писал о Киевской Руси, девчата!
– Какой он украинец, он по-русски писал.
– Гоголь тоже по-русски. Вы и от него отрекаетесь?
– Нет, но непростительно, что писал по-русски.
– А кто бы стал его читать по-украински в то время? Шевченко писал по-украински потому, что это думы и страдания простого народа – «крепаков». Он находил нужные народу слова о его жизни. А Гоголь воспитывался на русской культуре и по-русски, ему важно было всем рассказать об Украине. Вы поймите, девчата, что украинской национальной культуры тогда не существовало. Она не могла создаться без интеллигенции, без школы, а школы не было – верхушка украинского народа или ополячивалась, или обрусевала. Чтобы создать свою культуру, надо было сначала на русской дудочке сыграть украинский мотив. (Я под дудочкой подразумеваю культуру, понимаете?) Вот Гоголь и дал Украину всему белому свету. А написал бы по-украински – никому бы не дал, потому что читать было некому – неграмотные. В русскую культуру всегда шла сильная волна с Украины. В XVIII веке из Киева на Москву пришли и Магницкий и Авраамий Палицын. В XVIII – Кантемир, в XIX – Гоголь и Алексей Толстой.
И Рузя и Галя усмехаются. Довольны.
– А русские, – прибавляю я, – умели учиться. Это основное достоинство русской культуры – уметь осваивать чужое.
Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений.
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Так Блок сказал. Ты слышала про Блока, Галя?
– Нет.
– Величайший русский поэт начала двадцатого века с нерусской фамилией. Как-нибудь почитаю вам Блока.
Блока надо было осваивать постепенно и медленно – выбирать и читать то, что может зацепить. И перемешать с гражданской простотой Некрасова. Я уже знала по Колыме и по второй тюрьме безошибочное действие «Русских женщин» – это доходило до каждого заключенного. Над Волконской и Трубецкой все одинаково плакали.
Лагерный день, как веревками, стянут работой. Но время поверки было наше. Можно было, не выходя из строя, разговаривать. Умственный голод не менее насущен, чем физический. Голод на стихи – особенно. И вот установилось – меня заводили, как патефон: на все время поверки. Кругом стояли и слушали.
О себе
У всех народов при похоронных и свадебных обрядах были плакальщицы. Они необходимы. Душа человеческая, наводненная силой переживаемого, теряется перед болью. В растерянности и бессилии перед совершающимся ищет форму, структуру переживаемого. Для этого необходимо его ритмизировать. Человеку часто не хватает сил создать ритм самому. Он нанимал плакальщиц, чтобы они организовали его растерянность перед горем. Дали художественное воплощение.
Так было в примитивных формах культуры. При усложнении человек мог всегда для выражения своих переживаний получить готовую форму: к его услугам книги, концерты, картины. Все сложное тысячелетнее накопление культуры.
В лагерях мы, интеллигенты, были лишены привычного культурного наследия. Мы испытывали голод ума, лишенного привычной пищи – работы.
Пласт за пластом были сняты верхние корки сознания. Оставался трепещущий пульс глубинного слоя. Его можно было питать только стихами. Ведь только стих утверждается в памяти без бумаги и книг. Я в лагерях практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен – иначе не запомнишь, не затвердишь. Книги были у нас случайностью. Их то давали, то лишали. Писать запрещали всегда, как и вести учебные кружки: боялись, разведут контрреволюцию. И вот каждый приготовлял себе сам, как умел, умственную пищу.
Чтобы сохранить себя, внутренне нужно было найти отключатель от лагеря. Ясное понимание этой необходимости у меня уже было из опыта Колымы.
Расскажу о том, какой я себе придумала отключатель. (Другие придумывали другое, но мой тоже интересен, как всякий правдивый рассказ о человеческом сознании, поставленном в неправдоподобные условия.)
Это началось еще в карцере: чтобы не задыхаться, я переключалась на просторы Северной Двины, ныряла в блеск текущей воды своей юности. И стала нечувствительной к отсутствию воздуха. Чтобы объективизировать свое переживание, я приписала его – Ломоносову. Было удобнее: не я – величина неизвестная, а мощный и сильный человек, имеющий основание на бунт, на спор с историей, ходит и думает:
Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками…
Михаил Васильевич освобождал меня, возвращая самой себе: я или он ходили по камере после карцера? Все равно! Ходил человек.
Если ты попал в беду,
К тебе, наверно, подойдут
Глубокой горечи часы…
Но воля силы воскресит!
Ты человек! И морды тех
Зверей, что бродят в темноте,
Тебя не в силах устрашить.
Ты – человек! Ты будешь жить
В веках, в мирах и в звоне вод,
В прозрачной памяти листах,
Во всем, что движется вперед.
Так утешала я себя в карцере. А в лагерях уже догадалась: собрать все в Ломоносова.
Жаркий день. Летом редок выходной день, но вдруг дали. Женщины толпятся под навесом, у плиты. Это – «индивидуальная кухня». Здесь разрешают готовить продукты, полученные в посылках. Стоят в очередь кастрюльки. Варят каши, пекут блины. Муравьишками суетятся, радуясь минуте, когда принадлежат себе. Собираются по две, по три – угостить друг друга: мы вместе. Так дорога радость добровольного общения.
Брожу по лагерю. Мучима голодом. Другим голодом: почему я должна, как сказочный пеликан, питаться собственной кровью души? Как смеют лишать меня умственной пищи?! Как смели, как смели лишить меня моего дела?! Разве я староста барака, обязанности которой следить за порядком, морить клопов? Нет, я – этнограф.
Меня из Академии убрать?
Из Академии – меня?!
Вы разве можете понять,
Что это значит? От огня,
Во мне горящего и ночь и день,
Ведь, как береста, ваша лень
Скорежится. Вы прахом и золой
Рассыплетесь передо мной!
Что надо вам? Покой, чины;
Вы мыслей пухлые блины
Печете в кухонном чаду
И думаете, я – уйду?!
Да как вы смеете? Не вам
Науку русскую отдам!
… … … … … … … … … … … …
Я силы жег, как маяки
На камнях северной реки
Жгут, чтоб далекие суда
Через пороги шли туда,
Где гавань верная видна.
Мне воля русская дана
И разум, чтоб родной стране
Вернуть все ведомое мне…
Кто говорит? Кто это говорит здесь, в зоне, бродя по дороге, обсаженной чахлыми березками? Я? Кто – я? Нет, это говорит Михаил Васильевич Ломоносов, когда одолевают его враги: тупые и недвижные умы, засевшие в конференц-зале. Он и сказал:
Я знаю: собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Россия может порождать!
И вам ли этому мешать!
И рвет все. И я рву – ухожу из лагеря!
Осенний рассвет в заморозках. Хрустит земля. Ледок на лужах. Как льдинки просветы неба в летящей куще туч. За зоной еще не улеглось рассветное движение птиц и деревьев.
В зоне – торопливое передвижение людей: скоро развод. Бегут в столовую. Там полутьма. Толпятся темные фигуры. Над досками столов пар – дымятся миски. Склоненные головы хлебают, мелькают ложки. Мне не надо на развод. Я спокойно стою на помосте у окна раздачи, пережидаю. В холодном воздухе запах хлеба и прелых щей. И с той же яркостью, как видимое, встает противоположное:
Немало милостивых слов
Царица графу посылала,
Немало праздничных пиров
В честь государыни даров
Давал обласканный Шувалов.
Но этот пир среди пиров
Всех веселее и нарядней:
Хрусталь украшенных столов
И горы фруктов и цветов,
Литавры музыки парадной —
Все тешит взор и слух гостей.
Улыбкой легкою своей
Хозяин каждого встречает.
За каждым стулом встал лакей,
И море сладостных свечей
Зеркал дорога отражает.
Я вижу прежде всего эту сияющую дорогу свечей. Она преображает холодную сырую полутьму столовой. Она встает повторяющимися ритмами, смысла которых я еще не понимаю. А потом догадываюсь: так это ведь Ломоносов пришел на пир к Шувалову!.. Где встречает Сумарокова… Ну, конечно, это о нем.
Я уже ушла из столовой и бреду по опустевшей зоне. Все ушли на развод. Здравствуйте, граф Шувалов! Вы встречаете Ломоносова? Образ наматывается, как провод на большую катушку.
Он вывел меня из лагеря.
Они меня превратили в старосту барака? Я себя превратила в Ломоносова и ушла из лагеря. Я – неуязвима.








