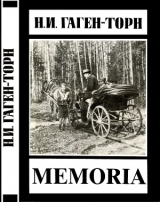
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Отъезд
Геологи уехали на Байкал. А у нас выяснилось, что ни Лиза, ни Федя не могут выехать в ближайшие дни. Я предложила: поеду в Мурманск одна, пойду в облисполком, зарегистрирую нашу практику, выясню, где кочуют лопари, а они достанут фотопластинки, тетради и все оборудование, Лиза съездит к отцу. Все согласились. Я получила командировочное удостоверение и литер на проезд до Мурманска.
И вот я – на верхней полке вагона. Конечно, неплацкартного. От резкого толчка я открываю глаза. Солнечный луч осветил рыжую краску вагонной полки и надписи на ней. Я повернулась к окну.
Умытое солнце покачивалось над редкими соснами. Вчера в городе были лето, пыль, жара. Поезд настигал уходящую весну. На земле стоял туман. За туманом наметилось синее озеро. Стая длинношеих птиц поднялась, полетела, опять опустилась на воду.
– Как вы смотрите на теорию Маха и Авенариуса? – вдруг спросил мужской голос с нижней полки. Парень в серой рубашке приподнял треугольник лица. Глубоко, наискось, посаженные серые глаза, твердые губы…
– Вы меня спрашиваете? – удивилась я.
– Вас, конечно. Читаю Ленина и думаю, почему он обвиняет эмпириокритицизм в идеализме?
– Я считаю, чтобы правильно оценить эмпириокритицизм, нужно сначала изучить Канта и Гегеля. Без Гегеля нельзя подойти к философии марксизма. Но у него не разработана гносеология. Необходимо изучить мышление.
– Вы при помощи мышления хотите определить бытие? Это скверный идеализм! На черта нужны эти вещи в себе? – раздраженно отвечал парень, блестя глазами. – Мы знаем мир – данную общественно значимую реальность. Кое в чем мы уже совладали с этим миром.
– Вот чудак! Кто же отрицает необходимость овладеть миром и перестроить Землю! – Я спрыгнула вниз.
– Вы где учитесь?
– В географическом институте, еду в Мурманск на практику, а вы?
– На полгода послан на партийную работу в Мурманск, как на практику. Давайте по этому случаю чай пить… Вот станция!
Парень схватил чайник, пошел за кипятком.
Седой старик сидел, поглаживая длинную бороду. Он кивнул, усмехнулся и сказал:
– Шестьдесят пять лет прожил, людей маленько понимаю, а тут битый час парень с девкой гуторят, а я не понял, что к чему. Ни единого словечушка не уразумел!
Мой собеседник вошел с чайником.
– Проснулся, дед? – спросил он. – Как раз под кипяток, чаевать будем.
– Аль зовешь?
– Как не позвать?
– Ну пожди, заварю. Давайте, детки, чай пить! – Он кинул заварку и оглядел нас благодушно насмешливыми глазами. – Только два слова и понял: на практику едете. А в чем твоя, дочка, практика будет?
«Начинается! – подумала я. – В сущности, уже начинается этнографическая практика: как суметь объяснить этому старику свою задачу?..»
– Видите ли, дедушка, я изучаю, где да как люди живут, какие у них обычаи, житье – порядки…
– Так, а пошто ты это изучаешь?
– Чтобы люди знали и в книгах написали, где худо, где хорошо живут.
– Хорошо там, где нас нет, это уж известно, – сказал старик, балагуря и потешаясь.
– А вдруг мы там и окажемся? – улыбнулась я. – Эта поговорка потому, что не известно толком, где хорошо, а мы возьмем да и узнаем!.. А коли все плохо – станем думать, как сделать, чтобы хорошо было.
– Ну ладно! – согласился старик, отрезая ломти семги. – Угощайтесь-ка семушкой, детушки!
– А вы пирожки мои кушайте, пожалуйста, – сказала я.
– Пирожки, чать, не твои, а матушкины, не ты стряпала, – шутил старик. – А семушка – моеловная.
– Вы рыбак? Помор?
– Поморянин.
– Откуда?
– С Колы. Про Колу слыхивали?
– Как же, около Мурманска поселок, – сказал парень.
– Не Кола коло Мурманска, а Мурманск коло Колы ставлен, – строго сказал старик. – Кола из веков стоит, еще ковда, может, и Москвы не было.
– Будто? А ты как, отец, знаешь?
– Помним. От Господина Великого Новгорода сюда люди набегали. Ковды про Москву еще слуху не было. С норвежанами здесь торги велись.
– И у вас это помнят? – заинтересовалась я.
– От дедов-прадедов знаем. В церкви у нас и книга была, счисления лет, где писано, ковда Кола стала и ковда церковь ставлена и грамоты жалованы, от царя Ивана Васильевича… Слыхали про такого царя? Грозным прозывается…
– Ну-ну-ну! Где же эта грамота, дедушка? И сейчас в церкви?
– Англичана увезли; книги и грамоты. Англичана у нас были. Не в досюльные годы-те, нет – теперь приходили. Церкву все рисовали да на карточку снимали, а книги, бают, увезли. Верно-то не скажу тебе, дочка. Да ты гости к нам в Колу, там те все обскажут.
– А песни у вас старинные есть?
– Песням как не быть, где люди, там и песни живут.
– Я приеду обязательно! Как вас зовут, дедушка?
– Морей Иванович, а прозвище Шаньгин. Песни лучше всех моя старуха знает. Она как заведет были-небывальщины – не переслушать! С Зимнего берега она, с Золотницы; там – место певчее, поют постатейно и старину хранят. Я как на Новую Землю ходил, все с золотничанам, с жениной родней зимовал. У них старик был – ну, старик! Его с собой для утехи зимовать брали. Зверовать он стар, не неволят, а долю дают: старины сказывай, песни выпевай. Без этого на зимовке нельзя. Заскучат какой парень, тут цинга и привалится. Как она заманиват, знаете? Девушкой прикинется, в губы целовать зачнет – лежи не вставай! А рот в крови. Сон нападает. Поддался парень – и сгинул. Тут надо: распотешил бы кто! Про то и держат сказателей!
– Вот так способ лечения цинги! – усмехнулся парень, наливая всем по новой кружке чая.
– Ты, сынок, не зимовал, так не перечь! Я те не перечил, когда вы невесть што баяли про вешши каки-то! А тут толк понять всякий может: человек без песни, што птица без крыльев… или уха без соли, – усмехнулся старик. – Где люди, там и песни. Гости к нам в Колу, увидишь.
Он сошел на станции Кола, а я доехала до Мурманска.
Мурманск в те времена был двухэтажный бревенчатый город с немощеными улицами. Он кипел, как живорыбный садок, заезжими людьми. «Облстрой», «Облисполком», «Облжелдор» – пестрели названия. А улицы были без названий. Я разыскала отдел культуры, записалась и решила, что до приезда остальных успею съездить в Колу.
В Колу!
Я сошла с железнодорожного пути, будто переступила в другое время, в досюльные, стародавние годы.
Застыли на берегу светлого залива большие бревенчатые хоромы из кондового леса. Смотрят узорными наличниками. У иных – окна в два ряда, один над другим, у других – в один ряд, высоко над землей. Распахнуты узорные ставни. Сбоку крыльцо, широкий бревенчатый въезд. Двор – под одну крышу с жильем. Торчат над крышами деревянные конские или птичьи головы.
Не тесня друг друга, просторно стоят усадьбы. Вокруг – ряды кольев; шипит ветер, покачивая на них сети.
Как вожак среди стада, на пригорке – колоколенка. Церковушка невелика. Темные бревна в многоугольных перекрещениях; в куполах – многошатровая крыша. Резная галерейка ведет на высокую звонницу. За церковушкой – вода. Темные, хмурые горы под розовым от зари небом. Церковушка – улыбается воде и небу, словно родилась от них, выросла и стоит – радуется на тишину… Черные карбасы и высокие, с резными носами йолы стоят на воде. Под ними стоят отражения. Так тиха вода, что отражаются в ней карбасы и церковушка, и хоромы, и дальние горы, и розовые предвечерние облака.
Вдоль по улице идет-плывет статная девушка в длинной темной одежде, несет на плечах коромысло с ведрами, полными воды, они – не ворохнутся. Может, она тоже – только отражение?
Я пошла, твердо ступая по каменистой земле. Точно погрузилась в подводный мир стеклянной прозрачности – передвинулась машина времени, я попала в XVII век, или просто пригрезилась сказка? Нужно в ней говорить, действовать или ждать, как само развернется?
Заря била в узорчатые наличники. В зарю уплывала многоярусная, многошатровая церковушка.
Поправив наплечные ремни рюкзака, я глянула кругом, отодвинулось боковое волоковое окошечко. Высунулась старушка в темном повойнике.
– Кого тебе, умница? – спросила, прищуривая светлые глаза.
– Морей Иванович где живет, скажите, пожалуйста.
– А к нему и попала, голубка, – улыбалась старуха, – проходи в хоромы-то, не заперто.
Я поднялась на высокое крыльцо и шагнула в сени. На пороге костеватая старуха улыбалась.
– Ты, што ли, песни собираешь? – спросила она. – Старик-от сказывал. Ну, проходи, проходи! Просим милости.
Я перешагнула порог. Золотистые лики икон глянули из большого угла. Хлебным теплом дохнула печь. У окон белели лощеные лавки.
Перекреститься на иконы или не перекреститься, подумала я. Надо соблюдать обычаи.
Непривычно поклонилась иконам, перекрестилась и встретила смеющиеся голубые глаза хозяйки. Старуха оглядывала меня добродушно-насмешливо; смеялись из морщин молодые глаза…
– Морей Иванович, значит, про меня рассказывал? – спросила я.
– Сказал, сказывал.
– А вы жена его?
– Она самая.
– Мне он про вас рассказывал, только как звать – не сказал.
– Зовут меня Марфа, величают Олсуфьевна, – отвечала хозяйка, – а твое как имячко?
– Нина.
– Ну, разболокайся, Нинушка, разболокайся, садись, моя дочушка. Пословица: прежде напой, накорми, тогда спрашивай. Сейчас самовар поставлю.
Марфа Олсуфьевна поправила сухими, тонкими руками темный платок на повойнике, приняла с голбчика, возле печи, большой белый самовар, неторопливо надела трубу. Собирая на стол, стала рассказывать:
– Старик-от мой вернулся из Питера, сказывал: стретилась деушка, сама бойка-баска. Про песни спрашиват. К нам гостевать собирается. Ну, говорю: гость в дому – серебро, песня – золото.
– Марфа Олсуфьевна! Ваши песни слушать хочу. Морей Иванович говорил, какая вы песельница.
– Хвастат! Смолоду певала, а теперь уж што.
– А старины знаете?
– Это – знаю; у нас в роду старины сказывают.
– А мне скажете?
– Там поглядим, как управимся. Скоро старик вернется, семушки принесет, на тонях он, уху варить станем. Садись гостевать, деушка.
Поставила на стол самовар, вытерла полотенцем толстые, с синим краем, чашки.
– С Норвеги чашки привезены, – сказала она, заметив, что я их рассматриваю. – Свекор-батюшка в Норвегу всякий год йолы водил, с Норвеги порато[20]20
Весьма, сильно, крепко (северный говор).
[Закрыть] что привозил. Норвежане ему знакомы были: как на Колу прибегут с кораблям, у нас стояли.
– А почему норвежцы сюда приезжали?
– Исстари торги у них с Колой. У нас семгу берут, олений да беличий мех, нам сукна везут, снасти… на том Кола стоит – торги заводить. Еще с Господина Великого Новгорода мужики сюда торговать прибегали с Норвегою. Ты про Садка слыхивала?
– Ну, слышала! Да вы расскажите!
– Дай срок, скажу… – Старуха налила чаю мне и себе, подвинула пирог с рыбой и блюдце с мелко крошенным сахаром.
– Вы исконние, здешние?
– Старик мой здешнего кореню, а я с Зимнего берега, с Золотницы.
– Я в Мурманске не встречала местных жителей, все приезжие.
– Не богато их, здешних-то. Они города не любят, в море больше ходят, корабли водят, промышляют. Старик мой по морскому делу и в Питер ездил… Сказывал он тебе?
– Нет, не рассказывал.
– Были дадены нам от царя Петра грамоты – корабли строить. И лес отведен на Туломе-реке. По реке бы его сплавляли, а здесь в Коле корабли рубили. Ныне – лопаришки забрали тот лес под себя. Плавить нам не дают. Вот старик и ездил, права вызволять.
– Ну и как?
– Непонятно: и лопарей обижать не велят и корабли рубить велят, а где лес брать, не сказывают. А грамоты-те наши порушены.
– Скажите, пожалуйста, Марфа Олсуфьевна, – спросила я, – какие были грамоты в церкви у вас? Говорят, их увезли англичане?
– Про то не могу сказать; знаю, что были, а какие – не ведаю… не те, не петровски грамоты…
Марфа Олсуфьевна из-за самовара разглядывала меня. Я слегка стеснялась, давая себя рассмотреть: пусть, пусть, думала, надо привыкать. Профессор Штернберг говорил: лучший способ приобрести доверие – показывать себя. Насмотрятся – сами начнут рассказывать. Марфа Олсуфьевна спросила:
– А вы чьих будете? Родители живы ли?
– Живы родители, в Петрограде живут, я с ними. В институте учусь. Сюда, на Мурман, нас, трех студентов, на практику послали.
– Как же отпустила тебя матерь, такую молоденьку?
– Я вовсе не такая молоденькая, мне уж двадцать первый год! Кто меня удержать может? – задорно сказала я. Марфа Олсуфьевна засмеялась, но посмотрела укоризненно:
– Матерь всегда удержать может. Вон у меня сыны: вовсе большие мужики, а скажу – удержатся. Один женатый, отделен, а из материнского послушания все одно не выходит. А ты – ишь кака выросла, выискалась!
Я покраснела и в ту же минуту поняла: эта краска, ребячливая беспомощность сделали больше, чем любой обдуманный прием, – завоевали доверие.
С потеплевшими глазами старуха села к окну.
– Ну, – сказала она, – коли хошь, слушай, спою тебе старину.
Она протянула руку, взяла начатую сеть, сделала несколько быстрых движений челночком. Потом подняла голову, поглядела на окно, словно советуясь, и – запела. Пела негромко: о том, как жила-была чесна вдова Мамельфа Тимофеевна… Собирался сын ее на богатырские подвиги, становился на колени, просил материнского благословения. Но не благословляет сына ехать Мамельфа Тимофеевна. И опять становится сын на колени, в землю кланяется.
– Вишь, – прервала пение Марфа Олсуфьевна, – богатыри у матери спрашиваются, а ты говоришь! Материнско благословение – сила.
Олсуфьевна сидела, прислонясь к косяку. Прямой, сухощавый очерк ее лица темнел в закатном огне. Словно пела про сестру – вдову Мамельфу Тимофеевну: собирает сына, наставляет молодецкую силу с мудрой материнской строгостью. Стоит сын: большой, удалой, озорной, а не смеет поперечить матери.
И я догадалась: всегда так было; сидела мудрая женщина в доме, держала в руках ключи или прялку. Не пряжу, а долгую нить памяти своего народа плела. Родная страна тоже женщина-мать. Приходят к ней сыновья, разудалые, буйные, становятся на колени, просят благословения. Кто просил – получал, тот и путь находил, а кто самовольничал, ручки, ножки ребятам подергивал, как Васька Буслаев, тот – погибал. Гневалась мать и скорбела…
Отворилась дверь, тихо вошли две женщины. Перекрестились, молча поклонились образам и хозяйке, сели на лавку. Марфа Олсуфьевна кивнула и продолжала вести сказ.
Пришли еще люди. Седой старик на лавку сел, положил локти на колени. Две девушки сидели, подняв лица. У женщины – мальчик, посапывая, стоял между колен.
Я хотела записывать песню, но поняла, что невозможно. Запись – потом, после первого раза.
В избе становилось синее. Опять отворилась дверь. Вошел Морей Иванович и с ним какой-то чернобородый, носатый мужик.
– Пришел? – прервала пение хозяйка. – Да и гостя хорошего привел! Просим милости! Здравствуй, Герман Михайлович!
– Здравствуешь, Марфа Олсуфьевна, – ответил чернобородый, – да ты пой! Не обрывай песню.
– Я, почитай, кончила. Надо ужин собирать. Гостя баснями не кормят…
– Вари, вари уху, – сказал хозяин. – Здравствуй, гостенка заезжая! – Морей Иванович протянул мне руку. – Как старуха-от моя, гоже ли сказыват?
– Ох, как хорошо!
Соседи поднялись с лавок.
– Она ли не гожа? Дай ей Господь!
– Да чего там!..
– Стой! – сказал Герман Михайлович. – Люди добрые, не уходи! Ужин – фиг с ним! Благо мастерица распелась, надо песню прослушать. Не пущу тебя, Марфа Олсуфьевна. – Он шутливо растопырил руки. – Спой мою любимую! – Все улыбались ему. Марфа Олсуфьевна засмеялась:
– Ох, неотступный! Ох, скаженный! Нешто ето слыхано?
– Слыхано, да и пето. Пой, пока не остыла, – весело сказал черный. – Не отпущу без моей песни!
Марфа Олсуфьевна, правда, еще не остыла. Она поправила платок и покачала головой.
– Неуемный, так уж и есть неуемный. Ну, слушайте.
Долго тянулась песнь…
– Хватит! – встала Марфа Олсуфьевна. – Всего не перепоешь. Надо ужин собирать.
Соседи поклонились и пошли в двери. Морей Иванович чиркнул спичкой. Засветил лампу над столом. Белая ночь ушла из избы.
При огне я рассмотрела чернобородого Германа. Он был кряжист, невысок, одет в серую куртку, темные брюки и мягкие ичеги[21]21
Мягкие кожаные сапоги (северный говор).
[Закрыть]. Крутой тонкий нос оседлан очками. Черная борода прятала нижнюю часть лица и делала его старше, но глаза из-за очков смотрели по-детски: серьезно и доверчиво.
Он говорил, как помор, но в гибких интонациях голоса чувствовалась возможность другой речи.
– Давайте знакомиться, заезжая гостенька, – сказал он, протягивая мне руку и рассматривая меня с веселым интересом. – Крепс, Герман Крепс. Вы из Петрограда пожаловали?
– Да, – отвечала я, называя себя и охотно поддаваясь дружескому интересу Крепса. – Из Петрограда, на практику.
– Так, так! Еще одна экспедиция? Скоро здесь на каждого лопаря будет по исследователю, но это хорошо! Вы на каком факультете?
– Этнограф. А вы что делаете?
– Быка развожу по Мурману.
– То есть как это развозите?
– Очень просто: в вагоне. Три четверти вагона под быка, четверть под меня, так и живем.
– Но куда же и зачем вы его возите?
– На коровьи свадьбы. Бык один на всю Мурманскую дорогу. Несколько лет назад по всему Мурману ни одной коровы не было. Я – агроном. Животноводством, как и всем здесь, до сих пор занималась железная дорога. Я ведаю животноводством. Приходится самому: развозить быка, лечить коров, читать лекции, изучать и гербаризировать флору – выяснять возможности кормовой базы… И делать еще многое другое. До войны это был совершенно дикий и неизвестный край. Война выдвинула необходимость Мурманского порта и постройку железной дороги. Но только после революции, когда прогнали англичан, оккупировавших край, его стали изучать и осваивать…
По мере того, как он говорил, отпадал поморский акцент, зазвучала привычная питерская речь.
– Вы из Петрограда? – спросила я.
– Был когда-то. Теперь лопарем стал. Хорошо здесь: места нетронутые, птицы не пуганые, звери – не ловленые, люди не порченые. «Край непуганых птиц» – читали у Пришвина?
– Ишь, Герман Михайлович места наши нахваливат… Садитесь к столу-то!
– Свои порато хвалить нечего, – усмехнулся Герман Крепс, пропуская меня на лавку.
– Вы не любите Петроград? – удивилась я. Герман покрутил бороду и усмехнулся, блеснув очками.
– Ну, пожалуй, люблю. Но жить в каменном мешке не могу: ни неба над головой, ни земли под ногами, ни мыслей в голове… Тянет север. Говорят, этим заболевают, любовью к северу.
– Интересная болезнь, возможно, и я заболею. Похоже, уже больна!

Н. И. Гаген-Торн с директором Лапландского заповедника Германом Михайловичем Крепсом. 1934 г.
После ужина Марфа Олсуфьевна увела меня в светелку, постелила постель. Я уплыла в сон до утра.
Утром вышла в избу, когда Марфа Олсуфьевна уж топила печь.
Хозяйка улыбнулась:
– Хорошо ли спалось? На новом месте приснись жених невесте.
– Жених не приснился, а вот песни ваши приснились. И хочется мне про здешнюю жизнь расспросить: все у вас не так, как в Питере.
– По стародавней старине живем, блюдем старину.
– А одежда старинная есть у вас, Марфа Олсуфьевна?
– Про одежу нашу ты спрашиваешь? Есть, есть старинна одежа: и шушуны, и сарафаны. Вот уберусь – выну из сундука. Как я была молода, у нас баско наряжались. Кики жемчугами низаны, сарафаны – штофные, рукава – кисейные, аглицкие…
– Почему аглицкие?
– А кто знат, почему так зовут – аглицкие и аглицкие, исстари так. У нас одежа-то долго жила, от бабки к внучке укрута переходила.
Она засунула уже состряпанные ею шаньги в печь.
– Ну, кончила! Пока мужики придут завтракать, я тебе покажу. – Вымыв руки, Марфа Олсуфьевна открыла в углу тяжелый сундук и достала одежду. Пахнуло сухим старым деревом и тканью. Вот те и аглицкие рукава, – Марфа Олсуфьевна развернула платок, достала кисейный верх рубахи с рукавами пышными, во много перехватов, с рюшами у кистей.
Такие рукава рисуют на портретах времен королевы Елизаветы, изумилась я. Неужели были завезены сюда? Мода времен Ивана Грозного и королевы Елизаветы?! Приезжали в Архангельск английские моряки, приходили корабли, торговали с Москвой через Архангельск. Неужели сохранилось?
Я зарисовала и стала записывать, Марфа Олсуфьевна с усмешкой смотрела.
– Ну, отвели жениха к невесте, сватам пировать можно… Здравствуйте! – сказал, входя, Герман Крепс. Морей Иванович подмигнул посмеиваясь.
– Надо выпить, мать, по случаю бычьей свадьбы.
– Ну-к доставай. А закуска на столе.
– Вы тут чем занимались? – спросил Крепс.
– Своим бабьим делом, нарядами. Вишь, хвасталась… Как раз к свадьбе… – усмехнулась хозяйка.
– Знаете, какую я обнаружила интересную вещь?
Я рассказала про «аглицкие» рукава.
– Интересно, – покрутил бородою Герман, – возможно, вы правы: тут край старины непуганой, как птиц. А я вам хотел предложить сегодня на птиц посмотреть. Пойдем со мной в горы. Не все людей, надо и горы послушать, чтобы край узнать.
– Горы что хошь расскажут, только слушать умей, – отозвался Морей Иванович. – Он те наскажет, Герман-от, он кажну птицу, дерево и камень понимат.
– Трапезуйте, – хозяйка поставила на стол самовар.
В волоковое оконце тянула свежая струя, пахнувшая соленой водой и березками, она отгибала парок над самоваром. Норвежские, с синими каймами, чашки блестели.
– Натошшак кака беседа, кушайте, товда побеседуем, – приглашала хозяйка, разворачивая рыбник.
– Географу необходимо знать ландшафт, – сказал Герман, откусывая пирог, – походите со мной, посмотрим глухариков.
– Да ведь не время для охоты, – сказала я. – Тока кончилась.
– Но я занимаюсь режимом каменного глухаря, и мне поручено Академией наук привезти несколько штук.
– Ну, пойдем.








