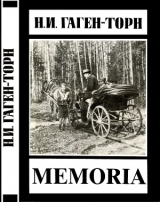
Текст книги "Memoria"
Автор книги: Нина Гаген-Торн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Она повернула за баню.
О переживаниях
Хрупкая и прелестная девочка, Саньхо Ким с веселым интересом наблюдала обрывки жизни чужой страны, которые пришлись на ее долю. Что она думала? Не знаю. Галя Сокол приходила в отчаяние оттого, что видит лишь обрывки и нет возможности охватить, ощупать, понять всю сложную, но изломанную жизнь. Я утешала ее:
– Надо воссоздавать из имеющегося.
Но она кричала:
– Как представить себе не ломаной вещь, если не видела ее целой? Воссоздать могут те, у кого есть вера, что требуется воссоздать. А у кого пустота?
Что я могла возразить?
Перед тобою водоем.
Забор. И глина под ногами.
Но ты творец. И творческим лучом
Ты жить заставишь каждый камень.
Ты можешь мир пересоздать
И, бросив скованное тело,
По облакам уйти опять
Туда, где можно жить и делать…
Но тем, в ком ослабела воли нить,
Какими видеть мир глазами?
Зачем Ты их не хочешь пощадить,
Творец, когда Ты есть над нами?
Сестрица Аннушка страстно требовала от Бога, чтобы он нас пощадил. Катя Голованова говорила вздыхая:
– Пути Господни неисповедимы!
Те, у кого не было никакой веры, стыли под обломками в тупом страдании. А я? Пытаюсь передать пережитое. Но могу только стихами, в которые оно кристаллизовалось тогда.
Слушаю звезды в ночи.
Долго гляжу на луну.
Только сердце во мне молчит,
Точно окунь идет ко дну.
Чтобы в темной глуби воды,
Где колышется водорослей сад,
Укрываться ему от беды,
Не всплывать, не глядеть назад.
Чтобы в темной глуби души
Не взрывался слепительный свет…
Утомленное сердце страшит
Мерный ход наступающих лет.
Но если крепнет морозный воздух, если вдруг раскрываются внутри какие-то крылья, тогда, стоя рядом с уборной, где мигает тусклая лампочка, освещая чернеющий ряд дыр и серые доски с пятнами хлорки, вдруг чуешь: бесконечное небо, круглоту летящей земли, качающей ветками, голыми, черными у нас, пестрыми лапами пальм за океанами.
Благословенно имя Вселенной!
Благословенен жизни зов!
Кругом идет неизменным
Ход неизвестных миров.
А в сердце, песчинке красной, —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным,
И слезным мольбам племен.
Тем, у кого устоявшаяся вера, кто ощущает Вечность доброю няней, на руки которой можно положить свою голову, легче. А у меня? Только неведомое, в которое смотрю. Страстная жажда осознать связь времени с Безвременьем.
Как передать это состояние души? Оно как цветок на лезвии ножа. Как звук, которому не подберешь слова. Но сквозь него приходит освобождение.
Лежу на полу карцера. В случайный и вздорный карцер попала за глупую ссору с надзирателем на поверке.
Тонкий луч прорвался в окошечко. Тишина. И приходит:
Душа моя, вольная птица,
Прорвется в решетку окна,
Распростертому телу приснится,
Как далекое небо клубится,
Ходит солнце у синего дна.
А душа, поднимаясь все выше
В голубой океан без краев,
Неожиданно песней услышит
Шум и шорох идущих веков.
То, что в уши усталого тела
Громыханьем тревоги легло,
Ей покажется облаком белым,
Опустившим свой пар на стекло.
В пене крови клокочущий город,
Гнев и кровь, что рекой потекли,
Станут только рывком дирижера,
Увертюрой грядущей земли.
Легло в слова… Ах, какое это освобождение! Их надо запомнить, они – память пути. Сажусь на полу. Отодвигаюсь от «параши» к окошечку под потолком. Смотрю в небо. Опять ложусь. Звучит малопонятная музыка. Не могу ухватить… Могут те, кто владеет ею, умеет обращаться со звуками, как шаман с духами. Я не умею.
Читала, есть у индусов выражение «свист звезд», это потому, что звук и свет выражают одно и то же… Ощущение необъятности мира достигается при помощи разных органов чувств человеческого тела.
Распластываю тело на полу. Погружаюсь в это ощущение. Только бы не запутаться в нем… Суметь вернуться по ниточке найденных слов. Я, как вон тот паук в углу, выпускаю из себя ниточку и качаюсь на ней, уходя в непередаваемое… Ушла… Возвращение радостное:
В прекрасном странствии моем
Слова, как свежие цветы,
Бросаю в светлый водоем,
И их потом увидишь ты,
Когда их вынесет ручей —
Прозрачной памяти вода…
Но тонкий запах тех полей
Не донести сюда…
Ибо запах этот плохо совместим с парашей… Так завершается приземление. Параша стоит в углу, как монумент, напоминающий, где ты. Но в карцере на этот раз не холодно и не грязно: лето, недавно мыли пол. Это способствует свободе внутренних переживаний.
На меня находит сомнение: стоит ли так подробно писать о личных переживаниях?
– Нужны факты, факты, вопиющие о мести, – сердито требовал один из моих друзей, – не рассуждения, а документы, которые передадут будущим поколениям о страшном зле, совершенном над нами, над сотнями тысяч людей. Интеллигентские переживания – чепуха!
Это правда. Нужны такие документы. Страшным было совершенное в лагерях. Кто передаст всю меру зла?
Еще более страшным оно было в немецких лагерях. То, что у нас проводилось как бредовые рывки, там шло последовательным царством ужаса и зла. Об этом уже написаны книги. Прибавлять ли к ним еще и еще?
Я пытаюсь рассказать, как выныривала из царства зла. Пусть методом выдумок и иллюзий… Но можно ли назвать иллюзией то, что помогало жить?
Иллюзия и реальность смещаемы. Реально то, чем живет человек. Я даю документ не о фактах, а о смещении значимости фактов для человеческой души. О том, как приходило сознание большей реальности духа, чем реальность физическая. У разных людей по-разному вырастала духовная крепость. По-разному строил ее человек. Но ее невозможно отнять, потому что она руками не осязаема. Эти записки – документ о способе сохранить живой душу и о том, как у меня вырастала эта крепость.
Рукописание
Следующим летом вдруг стали приводить лагерь к благолепию: отскребли и вымыли бараки, вышпарили клопов; в амбулатории, полустационаре и больнице повесили марлевые занавески. В КВЧ сделали новый занавес для сцены из старых одеял, раскрашенных художницами. Бригаду садоводов заставили усиленно сажать и поливать цветы. По лагерю поползли «параши»[15]15
«Параша» не только ведро с нечистотами, но и новости. По традиции, еще с царских тюрем, парашу выносили в уборную, и там создавался центр тюремных новостей: получали записки, оставляли знаки. Оттуда добывались и расходились вести. Они тоже назывались «параши». (Примечание Г. Ю. Г.-Т.)
[Закрыть] – вместо зеков здесь поселят военные части… Нет, из ООН послан запрос о лагерях. Там хорошо знают, что у нас творится, и вот для опровержения хотят сделать показательный лагерь… Нет, просто собираются создать лагерь для бытовиков, перевоспитательный… А нас?.. Постреляют, наверное… Вряд ли…
Приготовления завершились приездом генерала. Толстый и важный, в сопровождении двух штатских и начальника лаготделения, он обходил серые ряды женщин. В отдалении шли надзиратели.
– Жалобы есть?
Строй молчал. Было ясно и ему, и всем, что в присутствии местного начальства никто не будет жаловаться.
– Вопросы имеются?
Шепот прошел по рядам.
– Вас спрашиваю: есть вопросы?
– Как мне узнать про детей? – прозвучал чей-то голос. – Я здесь больше года и до сих пор ничего не могу узнать о детях.
– Обратитесь в вышестоящие инстанции.
– Писала всюду! Не отвечают, где дети…
– И мне!.. И мне не отвечают, где дети, – послышались голоса.
Генерал поморщился.
– Дети в Советском Союзе обеспечены соответствующими условиями… – сказал он. – Если ваши родные не хотят о них заботиться, государство берет на себя обеспечение детей!
– Хотят, хотят родные – не могут найти детей!
– Пишите в главное управление лагерей, – генерал сделал неопределенный жест штатскому и быстро пошел, уходя от начинающейся в рядах тревоги.
Тревога и возбуждение выплеснули меня.
– Гражданин генерал, – неожиданно для себя окликнула я, – скажите, заключенным разрешается писать?
– Как писать, что писать?
– В царских тюрьмах, как известно, люди занимались самообразованием и писали книги… А в советских разрешается делать записи?
– Вы присланы трудом искупать вину, а не заниматься самообразованием!
– Но это инвалидный лагерь. Производства здесь нет. Могу я, выполнив норму, вместо бездельного сидения на нарах заниматься своим прямым делом?
– Кто вы по специальности?
– Этнограф.
– Нам не нужны такие специалисты. Что вы хотите писать?
– Записи первых научных экспедиций двадцатых годов.
Он сделал неопределенный жест в сторону штатского и прошел дальше. Строй насмешливо смотрел на меня: «Еще чего захотела? Опять карцера?» Я сама понимала бесцельность разговора. Просто захлестнула жажда бессмысленного протеста. Карцер так карцер! Но в лагерях никогда не известно, как обернется.
Месяца через полтора меня вызвали к оперуполномоченному.
– Гаген-Торн?
– Нина Ивановна Гаген-Торн, 1901 год рождения. Срок пять лет, – отрапортовала я, как положено.
– Это ваши тетради?
Захолонуло сердце. Перед ним на столе лежали мои, таинственно исчезнувшие из матраца на 6-м лагпункте тетради. Все! Я узнала их потрепанные серые корочки.
– Мои.
– Вам разрешено продолжать записи. Распишитесь в получении их.
Не веря ушам, я взглянула на него, прямо в спокойные серые глаза. Глаза одобряюще усмехнулись: подвоха нет. Я расписалась, с трудом веря. Взяла тетради, пошла в барак.
– Девчата, девчата – бывают же чудеса! Помните, я рассказывала об исчезнувших тетрадях?
– Ну, ну?
– Вернули! Со штампом лаготделения вернули написанное, исчезнувшие тетради и дали разрешение писать!
– Ну теперь ясно, что приедут иностранцы, – сказала Оленка, – неужели бы зря вернули! Вот и правду несли «параши».
Я побежала в другой барак, к друзьям.
– Какое счастье! – радовалась Кэто. – Но все-таки, значит, их выкрали из матраца. Кто? Кто из троих, знавших?
Подошла зима. Трудно в мороз, стоя на обледеневшей вышке, поднимать тяжелую обледеневшую бадью, лить и лить воду в желоб для бани. Обледеневают рукавицы, намокает до плеча рука под обледеневшей телогрейкой. Но я знала: откачаем, вернусь в барак, скину мокрое и сяду у тумбочки – в открытую – писать свои воспоминания. Барак гудит десятками голосов, но к этому можно привыкнуть. Теснота выработала общую норму поведения в лагерях: если человек чем-то занят, к нему не обращаются, не спрашивают ни о чем. Он ушел из барака в себя, и никто не хочет лишать его этого блага. В лагерях так тесно спрессованы люди, что научаются не толкать друг друга, хотя бы для того, чтобы избежать неистовой ссоры.
Ни одна душа не трогала меня за писаньем – будто меня и нет.
Я переписала все возвращенное. Радостно и покойно уходила дальше в юность, в веселое бродяжничество студенческих лет.
Шла метельная зима, но ведь в бараке все-таки топили печку, и мне не мешали, прислонясь к ней спиной, забывать о бытовой реальности.
Под весну пришла дневальная оперуполномоченного:
– К оперу, с тетрадками, на проверку!
– Сейчас.
Я собрала чистовики и отправилась. Беззаботно постучала, вошла в кабинет:
– Вот, гражданин начальник, тетради!
Почему у него смущенное лицо? Нарочито спокойно поднял глаза от бумаг, положил ладони на принесенные мною тетрадки.
– Это не только проверка, – сказал он, протягивая бумажку, – вот, приказ лагуправления взять написанное и запретить писать в дальнейшем.
Посмотрел, ожидая, как я отнесусь.
Я пожала плечами:
– Мы люди подневольные, ожидаем всего. Разрешите идти?
– Когда кончите срок, вам вернут рукописи, – торопливо сказал он.
Я усмехнулась:
– Могу идти в барак?
– Да, да, – он облегченно вздохнул.
– Ну, как? – спросили девчата в бараке. – Когда обещал вернуть?
– Не вернет совсем, писать запретили.
– Ну-у?
На вышке я сказала Рузе и Гале:
– Девчата, ведь я отдала ему чистовики, а черновики все остались. Надо их спрятать получше.
– Сделать у чемодана двойное дно и положить туда, – предложила Рузя, – пусть лежат в каптерке у Рахиль Афанасьевны, это надежно.
– Да, но кто сделает двойное дно?
– В инструменталке есть верный человек, наш земляк, со Станиславщины, отнесу ему чемодан, если хотите.
– Но не говори, от кого, чтобы соблюсти конспирацию.
– Конечно.
Через три дня Рузя принесла мне мой фанерный чемодан: у него было сделано двойное дно.
Пошла в каптерку индивидуальных вещей, которой ведала Рахиль Афанасьевна. Но прежде надо рассказать о ней. Многие поминают ее добрым словом. И есть за что.
Рахиль Афанасьевна Урина была, по-лагерному, «придурок», то есть не ходила на общие работы, а ведала каптеркой, продуктовой и вещевой – с домашними чемоданами и мешками. У каптерщицы власть над людьми: посылки – великая ценность не только потому, что спасают от истощения, но и потому, что они единственная радость, связь с домом. Ведь каждая тряпочка в домашних вещах – это воспоминание. Каптерщица может выдавать из посылок в строго определенные часы, по установленным нормам. Выстроится очередь. Ждут. Она может важно сказать: «Время кончилось. Некогда больше возиться с вами». И усталые люди смиренно уйдут – нельзя ссориться с каптерщицей: вдруг составит акт «продукты испортились» и спишет их из посылки. Докажи-ка, куда девались продукты! Она может заложить посылку так, что не скоро найдешь ее. Нет, нельзя ссориться с «придурками» в лагерях, они – власть.
Рахиль Афанасьевна не пользовалась во зло этой властью, у нее не бывало очередей, каждая заключенная в любое время могла отыскать ее и сказать: «Рахиль Афанасьевна! Очень нужно, пожалуйста, дайте сейчас». – «Ну что с вами поделаешь, если нужно. Пошли». Рахиль Афанасьевна безропотно забирает ключи и ведет в свое царство. Она не каптерщица, а хозяйка. В порядке стоят по полкам ряды ящичков с номерами и фамилиями. Толстый кот сидит и облизывается – стережет от мышей. Блестят весы на чистом столе, чтобы знала берущая, сколько она взяла из своей посылки.
Рахиль Афанасьевна, худенькая, подтянуто аккуратная, садится за столик, поправляет черные с серебром волосы, записывает в картотеку. И ни одной, самой вздорной и грубой, девке не придет в голову заподозрить непорядок или хищение, усомниться в том, что в каптерке сделано все возможное для удобства людей.
Доброжелательно смотрят усталые, все еще красивые глаза, худые руки методически наводят порядок. Надежные руки, они сохранят для тебя все дорогое: продукты из дому, домашние вещи. Каждая вещь – напоминание о прошлом. Рахиль Афанасьевна понимает, помогает, хранит.
Она сама – живое воспоминание о другой жизни, нарядной и незнакомой, уходящей в дальние страны. Аромат этой жизни стоит над ней, она мало рассказывает о себе, но любит рассказывать о Японии, Сибири, Китае.
– Почему вы так хорошо это знаете, Рахиль Афанасьевна?
– Я долго жила на Дальнем Востоке и в Японии.
– А Сибирь?
– Я выросла в Восточной Сибири. Поэтому и отец мой, еврей, звался Афанасием, в Сибири это привычное имя. У него и у мужа были большие торговые связи на Тихом океане…
Туманятся печальные глаза… Не расспрашиваю дальше, я уже слышала, что муж и сын ее погибли.
Умолкая, она наводит порядок. Лагерное дело, каптерка – для нее это вся возможность помочь людям, она несет свою помощь охотно и безотказно. Она деловито-добра и мужественна. И к ней приходят за помощью.
Я приношу к ней свой чемодан с двойным дном:
– Рахиль Афанасьевна, пустите меня, пожалуйста, перебрать свои вещи, переложить из мешка в новый чемодан. Вы впустите и закройте меня в каптерке, а потом придете.
Она пристально посмотрела на меня, мудрая и добрая душа, поняла – мне надо сделать свое, скрытое от других, дело.
– Хорошо, пойдемте, я вас закрою, повешу замок на сарай, а через час приду за вами.
Под надежным запором в полутьме каптерки я уложила записки на дно чемодана, наложила второй слой фанеры, прибила планочки тихо, стараясь не стукнуть. Переложила в чемодан часть вещей из рюкзака, поставила все на место. И притаилась беззвучно, чтобы никто не услышал снаружи.
Загремели ключи. Кашлянула, входя, Рахиль Афанасьевна.
– Ну, все уложили?
– Спасибо, Рахиль Афанасьевна!
Этапы и встречи
Зима прошла. Солнце золотыми вениками разметало снег между березками. С крыш торопливо стекали капли. Серые бревна стен уже просохли, около них тепло. Стою у стены бани одна, девчата, накачав норму воды, убежали.
Смотрю в небо, вспоминаю, как на Колыме весной, в голубой прозрачности, летели тысячи птичьих косяков.
Тут, верно, тоже скоро пролетят гуси. Пока только воробьи лихо суетятся да начали токовать вороны. Я раньше не знала, что вороны токуют. Вон села на гребне крыши, расширила крылья, хрипит и кланяется ворона-самец. У них не отличишь самца и самку по оперению, оба черно-серые. Их родственники вороны много крупнее, совсем черные и кричат по-другому. Вон один полетел и кричит:
«Полонг, полонг!» А ворона на крыше удивляется: «Ка-ак? Ка-ак?»
– Вот так, полон – в своей родной стране, и удивляться нечему, – бормочу я.
Ворона-самец начинает токовать все азартнее: поднимает к небу клюв, раскрывает крылья, ритмически кланяется. Хрипит и шипит, изображая песню.
На соседнюю крышу сели вороны-зрительницы. Чистят перья, прихорашиваются. Жених раздувает шею, все торопливее кланяется. Воробьи обсели березку, наблюдают, переговариваются, помирают со смеху. Но токовик не обращает на них внимания, ему важны свои – воронихи. Он жаждет показать им, как славят весну.
Смотря на птиц, можно не замечать лагеря. Но, опустив глаза, замечаю: хрустя камешками, идет незнакомая женщина. Одета по-зимнему – черная барашковая шуба, шапочка, ботики. Соображаю: со вчерашнего этапа… И взята, видно, этой зимой. Жарко ей в тяжелой шубе, идет заплетающимися шагами, осматривается, как птица, когда выпустят из тесной клетки на улицу или в вольеру.
Отвыкла в тюрьме от солнца, думаю я. Ну, смотри, смотри.
Она подходит. Голубые глаза глядят растерянно и доверчиво.
– Скажите, пожалуйста, вы здесь давно? – спрашивает она робко.
– Порядочно… И не в первый раз, – отвечаю я. – А вы только что из тюрьмы?
Из голубых глаз потоками потекли слезы. Губы дрожат:
– Только что привезли из Москвы… Как здесь жить? Как можно так жить?
– Какой у вас срок?
– Восемь лет…
Потоки застлали голубые глаза, растекаются по лицу, мохнатая шуба скоро вся намокнет от слез.
– Я не понимаю! Я ничего не понимаю! – говорит она. – За что? Мне так и не предъявили обвинения… Дали подписать бумажку об окончании следствия и отправили в лагеря…
– Я пять лет просидела на Колыме без предъявленного обвинения. Вы что, не знаете, что, начиная с тридцать шестого года, многие тысячи людей гибли в лагерях, не получив обвинения?
Она вздрагивает:
– Гибли? Невинные люди?
– А вы думали, виноватые? В чем был виноват ученый с мировым именем, гордость советской ботаники, академик Николай Иванович Вавилов, погибший в тюрьме? Или академик Самойлович, Александр Николаевич, пропавший без вести? Думаете, он был шпионом или диверсантом? В чем виноват цвет беспартийной интеллигенции, сгноенный в лагерях? Вы что, не знали об этом?
– Не знала, – шепчет она побелевшими, сухими губами. Добрые голубые глаза смотрят с ужасом, молят о пощаде.
– Может, вы и того не знали, что половина руководящего актива партии тоже оказалась в лагерях в тридцать седьмом? – говорю я жестко. – Может, не заметили, что тогда секретари обкомов и облисполкомов, старые большевики и активные комсомольцы летели, как чурки в лапте? Вы кто по специальности?
– Писательница, детская писательница, – шепчет она.
– Ну тогда вы должны были приметить, что исчезли Пильняк, Мандельштам, да что перечислять, десятки писателей исчезли и погибли.
– Кто же их погубил?
– Система НКВД, которая безо всяких улик и доказательств может арестовать и расстрелять человека. «По подозрению» – пишется в приговорах Особого совещания. Вы еще не встречались с этой формулировкой?.. На Колыме полковник Гаранин расстрелял десять тысяч человек, и нам зачитывали их имена на поверках. А потом расстреляли самого Гаранина. Это тоже входит в систему…
Голубые глаза кричат от ужаса. А я уже не могу остановиться – меня понесло волной боли и гнева, мне не жалко ее, меня корежит от простодушной наивности и неведения.
– Как же вы могли не видеть того, что делается?
– Я верила партии, верила тому, что пишут о необходимой бдительности, – шепчет она.
– Бдительность, погубившая миллионы людей! Теперь увидите!
Она больше не плачет, с робостью и недоумением начинает перестраиваться сознание этой, впервые до конца ужаснувшейся от бедствий страны, женщины. Она молчит, а потом медленно говорит:
– Муж мой, комсомолец и молодой поэт, в тридцать шестом году покончил с собой – бросился с шестого этажа… Меня убедили, что в припадке безумия… Он был нервный… И были у него в то время какие-то мне неясные тяжелые переживания… Он был мрачен, казался минутами в каком-то отчаянии… Я думала, это нервное расстройство… Но это было другое… Теперь понимаю, что другое. Он, наверное, уже тогда увидел эту бездну. Мне иначе все освещается… Но как жить с этим?
– Постараться понять до конца. Это помогает собрать силы, чтобы выжить.
– Страшно понять…
Она раздавлена, ищет опоры. Именно поэтому и возникает такой разговор при первой встрече – в надежде найти опору. Но я-то уж знаю: не надо ни утешать, ни жалеть сейчас, надо встряхнуть до конца и заставить думать. Тогда опора придет сама собой. Не сразу и думать возможно… Безошибочным чутьем прошлого опыта знаю: пора дать отдохнуть.
– Вас в какой барак поместили?
– Кажется, во второй.
– Правильно! К ним вчера поместили этапниц, но я вечером так устала – много воды пришлось качать, чтобы вымыть новый этап, – как-то даже забыла посмотреть. Неплохой барак. Наша бригада тоже там, только в другой секции. У вас есть конверт и бумага, чтобы написать письмо домой?
– А позволят написать?
– Конечно! Этапу сразу разрешают. Мы имеем право писать родным раз в месяц, а получать писем – неограниченно. И посылок тоже.
Она по-детски радуется возможности сообщить домой. Высохли слезы, голубые глаза уже улыбаются, когда она рассказывает о маме, о тех, кто остался на воле. Как справится мама, что будет делать? Они жили втроем – она, мама и приемная дочка – младшая дочь ее сестры, которую привезли после блокады почти умирающей. У сестры в Ленинграде тогда умер муж и остались трое детей. Она взяла себе младшую.
Все это очень тяжело и тревожно, но это уже не бредовая лагерная, а житейская понятная тревога. И кажется почти счастьем, что можно написать, узнать про всех, распорядиться… Мы идем в барак за конвертом и бумагой. По дороге устанавливаем: конечно же, у нас есть общие знакомые; спорим о значении Маршака в детской литературе. Мы почти утвердились в нелагерных нормах реальности. Так началось мое знакомство с Надеждой Августиновной.
Каждый этап, и только он, приносил новости в однообразие лагерной жизни. Этапы разносят сведения из конца в конец лагерного мира, от Воркуты до Магадана, от Караганды до Норильска. Люди этого мира жадно ловят и передают вести – они лишены других сведений. От этапников узнают о других лагерях, о родных и друзьях. Иногда неожиданно, вдруг – встречают близких в пришедшем этапе.
Помню, прибыл новый этап на 6-й лагпункт. Ко мне прибежали, сказали:
– Вас ищет Шатерникова… Больная, не ходит, на носилках принесли в четвертый барак.
– Шатерникова!
Мы сутки провели с ней в московской пересылке. Только сутки, но и за сутки можно многое учуять в человеке: соприкосновение обостряется на грани неведомого. И вот снова скрестились дороги.
Побежала в барак.
Большая, красивая, она лежала, тяжело распластавшись на нарах. Протянула мне руки:
– Вот и встретились! А я совсем инвалидом стала – вспыхнул старый бруцеллез и свалил меня.
Мы обнялись.
– Татьяна Михайловна! Как же вы? Что же вы?!
– Да вот, дали костыли, кое-как на них двигаюсь. Но иногда такая судорога в ноге, что лежу как бревно, – усмехнулась она. – Лучше расскажите, как вы?
Неподвижная, она не потеряла способность думать, смеяться, радоваться принесенным цветам или острой красоте закатного неба. Сохранила великое умение – уйти из лагерей. Мы подружились на годы, все время боясь: а вдруг разлучат навсегда? Как на фронте, в лагере дружба острее оттого, что может в любую минуту оборваться.
С 6-го снаряжают этап огромный. Выкликают списки фамилий. Сжимается сердце: кого возьмут и куда? Вызвали Нину Дмитриевну. И Кэто – слава Богу! Значит, они хоть вместе! Вызвали Доброву, Рузю, Галю. А меня? Жду! И меня! А Шатерникову? Как Шатерникову? Не вызывают?! Вызвали! Ну, какое-то время, видимо, вместе.
Прибыли на 10-й лагпункт. У Добровой язва желудка. Нина Дмитриевна почти ослепла от катаракты и качается, как былинка, от слабости. Их помещают в барак «малолеток», а потом переводят в полустационар. Мы в рабочих бараках, но навещать их можно. И это утешает. Как передать состояние человека, который месяцы, годы лежит на нарах? Шатерникова лежала. Кругом стоны, слезы, ссоры отчаявшихся старух. Санитарки раздают металлические миски с обедом, с ужином. День сменяется ночью. Ожидание каких-то вестей, перемен. Безнадежное и бесцельное ожидание… Как вода в канаве, текут дни. Брякают железные миски – обед. Топают мужские шаги – поверка. Звон в рельсу – отбой. В полутьме глуховатый и низкий голос Александры Филипповны Добровой читает стихи, рассказывает о литературной Москве, о муже, о Данииле Андрееве. Тихий смешок Нины Дмитриевны радостно откликается на шутку. Тонкие руки Татьяны Михайловны освещены косым лучом из окна за нарами: она лепит фигурки животных. Текут дни. Из глины, из мягкого хлеба, из проволоки и ваты. Как антитеза лежанию, фигурки всегда в движении – кошка в прыжке, собака в напряженной стойке над дичью или в лае, лошади в стремительном беге. Она лежит, смотрит строгими, пристальными глазами и лепит.
– Не думала, занимаясь научной работой, что я – непроявившийся скульптор, а вот оказалось, – усмехается она, когда проходящие мимо нар женщины умиляются на зверюшек.
Женские лагеря отличаются от мужских неистребимым стремлением создать дом из нар. Отгородят тряпками, на тряпки повесят вышитые коврики или салфетки, на подушку или на тумбочку поставят «игрушки» – фигурки из лоскутков, изображающие клоунов, балерин, негритят. И это уже дом. Зверюшки Татьяны Михайловны пользовались необычайным успехом: ей приносили глину и вату, упрашивали слепить, расхватывали сделанное. Гордый человек, она трудно переносила беспомощность и зависимость от чужих услуг. За «игрушки» ей несли пайки хлеба, комки сахара, которые она отдавала санитаркам в благодарность за то, что возились с нею. Дарила им и ватных зверюшек. Для нее же самой лепка была необходимым выходом во внелагерный мир.
Прибыл новый этап на 10-й… Я прибежала к Шатерниковой.
– Таня, ты знаешь, пригнали Ирину Львовну Карсавину, дочь Льва Платоновича Карсавина, профессора Петроградского еще университета, который написал в 20-м году книгу «Nogutis Petropolitanis».
– Книгу помню, интересная книга.
– В двадцать втором году его выслали за границу, вместе с Лосским и другими профессорами-немарксистами. Дочь была тогда еще девочкой. Попали они в Париж, она училась в Сорбонне, расскажет о Франции, об отце… Хочешь, я приведу ее к тебе?
У Тани светлеют глаза:
– Интересно… Приводи обязательно!
– Карсавина – сухонькая, черненькая, как галка, на отца непохожа. Тот был красавец с кудрями и огненным взглядом. Я слушала его лекции под портретом Владимира Соловьева, тогда еще висевшим в аудитории университета. И сам он был под Владимира Соловьева. Что стало с ним за границей?
– Талантливый был человек?
– Очень!
– Ну, жду, очень жду, приводи!
Ирина Львовна пришла. Села, подергивая плечами. Быстрые, сухощавые ручки ее все время двигались. Глаза, темные и горячие, как у отца, смотрели едко и настороженно. Она держалась а quatre epingeles, как говорят французы. И сама походила на француженку. Об отце рассказывала. Они долго жили в Париже, в тесноте эмиграции, тяготившей его. Она не любила эмиграцию, но любила Париж, Сорбонну, острые блюда и острые разговоры французской интеллигенции.
Она осталась в Париже, когда отец и мать перебрались в Литву. Отец стал профессором Вильнюсского университета, специалистом по истории литовского языка, литовские ученые обращались к нему за консультацией. Написал на литовском языке «Историю европейской культуры» в 7 томах.
– Как жаль, что на литовском, – сказала Таня, – ведь мало кто сможет прочесть.
– Отец говорил: кому надо, тот выучит язык и прочтет.
– А как он смотрел на историю европейской культуры? Как Шпенглер, ждал «заката Европы» или нет?
– Я не читала, меня мало интересует история культуры. Знаю, что говорил о росте государства, проводя аналогию с государством Древнего Египта. Он стал интересоваться египтологией одно время. А меня, знаете, мало интересовали эти экскурсы в прошлое. Не люблю абстрактных философических построений, – она засмеялась, подергиваясь: – Ему, вероятно, тоже сейчас не до абстракций. В 70 лет попасть в лагеря… Вряд ли выживет долго…
– Он когда же попал?
– Когда ваши советские войска освободили Литву. Я имела глупость приехать к ним в гости из Франции. Взяли его и меня… Мама осталась одна. Она писала мне, что отец в Абези, – губы ее опять передернулись, горько и зло. – Я давно не имею вестей о нем… Впрочем, это естественно… В германских лагерях стариков сжигали живьем. Здесь, кажется, не сжигают, но все равно они умирают.
Говорить с ней было трудно, временами казалось, она на грани бреда.
Относительно отца она оказалась права: Лев Платонович Карсавин умер в лагерной больнице в 1950 году. Впоследствии я узнала от мужчин, с ним сидевших, и от врача, который анатомировал его тело, что до последнего дня он интересовался не своей судьбой, а культурой человечества. Это – он выдержал. На анатомическом столе лежал старик с лицом прекрасным и значительным.
Этапы приносили вести о судьбах людей, которых мы никогда не видели. Еще в тюрьме я слышала, что вслед за мной была взята моя сослуживица по Институту этнографии – Юлия Николаевна.
В тюрьме она родила, а через два месяца сына у нее отобрали и отправили в Дом младенца. Тяжело шло следствие. Потом я узнала: она тоже в Темниках, на 13-м отделении, там же, где сейчас Ивинская.
– Ивинская? Кто такая?
– Жена Пастернака, сидит за него…
– Значит, и он арестован?! – заволновалась интеллигенция.
– Вероятно, да. Она говорит, взяли за то, что получила хвалебную книгу о Пастернаке, написанную в Америке… Красивая женщина…
– А про Бориса Леонидовича ничего не знаете?
– Говорят, в лагерях, где-то у Котласа…
– Боже мой! Пастернак?!
Мы качали воду для бани, когда прибыл этап. 30 женщин стояли у вахты. Девчата побежали смотреть. Вахтеры, как всегда, отгоняли их от вновь прибывших. К ним не пускали, пока не приняты, но лагерь успел узнать: с 13-го, не инвалиды.
Их поместили в рабочий барак, в соседнюю с нашей секцию. Окончив качать, пошла туда. Как всегда с новым этапом, суета, груда вещей на полу, размещение по нарам. Мне указали: вон Ивинская, та самая!
Она стояла в распахнутом бушлате, что-то взволнованно говоря, кому-то доказывая:
– Так нельзя, ну просто немыслимо! – Платок сполз у нее с головы, открыв пышные светлые волосы.








