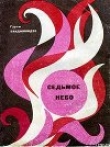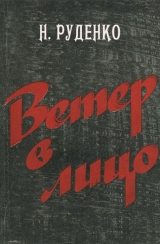
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
49
Федор, после того как Виктор отошел от окошка вагона, не пригласив его в купе и не пожелав выслушать запоздалой исповеди, постоял немного на перроне и, как человек, получивший заслуженного пощечину, покрасневший от стыда, нетвердыми, медленными шагами ушел с вокзала.
Где-то близко, над самой крышей гостиницы, ударила молния, которая, казалось, пополам расколола небо. Гром был трескучий и сильный – он напоминал одновременно и хлопанье огромного конопляного кнута в руках веселого пастушонка, и взрыв близкой мины. Как будто эти два разных и далеких по своему происхождению звука соединились каким-то образом в один, всколыхнув воздух над городом, заставив провода гудеть, а стекла в окнах – мелко звенеть... Это было словно условным сигналом для нацеленных в разные концы города десятков гигантских молниеносных стрел – в горячих, ярких вспышках они начали дружный обстрел зеленых, окруженных деревьями, кварталов. А гром прогуливался по небу, недовольно ворчал, наверное, обиженный тем, что хитрые люди научились, не прилагая усилий, отводить эти стрелы в землю, и теперь ходят себе по улицам, не обращая никакого внимания на его огненные забавы. Кончалось лето. Это была, наверное, последняя гроза. Какое же оно длинное – лето одного года!.. Как много прочувствовано и пережито!
Старому ворчуну надоело наблюдать людское равнодушие к его грозным развлечениям. Хлопнув раз так, что высокие тополя вокруг сквера задрожали, пригнулись, съежились от страха, он замолчал, решив на этот раз атаковать город не огненными стрелами, а ледовой шрапнелью. И сразу по крышам забарабанили десятки невидимых барабанщиков, по тротуарам мелко застучали белые ледовые шарики, запрыгали, замелькали, как сотни веселых белых мышат, что, играя, бегут, догоняют друг друга... Какой-то сумасшедший лохматый песик выскочил из ворот, бросился догонять белую ледовую мышку... Но его больно ударило градом, он вертелся, догоняя собственный хвост, не понимая, откуда сыплются удары, и отчаянно скулил. Голый, в одних трусиках, мальчишка лет двенадцати с беспокойством выкрикивал из-за ворот:
– Барсик! Сюда, сюда! Барсик!..
Но Барсику, видно, забило мозги – он не слышал голоса своего юного хозяина. Тогда мальчишка, подставляя под холодные удары града голую спину, бросился спасать озадаченного песика.
Улицы опустели. Люди толпились в подъездах, под киосками для продажи воды, под стенами домов.
Федор тоже присоединился к одной кучке, что стояла под жестяным навесом крыльца небольшого двухэтажного здания промтоварного магазина. Люди смеялись, весело переговаривались между собой, сопровождали хохотом какого-то растерянного прохожего, не успевшего спрятаться от града. Почтенный гражданин, толстый портфель которого густо промок, – с него стекали дождевые капли, – грустно покачал головой:
– Опоздаю! Обязательно опоздаю!
– Да вот же трамвайная остановка, – сочувственно подсказала девушка в синем дождевике.
– Конечно! – Сердито покосился на нее человек с портфелем. – Попробуй сама.
– И попробую! – Гордо бросила девушка, поправляя на голове капюшон дождевика. – Подумаешь, как страшно!..
Она вышла прямо под град, побежала через улицу.
Федор невесело улыбнулся, глядя, как белые льдинки отлетают от синей фигуры девушки, и тоже шагнул под град. За ворот упали холодные капли дождя, в открытую голову ударяло летящими льдинами. А Федор шел посреди тротуара, и ему было приятно чувствовать холодные прикосновения на голове, на щеках, на шее. Они как бы тушили внутренний немилосердный огонь...
Кто-то схватил его за руку, с силой потянул в красные полуоткрытые ворота.
– Федор Павлович! Зайдите во двор. Переждите под яблоней. Или пойдемте в дом.
Это был Василий Великанов. Одет он был по-праздничному, в хорошо сшитую синюю пару, на фоне белой шелковой сорочки переливался всеми цветами радуги завязанный толстым узлом яркий галстук. Белокурые волосы вились крупными кольцами, падая на смуглый лоб. На шее – широкий ремень аккордеона, маленькие брусочки клавиш сияют перламутром, а глаза Великанова поблескивают двумя подвижными каплями ртути. Вся его фигура – сильная, крепкая, пружинистая – наполнена густой неизрасходованной силой, как молодой дубок свежими соками. И почему-то он на этот раз показался Федору не таким низеньким, как раньше. А искренняя, добродушная улыбка делала его лицо красивым.
– Заходите, товарищ директор, к нашему шалашу.
Если бы в это обращение было вложено меньше простоватой, доброжелательной искренности, Федор, возможно, воспринял бы его как оскорбление. Действительно, какой из него директор?.. Особенно сейчас.
– Нет, я пойду, товарищ Великанов. Спасибо.
– Как же вы пойдете?.. Такой градище. Словно кто-то небесные груши трясет. Как же идти?
– Да, как видите.
Федор направился по тротуару, оставив Великанова в воротах. Но вот Василий прикрыл полой пиджака аккордеон, бросился догонять Голубенко.
– Федор Павлович!.. Вы, наверное, во Дворец культуры?
Федор оглянулся, смерил Василия равнодушным взглядом.
– А что там?
– Как это – «что»? – Удивленно и несколько обиженно спросил парень. Затем с нескрываемым упреком в голосе ответил: – Наша заводская самодеятельность выступает. Подготовка к городской олимпиаде. – И после паузы добавил: – А из начальства никого нет. Ни Макара Сидоровича...
– Макар Сидорович в Москве, – холодновато заметил Федор.
– Ну, вот... Я и говорю.
Федор вспомнил, что его вчера приглашала на сегодняшний вечер самодеятельности Лиза Миронова, но разве ему сейчас до этого? Однако, действительно получается как-то неудобно. Надо зайти. Иначе молодежь обидится. Взглянув на часы, спросил:
– Когда начало?
– Через полчаса...
Во Дворец культуры они зашли тогда, когда почти все зрители сидели на местах. Василий провел Голубенко в первый ряд, шепнул какому-то парню, чтобы тот освободил место. Федор сел на скамью, оглянулся. Просторный зал и балкон были заполнены молодыми рабочими. Розовели улыбающиеся девичьи лица, сверкали белые зубы, развевались голубые, зеленые, белые платочки, золотились в свете люстр мальчишеские вихры. По залу катился сдержанный шепот, будто шуршащие волны среди спелой пшеницы. За Федоровой спиной худенький остроносый парень нашептывал что-то очень смешное в ухо круглолицей, полнощекой девушке, а та звонко хохотала в маленький кулачок. «Счастливые! – Подумал Федор. – Вот она, та замечательная жизнь, о которой я мечтал на фронте. Так просто... И прекрасно. А я выпал из колесницы».
Занавес раздвоился, медленно пополз в стороны. На сцену свободной, легкой походкой вышел конферансье – мастер мартеновского Трофим Яцына.
– Начинаем концерт художественной самодеятельности металлургического завода. Первым номером нашей программы – песня «Ленинские горы». Исполняет Владимир Сокол. Аккомпанирует Василий Великанов.
Видимо, молодые актеры-любители уже успели завоевать симпатии заводской публики – им аплодировали щедро, увлеченно. А когда на сцене появились Сокол в черном костюме и Великанов в белой рубашке, без пиджака, густые аплодисменты превратились в дружные, совместные, с большими паузами, удары ладоней, напоминающие удары морских волн о гранитную скалу. «Великанов промок, поэтому снял пиджак», почему-то подумал Федор и только сейчас заметил, что штанины брюк прилипли к коленям, а мокрый воротник пиджака натер шею.
Федор впервые слушал, как поет Сокол. Он даже не подозревал у этого скромного парня такого сильного голоса. Перед Голубенко появился образ Москвы во всем ее величии, а также то обыденное, что неизбежно окружало его всегда, когда он приезжал в столицу, теперь оно казалось ему значительным, полным благородного содержания. Аккордеон в руках Великанова превратился в живое, поющее существо с чистой, как майское небо, душой. Песня рождала радостное волнение, будила гордость, ощущение силы...
Федор вспомнил Солода – и ему показалось, что все сейчас заметят, как покраснело его лицо. Песня высокими, светлыми чувствами будто снимала темную завесу с его ума, стучала в сердце, спрашивала: «Надежно ли ты любишь ту землю, на которой живешь, тех людей, которые тебя окружают?.. Еще один шаг, даже полшага – и ты бы утонул в болоте предательства. И виноват в этом ты сам, твоя близорукость».
Федор закрыл глаза от боли, снова подошедшей к сердцу. «Рано это началось, – подумал он. – Рано..»
Следующим номером программы был танец «молдовеняску». Девушки в коротких молдаванских костюмах вылетели на сцену с такой искрометной скоростью, словно их выбросила катапульта, скрытая за кулисами. Пальцы Великанова стали невидимыми – так быстро они мелькали по клавишам аккордеона. А девушки то разбегались, то снова слетались в тесное кольцо, то мелко топали о деревянные подмостки, то дружно били маленькими сапожками, что даже люстры под потолком покачивались от этих ударов. Разноцветные ленты за их спинами расходились веером, слегка трепетали, кружили в воздухе, не успевая лечь на плечи.
И снова аплодисменты, возгласы: «Бис! Бис! Браво!»
Но вот Федор заметил, что в четвертом ряду между заводскими девушками сидит Валентина. Она тоже слегка похлопывает в ладоши, улыбается, хотя в ее улыбке и нет той взволнованной непосредственности, что звучит на девичьих устах. На ней белая шелковая блузка с короткими рукавами, прядь шелковистых волос упала на розовую щеку...
Больше Федор не мог смотреть на сцену. Ему вдруг стало холодно. Он не посмел снова повернуть голову, чтобы не приковать к себе внимание молодежи, но спиной, затылком, всем своим существом чувствовал, что она здесь, рядом, смотрит на него... Подойти, попросить выйти?.. Нет, сейчас неудобно. А удобно ли вообще? Что она думает, что решила?.. Сотник уехал. Вид у него был не из радостных. Значит...
Нет, Федор больше не может находиться в таком состоянии. Прижал руку ко лбу. Лоб горячий, но ему холодно, очень холодно... Тело начинает дрожать, и Федор не способен унять дрожь. Ему кажется, что это почувствовали ребята, которые сидели рядом. Видимо, лихорадка или грипп...
Он встает со скамейки, осторожно идет к выходу. У самых дверей оглядывается. Да, Валентина заметила, что он вышел. Может, и она выйдет? Нет, отвернулась, смотрит на сцену. Заговорила с какой-то девушкой...
Федор выходит из вестибюля, отправляется домой. Град успел растаять, только на крышах, у жестяных желобов еще поблескивают маленькие ледяные шарики и иногда вдоль тротуаров стайки воробьев налетают на мелкие белые крупинки и, не найдя для себя пищи, разочарованно взлетают в воздух.
У оплетенной диким виноградом веранды Федор останавливается. Поднимает сбитое градом яблоко, задумчиво взвешивает на ладони. Яблоко холодное, как большая градина. Надкусил, медленно жует и, поморщившись, выплевывает... Влажный песок вокруг веранды устелен обитыми, порубленными листьями.
Вот он, твой дом, твой гнездо, слепленное когда-то тобой с ласточкиным восторгом. Здесь ты был счастлив, здесь привык уважать себя, потому что в этом доме к тебе относились как к хозяину, угадывали твои вкусы, твои желания. Здесь у тебя была семья – жена, сын. Что же будет теперь? Неужели для тебя останутся только глухие стены, молчаливый скрип половиц длинными зимними ночами, когда ты будешь топтать пол от бессонницы, и монотонное завывание ветра в трубе?..
И снова больной вопрос – а кто тебя любит?.. Почему у тебя нет друзей? Разве в многотысячном заводском коллективе нет людей, которые могли бы стать твоими друзьями? Почему ты жил одиноко, замкнуто, ходил среди людей, как среди деревьев в темном сосновом бору, никому не открывая своей души, не принимая близко к сердцу ничьих радостей и печалей? Как это произошло, когда это началось?.. И может, именно это сделало тебя таким, какой ты есть, а может, это было причиной твоего преступления?.. И почему Валентина понесла свое горе в клуб, к заводской молодежи, а ты...
Нащупал в кармане ключ, вставил в замочную скважину, открыл дверь в дом. Все было так, как всегда – посреди комнаты круглый стол, покрытый плюшевый скатертью, диван, стулья. На стенах картины, вышитый Валентиной портрет Горького, на полках – книги... Только воздух тяжелый, душный – видно, окна сегодня не открывалась.
Но вот он обратил внимание на то, что книг стало меньше, на полках появились широкие темные проемы. Конечно, нет Пушкина, нет Маяковского, словаря иностранных слов, нескольких технических книг, которыми чаще всего пользовалась Валентина.
Лихорадочно открыл шкаф для одежды. Сладковатый запах нафталина и духов неприятно защекотал ноздри. В шкафу висели его костюмы, сорочки, но не осталось ни одной вещи Валентины!.. Значит, все! А может, это временная вспышка и она еще вернется? Может, все это пройдет, прошумит над головой, как сегодняшний град, растает, сойдет за водой, а холодные остатки доклюют веселые воробьи?..
Взгляд Федора упал на кусок полотна, что лежал возле дивана. Поднял, подошел к окну, открыл. Но это же вышивка Валентины, которая его когда-то глубоко встревожила своей мрачной символикой!.. Она, видно, выпала из вещей, когда Валентина упаковывалась. Перед Федором снова предстала картина – с севера наплывает тяжелая туча, прямо в днепровскую волну ударила молния... Коренастый столетний дуб, подожжен грозой, протягивает к воде горячие, обугленные ветви, а молодые дубки жмутся друг к другу, и буря бросает языкатое пламя, окутывает их тоненькие, еще не окрепшие ветки...
Холодные мурашки забегали под влажной сорочкой Федора. Бросился в кабинет. Здесь тоже все было так, как всегда: занавешенные ковром двери в спальню, широкий письменный стол, полки с книгами, фотография Валентины на стене, над письменным столом. На него посмотрели ее глаза – веселые, умные, немного уставшие... Но почему фотография прибита ниже, чем висела всегда, а над ней – дырочка в штукатурке, там, где раньше был гвоздь, к которому она крепилась?
Федор понял – Валентина, очевидно, хотела ее забрать, сняла со стены, а потом передумала и повесила снова... Что это значит? То, что она колебалась в своем решении, только то, что она жалеет его, не хочет полностью вычеркнуть из памяти годы, прожитые с ним, его любовь, пусть украденную, запятнанную преступлением, но искреннюю?.. Как бы то ни было, но это свидетельствует о том, что ей нелегко было уйти из дома, где прошла ее молодость.
Когда Федор рассматривал фотографию, его рука нащупала на столе клочок бумаги. Едва взял его пальцами, что стали грубыми, одеревеневшими, как от мороза. Робко поднял к глазам и, затаив дыхание, сжавшись, как под обухом, что вот-вот опустится на голову, начал читать.
«Федор!
Мы с Олегом ушли от тебя навсегда. Он еще не способен всего понять, его судьбу пока что должна решать я. Позже он поймет и – я в этом уверена – одобрит мой поступок.
Ты украл сына у родного отца, ты лишил отца священной радости и наслаждения следить за ростом ребенка, за его первым шагом, первым словом, первой самостоятельно написанной буквой... Это то, чего не вернешь, не переживешь второй раз.
Я бы должна была ненавидеть тебя, но этого чувства во мне нет, я много лет прожила с тобой и знаю, что в тебе есть немало хорошего, благородного, высокого. Кроме того, я частично виновата сама... Поспешила. От всей души желаю тебе устроить свою жизнь так, чтобы на ней не было темных теней. Прощай!
Валентина».
Федор читал и снова перечитывал это письмо, написанное тщательным, округлым почерком, с четко поставленными точками и запятыми. Видимо, оно возникло не сразу, а несколько раз переписывалось Валентиной. Сначала Федор удивился, что ее приговор не вызвал у него никакой реакции. Ему даже показалось, что содержание этого короткого письма он знает давно, читает его не впервые. Разве Федор не пытался представить, что скажет Валентина, узнав правду?.. И он не раз представлял ее ответ именно таким.
Но вот он чувствует, как к горлу подкатывает липкий, холодный комок, как становится все труднее и труднее дышать. Сердце бьется отрывисто, то очень часто, то слишком медленно. Откуда-то до его слуха донеслось стрекотанье кузнечиков... Оно постепенно превращается в цоканье подков, а затем в тяжелые удары молота... Да нет, это просто звенит в ушах.
Вот, Федор, и кончилась твоя продолжительная борьба за счастье! Один клочок бумаги на твоем письменном столе порвал все надежды, поставил точку на длинной повести о том, как ты старался, обворовав других, осчастливить себя. А что дальше?.. Как жить? И стоит ли жить?..
В его воображении неожиданно возник образ милой, скромной Натали из «Тихого Дона», скорбной жены Григория Мелехова. До галлюцинации ярко представлялись ее безумные глаза, посиневшие губы, восковое лицо в ту минуту, когда она в полутемном сарае налегала молодой полной грудью на ржавое острие косы, чтобы покончить с мучениями неразделенной любви...
Федор напряг всю свою волю, чтобы прогнать этот страшный призрак, а он становился все ярче и приковывал к себе его внимание, гипнотизировал его...
Что-то надо делать, чтобы забыться. Например, поставить зеркало на письменном столе, развести мыло, побриться. Он, пожалуй, похож сейчас на пещерного человека каменного века...
Федор подошел к зеркалу. На него глянуло оттуда худое, покрытое серебристой щетиной лицо с тяжелыми мешками под красными от бессонницы глазами. Оно показалось Федору чужим, неприятным.
Вспомнились молодые орлы, которых он спас... Неба не хватает! Скрестились дороги. Не разойтись с Сотником.
Но вот Федор поймал себя на том, что он, украдкой от самого себя, рассматривает, где проходит сонная артерия... Сам ужаснулся своего взгляда, как ужаленный, отскочил от зеркала...
Дверь открылась, в кабинет зашел Кузьмич, бросил настороженный взгляд на Федора, дрожащего всем телом, молча сел на диван. Затем встал, подошел к нему.
– Ну?.. Снимай ботинки. Отоспись, как следует. Я сейчас пришлю сюда Марковну... Эх, полынь-трава... Сам же сталь делаешь, а характер...
После гнетущей паузы, не слыша своих слов, Федор ответил:
– Если стальную болванку поливать кислотой, она быстро заржавеет...
Он медленно начал успокаиваться, но руки еще дрожали, и Федор не знал, куда их спрятать от пристального взгляда Кузьмича. Кузьмич, доволен тем, что Федор вышел из состояния прострации, улыбнулся:
– Ничего, голубь сизый... ржавые болванки у нас тоже зря не пропадают. Мы их снова переплавляем на сталь. А как же иначе?.. Ну, разувайся и ложись. Остынь немного... Горишь весь.
Федор послушно, механически, как автомат, начал расшнуровывать мокрые, грязные ботинки, а Кузьмич ушел на кухню, чтобы намочить полотенце и положить ему на голову.
50
«Дорогой Виктор!
Попробую объяснить, почему я отказалась от встречи с тобой в день твоего отъезда.
Возможно, здесь несколько виновата моя мать. Когда я рассказала ей, почему ушла от Федора, она начала уговаривать меня немедленно бежать к тебе, задержать, просить, чтобы ты вернулся. Мол, сын у него растет. Разве можно отказаться от такого сына?
Я пыталась ее успокоить, говорила о том, что это сгоряча не решается, что мне надо подумать...
Но мать, как тебе известно, не послушалась – втайне от меня собралась и поехала к тебе в гостиницу. Затем появился ты... Это все было для меня неожиданно, я была морально не готова к разговору, растерялась и велела матери сказать, что меня нет дома. Бедная моя мама! Мне жалко было смотреть на нее в эти минуты...
А когда она, озадаченная и подавленная, вышла к тебе, чтобы выполнить мое поручение, я не выдержала, выглянула в окошко... И тут ты меня заметил. Я видела, как ты вздрогнул, нахмурился... А потом повернулся и ушел. Мне хотелось догнать тебя, вернуть, но я не осмелилась. И может, это лучше...
Потребовалось время, чтобы разобраться в чувствах. Ты пишешь, что тебе все ясно, – мы должны быть вместе... А мне это не сразу стало ясно. Я и сейчас в этом не до конца уверена...
В тот день, когда я решила уйти от Федора, мне казалось, что у меня никогда к нему не было никаких чувств, он заслуживает лишь ненависти, презрения... Но вот я узнала, что он тяжело заболел; сразу поняла, что я не равнодушна к Федоровой судьбе и к нему самому. Были минуты, когда я готова была вернуться к нему, все простить, забыть... Мне очень его жалко!
В моих колебаниях не последнее место занимали размышления о том, как бы сложилась наша жизнь, если бы мы с тобой окончательно решили жить вместе.
Подумай хорошо, – мы же сейчас совсем не те люди, какими знали друг друга в юности. И я уже не та, и ты не тот... Мы с тобой почти ровесники. Но я чувствую, что уже начинаю стареть. А ты внешне почти не изменился. Моя молодость прошла с другим. Разве морщины на моем лице не будут тебе всегда об этом напоминать?.. Разве тебе не будет больно от того, что ты меня знал молодой, сильной только те девять дней, которые мы прожили вместе на Урале?.. Ой, Виктор! Подумай об этом...
Сейчас, когда прошло полтора месяца, я твердо знаю, что с Федором наши дороги разошлись навсегда. Я теперь знаю, что в моей тревоге за него гораздо больше говорила многолетняя привычка, чем настоящее чувство... Как только я снова увидела его здоровым, моим сердцем завладел холодок отчуждения. Я где-то слышала, что от жалости до любви один шаг. Неправда! Там, где начинается жалость, любовь кончается...
Мне нужно было время, чтобы посмотреть на всех нас – на себя, на Федора, тебя, – со стороны.
Виктор! Я боюсь писать все, что чувствую. Боюсь потому, что уверенна пока что только в своих чувствах. О тебе я знаю только то, что ты мне написал. Я хочу, чтобы ты все продумал спокойно, несмотря на то, что думаю и чувствую я... Нет, я не буду обижена, если ты вдруг поймешь, что в твоей любви с годами ослабли крылья, она способна лишь на короткие трепыхания, а не на высокий полет, и напишешь мне об этом честно. Да, не буду обижена! Только честно... И именно этого я жду.
Теперь о нашей работе. Были и еще, видимо, будут серьезные осложнения. Пока что не каждому сталевару доступен наш метод. Но лучшие сталевары им пользуются с успехом. Уже не только Круглов и Сахно применяют на своих печах интенсификатор – на новый метод перешли Кузьмич, Торгаш, Филимонов, Бусло... Спасибо за твою статью в «Правде»! О ней на заводе было много разговоров, и почти все положительные! Мы получаем много писем. На завод начали приезжать металлурги с Урала, Донбасса, Приазовья. Все интересуются нашей работой. Как быстро у нас получает хороший резонанс каждое полезное усовершенствование!
До свидания! Пиши.
Валентина.
Р. 5. Олег уже знает, что папа Виктор, изображенный на фотографии военного времени, что висит над его кроватью, и ты – это один и тот же человек. Он был очень обрадован этим открытием!.. Каждый день спрашивает: «Когда же приедет папа Виктор?..»
А действительно – когда?.. Вижу, что в письме не сумела выразить и сотой доли всего пережитого и прочувствованного. Видимо, все может объяснить и решить до конца только новая встреча... И я... жду ее с нетерпением и страхом».