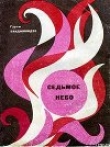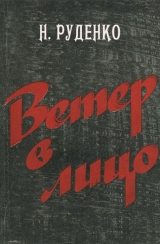
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
38
Скандалы между Колей и Верой начались неожиданно и были болезненными для обоих. Как-то вечером, когда они вернулись из кино, Коля, не зажигая света в своей маленькой комнатке, посадил Веру на колени, погладил рукой ее шелковистые волосы и тихо, задумчиво сказал:
– Вера, кого бы ты хотела – мальчика или девочку?..
Вера резко повернулась, коснувшись грудью его груди, затем откинулась назад и испуганным голосом спросила:
– Что ты... Зачем?.. Ни за что! Так и знай – ни за что!
В сумерках, разреженных светом уличных фонарей, Коля не видел ее лица, но догадывался, что оно сейчас плохое, неприятное. Он очень не любил, когда она злилась, ее лицо становилось тогда неразумным, несимпатичным. Коля в таких случаях спешил ее успокоить. Но сегодняшняя Верина вспышка была ему непонятна. Сначала она его удивила. Ведь Коля не сказал ничего такого, что бы могло ее обидеть. Разве это обидно, унизительно – иметь детей?
– Я не понимаю, чего ты закипела?.. Что тут такого?
– Ни за что!
Она с напряженной легкостью кошки спрыгнула с его колен, а он встал, включил свет. Лицо ее было действительно таким, каким он его представлял – злым, несимпатичным. Он иногда удивлялся этим внезапным изменениям, но сейчас ему было не до них.
– А я думала... – тихо сказала она. В ее голосе прозвучало разочарование.
– Что ты думала? – Раздраженно спросил Коля.
Вера подошла к кровати, положила руки на холодную никелированное дугу, подбородком облокотившись на скрещенные ладони. Волосы рассыпались золотым пушистым веером, но даже это не могло сейчас украсить ее лицо. Она смотрела в угол комнаты, а Коля видел ее профиль, окаменевший в гневной задумчивости.
– Что ты думала? – Переспросил он.
– Я думала, что в тебе больше свободы, поэзии, – не глядя на него, ответила она. – Мне не приходило в голову, что ты такой глухой эгоист.
– Эгоист? Ты понимаешь, что говоришь?
Коля сбросил пиджак, бросил его на застеленную тюлевым покрывалом кровать. Снял галстук, смял в руках.
– Я думала – ты хочешь закрепить свое имя среди лучших людей страны. Что у тебя высокие порывы, большие желания, смелые взлеты. А ты вон о чем... О пеленках.
– Да разве это мешает?
Вера оторвала руки от спинки кровати, посмотрела на него голубыми глазами, что сейчас, в ярком освещении, казались зеленоватыми, как стоячая вода, и сердито сказала:
– Тебе не мешает. А мне? Ты об этом подумал? Я еще даже не жила по-настоящему. Ты хоть раз заговорил о том, чтобы послать меня на курорт? Хоть раз? Ты знаешь, что такое озеро Рица?.. Да нет, ты вообще ничего не знаешь. Или если знаешь, то только для себя.
Сейчас Вера не играла – она была сама собой. Ее раздражало, возмущало, что в Коле оказалось меньше оригинального, чем она думала. То же самое однолинейное, шаблонное мышление, что и у большинства людей. А она верила, что он не похож на других, выше них. Видимо, прав был Солод, когда говорил о стандартизации человеческих душ.
– Как все это бесконечно скучно! – Воскликнула она. – Все на один манер. Все стрижены под одну гребенку. Объелись прописными истинами. Хоть бы что-нибудь своего, оригинального. А я как раз в тебе видела это оригинальное!..
Коля смотрел на нее и не мог понять, что вызвало ее гнев, о какой оригинальности она говорит. Он, не имея возможности контролировать свои движения, не заметил, что сидит на столе, опрокинув любимую Вериных статуэтку, изображавшую обнаженную женщину в объятиях бронзового змея.
В окно донеслись звуки аккордеона. Мелодия была богата на неожиданные задушевные интонации. Так умеет играть только Василий Великанов. Вера нервным жестом поправила статуэтку.
– Вот только и оригинального – сесть на стол, ходить по улицам с аккордеоном... Что изменилось? Ну, была гармошка. Теперь – баян и аккордеон... А вы так и остались сельскими парнями. Как во времена Гоголя. Только не хватает, что барашковых шапок...
– Прости, – соскочил со стола Круглов. – Но о какой ты оригинальности говоришь?
– Послушай, Коля, – сказала она мягче. – Человек отличается от животного тем, что имеет разум. Для человека мало есть, пить, рожать детей. Разве не так?
– Конечно. Так можно быстро омещаниться.
– Вот видите! – Снова рассердилась Вера. – У тебя было столько собственных хороших слов. Где они?.. Ты снова заговорил готовыми фразами.
– Вера, – улыбнулся Коля. – Я сам не люблю людей, говорящих готовыми фразами. Особенно, когда эти фразы не продуманы ими, а заучены. Например, как у Сумного.
Коля взял ее за плечи, приблизил к себе, заглянул в глаза. Почему это они несколько минут назад показались ему зеленоватыми, как стоячая вода? Да ничего же подобного! Голубые, как горные озера. Умные, светлые. И какая же у него красивая жена!..
– Скучно слушать Сумного. От таких людей много беды.
– Какая от них беда? – Лукаво спросила Вера.
– Та беда, что они опошляют наши святыни, делают их казенными. Ты посмотри, что они делают с поэзией, с искусством. Убивают живую душу, оставляют только холодную трескотню. Помнишь статью Сумного о лирике? Ту, где он распекает институтского поэта за то, что тот назначил свидание в городской читалке. Мол, вместо того чтобы повышать свой идейный уровень, свидание назначает... Помнишь?
Теперь смеялась Вера. Она откинула назад золотистую головку и даже задыхалась от смеха.
– Я не читала. Прозевала... Значит, он уже перестраивается. Недавно писал, что в поэзии боится человеческой грусти... А знаешь, почему я засмеялась?..
– Конечно. Как же тут не смеяться?
– Я смеюсь потому, что Сумной совсем не такой, как в своих статьях. Я его немного знаю... Идейный уровень! Умереть можно...
Она снова уселась на Колиных коленях, пыталась намотать на палец его жесткие волосы. Волосы были короткие, это ей не удавалось. Если бы Коля был опытным, он бы заметил, что в движениях ее пальцев сейчас проявила себя старая привычка, выработанная не на Колином жестком и коротком, как щетка для одежды, ершике.
– Значит, он напоминает того редактора, – сказал Коля, – о котором сложены такие строки:
Стихи редактор резко отклонил:
– Опять любовь?.. Ой, нет, – не тот мотив...
Но их и не подумал возвращать.
Домой взял, чтоб жене их прочитать...
Вера играла его волосами и задумчиво говорила:
– Волосы у тебя жесткие. Характер не шелковый. Видно, нелегко будет с тобой.
А Коле было легко. Он был рад, что Вера перестала сердиться, что так хорошо все закончилось. Ему не хотелось сейчас продолжать спор.
Прошла неделя. Они, как и раньше, наслаждались друг другом, говорили друг другу милые глупости, что в устах влюбленных имели нежное, волшебное содержание. Но продолжалось это недолго. Спор возник с новой силой. Начался он снова с разговора о детях.
– Ты ругаешь Сумного, а он лучше тебя, – сверкала зеленоватыми глазами Вера. – Да, лучше! Он хоть не верит в то, что говорит. Смеется в душе над людьми, которые верят его проповедям. А ты не человек, а ходячая газетная подшивка. Опять о морали... Какая мораль? Разве может быть мораль одна на всех? Каждый человек должен иметь собственную мораль. Он ее сам для себя создает...
– Что ты говоришь, Вера? – Тревожно, удивленно и растерянно смотрел на нее Коля. – Откуда это у тебя? Где ты слышала такое?
– Ты считаешь меня попугаем?.. Нельзя общими законами морали пользоваться, как отмычкой для каждой души. Есть люди сложные, выше прописных истин. Выше стандартов...
– Какие стандарты? – Недоумевал Коля.
– Воспитанные стандартной моралью.
Коля взял ее руку и сказал как можно спокойнее:
– Вера! То, что ты называешь стандартом – это мораль на единство наших людей. Без нее мы бы не прожили и десятилетие. Нас бы давно растоптали, перевешали поодиночке. Именно в этом единстве наша сила... Разве плохо знать, что куда бы ты ни поехал, везде...
– Везде найдешь таких вот тюфяков, – злобно вырвала руку Вера.
– Везде найдешь друзей, которые думают так же, как и ты. Живут одними с тобой интересами, стремятся к одной цели. Это же прекрасно, Вера!.. За то, чтобы так жили люди, веками проливалась кровь лучших сынов народа!
– Перемени, пожалуйста, пластинку. Надоело, – холодно сказала Вера, упав лицом на подушки.
А Коля стоял в своей комнате, широко расставив ноги, словно это была каюта корабля, попавшего в шторм. Болью, гневом, обидой наполнялось его сердце. Ради нее он бросил Лизу. Бросил позорно, – просто предал ее. Какое страшное слово – предал! Нет, Коля бы его не осмелился произнести вслух. Оно звучит, как тяжелый приговор. Ради нее он поссорился с другом, которого любил всем сердцем. И Владимир не придет к нему, не попросит прощения. Коля это хорошо знал. Владимир чувствует, что правда на его стороне. Чего же он будет извиняться?.. Ради нее он готов был на все. Но она так холодно топчет все самое святое, что есть в его душе. Кто же она после этого?..
И снова в открытое окно доносятся звуки аккордеона. Почему это принялся наигрывать Василий Великанов? Кому он наигрывает? По какой улице ходит? Ну, конечно, под Лизиными окнами. Это не так далеко от общежития, где находилась Колина комната. Василий ежедневно наигрывает, а Лиза сидит перед открытым окном, освещенная бледным сиянием луны, и слушает, слушает... Неужели она выйдет на эту грустную, зазывную мелодию?
В груди запекло, будто туда упала капля расплавленной стали. Но ему не хотелось верить, что его ошибка непоправима. Неужели Вера не поймет таких простых вещей?.. Тихо подошел к ней, сел на кровать, прижался щекой к ее спине. Она перевернулась, отодвинула его голову.
– Вера! – Почти умоляюще сказал Коля.
– Как я в тебе ошиблась! – Вера сокрушенно, разочарованно покачала головой. – Ради мнимой оригинальности я не обращала внимания даже на ужасное веснушки, на эту курносую картошку... Что же теперь от тебя осталось, кроме безобразного носа и рыжей щетины на голове?
– Ну, это уже свинство! – Гневно воскликнул Коля. Он не знал, куда ему деваться от боли, обжигающей его изнутри. А Вера не унималась, она сорвалась с постели, металась из угла в угол, выкрикивала:
– Хватит с меня! Хватит!
Открыла дверцу шкафа, начала бросать в чемодан юбки, рубашки, блузки. Хлопнула дверцей шкафа, взяла в правую руку чемодан, левой схватила со стола свою любимую бронзовую статуэтку. Через минуту ее цокающие босоножки мелко стучали по лестнице общежития.
– Вера! – Крикнул Коля, выбежав за ней на лестницу. Но она не оглянулась.
Коля не спал до утра. Он пытался понять, что произошло. Почему они не могут понять друг друга? Кто виноват в этом? Как разрушить невидимую стену, вырастающую между ними? Неужели ее слова? Откуда они у нее? Или где-то услышала, и они поселились в ней, как выводок кукушки в чужом гнезде?.. Подумать только – «каждый человек должен создавать собственную мораль»... Так недалеко и до фашизма. Это только они считали, что имеют право переступать через все законы этики, морали.
Нет, ее, видимо, надо не обвинять, а спасать.
Но Коля не нашел в себе силы, чтобы пойти к Вере. Она его глубоко обидела. Извиняться – это значит убедить ее в том, что он и в дальнейшем позволит ей унижать себя. Не пошел он и на другой день. А на третий день не выдержал.
После смены, когда солнце уже склонялось к закату, Коля подходил к Вериному дому, наполовину спрятанному в густом саду. Открыл калитку, вошел во двор. Попытался открыть дверь. Она была взята на засов изнутри. Коля постучал. Сначала тихо, а потом громче, настойчивее. За дверью никто не отзывался.
Коля обошел грушу, между сливами вышел за угол дома. Хотел было подойти к окну, выходившему в сад. Вера его редко завешивала. Интересно заглянуть в Верину комнату – может, она спит? Но почему так рано?
Но Коля не дошел до окна. Окно открылось, и из него выпрыгнула в густые сиреневые кусты серая мужская фигура, метнулась со двора. Кто это? Вор? Что он делал в Вериной комнате? Не сделал ли он ей беды?
Коля опрометью бросился к окну, опершись руками о подоконник, запрыгнул в комнату. Он сначала обрадовался – Вера живая и здоровая лежала в постели. Ее голые плечи белели из-под одеяла. Она встала, протянула к нему обнаженные руки.
– Милый, ты пришел!.. Как я рада! Я знала, что ты придешь. Знала... И это замечательно. Ну, иди ко мне, иди. Молодец, что догадался – через окно. Я так крепко спала. Даже не слышала, как ты стучал.
Коля уже готов был броситься в ее объятия. И вдруг, все поняв, оттолкнул ее с такой силой, что она ударилась затылком о стену, покрытую тонким ковриком. А Коля, не помня себя, выпрыгнул в окно, бросился догонять серую фигуру.
Вон она шагает по улице, самовлюбленно насвистывая какую-то песенку. Сейчас повернет за угол дома и исчезнет в густом вишняке, разросшемся за канавой, никем не саженном. Коля ускорил шаги... Вот он уже догоняет человека в сером наутюженном костюме, в серой шляпе. С разъяренной силой положил ему на плечо растопыренную пятерню, рванул к себе. Фигура качнулась, повернула голову. На Колю глянуло испуганное лицо Сумного.
– Ты? – Скрипнув зубами, процедил Круглов. – Ты, «идейный уровень»?! Сволочь!
Сильным ударом сбил его с ног. Сумной, упав на локоть, искоса поглядывал на Колю.
– Встать!..
Сумной стоял на одном колене, хлопал глазами. Правый глаз налился кровью, начал запухать. Серое скуластое лицо с ямочками от недавних угрей перекосилось от страха.
– Тебе сказано – встать! – Повторил Круглов.
– Коля, прости... Я не виноват... Она позвонила.
Эти слова совсем вывели Колю из равновесия. Какой червь! Ему дается возможность защищаться, а он стоит на коленях и оправдывается. Схватил его за шиворот, поставил на ноги.
– Ты... Я не знал отвратительнее чудовища. У тебя две души или нет никакой. Ты...
– Я не позволю оскорблять! – Пискляво, испуганно кричал Сумной. – Кто дал право? Я напишу...
– Напишешь?.. Пиши!..
Новый удар снова свалил Сумного.
– Пиши! – Восклицал Круглов. – Напиши, что я политически несознательный, что я с пережитками, что я хулиган... Пиши! Читай свои проповеди. На этот раз все будет правильно. Все точно... Да, с пережитками. Встать!
Сумной заметил, что Круглов придерживается закона «лежачего не бьют», поэтому не спешил выполнять команды. Коля снова схватил его за шиворот, поднял, поставил перед собой.
– У тебя две морали?.. Получай за каждую из них! Потому что обе фальшивые... Почему стоишь и моргаешь? Ну?.. Да защищайся же, слышишь?!
Теперь уже удары сыпались один за другим. Колю привела в чувство только чья-то легкая рука, что легла ему на плечо. Отбросил Сумного, оглянулся. Перед ним стояла Лиза. Она смотрела на Колю печальным, сочувственным и укоризненным взглядом.
39
Когда Козлов зашел в кабинет парторга, Доронин поднялся ему навстречу, пригласил сесть. За последние несколько дней Макар Сидорович похудел, загорелая на солнце лысина стала чугунноматовой. Тонкая кожа на ней облазила, оставляя розовые пятна. Видно, Доронин провел с непокрытой головой не один час над телом отца.
Козлов был одет в дешевый хлопчатобумажный костюм с широкими серыми полосками. Каштановые волосы, как и раньше, вились мелкими кольцами, но их было видно только тогда, когда он поворачивался к собеседникам затылком. От лба до половины черепа сверкала потная лысина. Козлов поставил палку, сжал ее между коленями, положил на нее худые руки. Лицо у него тоже было худое, глаза бесцветные, пепельные, будто вылинявшие.
– Ну, рассказывайте, – приветливо обратился к нему Доронин. – Надеюсь, что все в порядке?.. Теперь надо подумать о квартире. Ничего, это мы устроим. Придется какое-то время пожить в общежитии.
Не поднимая на Доронина невеселых глаз, Козлов, сказал:
– Не в том дело, товарищ Доронин. Общежитие что... Отказали мне.
– В общежитии отказали? – Удивился Доронин. – Кто? Солод?
– В работе отказали... Не нравлюсь почему-то. Хотя я, правда, догадываюсь...
Доронин внимательно посмотрел на Козлова, будто желая убедиться, тот не ошибается. Глаза его сузились, кожа вокруг них собралась складками.
– Не может быть. Это какое-то недоразумение. Я сейчас позвоню Голубенко.
– Не надо, – остановил его Козлов. – Не надо. Я не за этим к вам пришел. Есть дело гораздо важнее.
– Нет, это безобразие, – возмущался Доронин. – Простите, я сейчас...
Он потянулся к трубке, но худощавая рука Козлова осторожно сняла его руку с телефонного аппарата.
– Не стоит. Мне надо отдохнуть хоть несколько месяцев. Набраться сил. А тут... Работа найдется. Я не об этом. Меня сейчас волнует другое. Дело очень деликатное... Пожалуйста, выслушайте...
Доронин отодвинул папку с бумагами, выключил телефон, чтобы не мешали звонками.
– Я слушаю. Пожалуйста.
Козлов рассказал о немецком лагере для военнопленных, о приезде власовского офицера, о том, как неожиданно исчез из лагеря Солод и как после этого начались расстрелы командиров и коммунистов. Козлову удалось бежать, когда пленных вели на расстрел.
– Ну вот, видите, – закончил Козлов. – Я был осужден за то, что якобы это моя работа... Якобы я доносил. Были какие-то письма. Кто их писал – не знаю... Но думаю, что Солод. Для чего это ему, если бы... У меня нет никаких доказательств. Я только прошу проверить. И потом этот отказ... И Голубенко... Ничего не понимаю.
Долго еще Доронин расспрашивал Козлова о подробностях побега из лагеря, о службе Солода в полку, а на прощание попросил не терять с ним связь, заходить в партком и, когда появится желание – домой.
Рассказ Козлова его серьезно обеспокоил. Возможно, Козлов ошибается. Солод не скрывал, что был в плену. Но полковое знамя!.. Однако надо проверить.
Доронина удивило загадочное поведение Голубенко.
Заверил человека, написал резолюцию – «в приказ», а потом... В чем тут дело? Макар Сидорович и раньше замечал, что Солод имеет на него влияние. Неужели это объясняется только бытовой дружбой? Или в основе их дружбы лежит что-то другое?..
Личные дела Голубенко и Солода он знал хорошо, не видел в них ничего подозрительного, поэтому не было никакой необходимости пересматривать их снова. И все же в его распоряжении пока что не было другого средства для объяснения их поведения. Он хотел пригласить из отдела кадров хорошо знакомые ему аккуратные папки с анкетами и биографиями, но передумал – лучше поехать в военкомат, там личные дела значительно полнее, в них отражен каждый шаг в прохождении военной службы.
Начальник третьей части военкомата майор административной службы Голобородько хорошо знал Доронина и поэтому без лишних колебаний, достав из шкафа дела Голубенко и Солода, положил их у себя на столе, а сам перешел в другую комнату.
В личном деле Федора вновь не было ничего подозрительного – день за днем, год за годом отражалась в нем военная служба инженер-капитана Голубенко, и от приказов о присвоении воинского звания, о награждении орденами, которые были здесь в оригинале, от коротких описаний его заслуг на Доронина повеяло знакомым дымком солдатских костров, ароматом фронтовой махорки и запахом окопного пота...
На одном документе Доронин сосредоточил особое внимание – он говорил о Федоре как о человеке храбром, самоотверженном. Это была докладная записка командира части на имя командира дивизии. В ней рассказывалось о том, как старший лейтенант Голубенко с небольшой группой саперов под бешеным огнем вражеских батарей наводил переправу через реку Ингул. Трижды в сутки фашистские снаряды прямым попаданием разрушали переправу, и трижды саперы во главе с Голубенко восстанавливали ее под непрерывным обстрелом. А когда взрывом бросило в воду последних двух саперов, Голубенко спас одного из них, затем попросил у командира роты трех солдат-добровольцев и пополз на переправу в четвертый раз, чтобы снова починить ее...
Личное дело Голубенко не было распухшим, в нем не было ничего лишнего, и все, что попадало сюда, подкалывалось, безусловно, другими людьми, без участия Федора. Он, как видно, очень мало интересовался этой папкой, никогда в нее не заглядывал, потому что в ней, например, числился только номер приказа о присвоении ему очередного звания инженер-капитана, а выписки из него не было. Если бы Голубенко был в этом заинтересован, можно было бы запросить из части и подколоть к делу.
Доронин обратил на это внимание только потому, что папка с личным делом Солода была, наоборот, распухшей от бумаг, толстой, как мертвая камбала, которую выбросило на берег штормом. В ней были тщательно собраны и подшиты все до одного приказы о постепенном продвижении Солода по служебной лестнице, о награждении его орденами, характеристики из каждой части, где ему довелось служить. Встретил здесь Доронин и ту военную характеристику, в которой рассказывалось о спасении знамени полка. Была здесь выписка из истории болезни, гласящая о тяжелом ранении, а также характеристика из госпиталя, – в ней говорилось, что подполковник Солод при лечении проводил активную политико-воспитательную работу среди раненых бойцов и офицеров...
Доронин сам с уважением относился к документам, которые отражали жизненный путь человека, но его удивила привычка Солода страховать каждый свой шаг какой-нибудь бумажкой. Удивительно, ведь Ивана Николаевича нельзя назвать бюрократом относительно других. Откуда же этот бюрократизм по отношению к себе лично?..
Выйдя из военкомата, Доронин пошел по улицам города, размышляя над делом Солода, с каждой бумажкой которого он внимательно ознакомился. Дело было такое солидное и педантично основательное, что сама эта основательность привлекла к себе внимание Макара Сидоровича.
А может, такая щепетильность продиктована военной специальностью Ивана Николаевича? Ведь интенданты хорошо знают цену бумажке, скрепленной гербовой печатью. Возможно, что так...
Макар Сидорович с тревогой подумал о том, что ко всем документам Солода он добавил еще один, да еще какой!.. Не ошибся ли он, давая ему рекомендацию в партию? Это его начало серьезно беспокоить. Ведь он с сегодняшнего дня несет партийную ответственность и за его прошлое, и за настоящее, и за будущее. Хотя с него не снималась такая ответственность и раньше, но теперь Солод собирался стать членом партии. Макар Сидорович расценивал выдачу рекомендации как нечто большее, гораздо важнее, чем связь между родными братьями, между отцом и сыном.
Макар Сидорович редко отказывал людям, обращавшимся к нему за рекомендациями, но после этого ревностно следил за их работой, политическим самообразованием, поведением. И ему пока что ни разу не пришлось краснеть за кого-то из них.
Итак, Доронин чувствовал двойной моральный долг до конца проверить каждый шаг в жизни Солода. Его не удовлетворяло огромное количество различных документов в личном деле Ивана Николаевича. В тщательности Солода Макар Сидорович чувствовал что-то фальшивое, как и в его поведении в последнее время.
Огромные изменения, произошедшие в жизни нашего общества в течение последних двух лет, были не в пользу Солода, а в пользу Козлова. Раньше Доронин не мог и подумать о возможности ознакомления с теми делами, которые находились в железных сейфах КГБ. Даже партийным работникам значительно более высокого ранга доступ к ним был закрыт. Теперь же Доронин с помощью секретаря горкома мог проверить, кто и каким образом отправил Козлова в лагерь.
Если письма, о которых упоминал Козлов, окажутся анонимными, это только поможет разоблачить Солода. Человек с чистой совестью никогда не боится назвать свое имя. А установить настоящее имя анонима, когда он ограничен определенным кругом людей, не слишком трудно.
Солод, видимо, рассчитывал, что никто и никогда не заглянет в тайники еще недавно всевластного учреждения. Итак, если он будет уличен, то только по воле партии, решившей проветрить все глухие уголки государственной машины. Там, куда годами не попадает свежий воздух, неизбежно заводится вредна плесень, громоздятся мокрицы...
«Своевременно ты вернулся, товарищ Козлов!» – подумал Доронин.