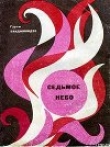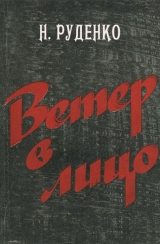
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
3
Пройдя через весь мартеновский цех, мимо завалочных машин, Лида поднялась по металлической лестнице на второй этаж и оказалась в лаборатории.
Экспресс-лаборатория, как и весь мартеновский цех, работала непрерывно круглые сутки. То с одной, то с другой печи по пневмопочте поступали небольшие круглые болванки – пробы стали. Где-то около своей печи сталевар закладывал такую болванку в деревянный снаряд, вкладывал этот снаряд в специальную трубу, щелкал затвором, нажимал рычаг – и снаряд подавался сжатым воздухом через весь мартеновский цех в лабораторию, где его принимали лаборанты. Это было новинкой отечественной техники, и лаборанты изрядно гордились своей пневмопочтой.
В лаборатории сталь попадала под сверлильный станок, где из нее вынималось несколько граммов стружки. Затем в небольшом фарфоровой лодочке взвешивался один грамм стальной стружки, к ней добавляли свинец и сжигали эту смесь в специальных электрических печах. У каждой печи стояли высокие стеклянные бюретки, наполненные специальной жидкостью, окрашенной метилоранжем. Газы от сгорания металла попадали в эту жидкость, происходили соответствующие реакции, помогающие определять процентное содержание серы и углерода в присланной пробе. Все пять печей, стилоскоп и фотоколориметр должны были осуществлять анализ пробы за две-три минуты, чтобы через пять минут мартеновская печь имела точный анализ новой плавки.
Лида работала лаборантом, а Валентина инженером-исследователем. Для работы над изобретением им была отведена специальная комната рядом с экспресс-лабораторией.
Лида разделась, поздоровалась с лаборантами, надела белый халат и прошла в комнату Валентины, которой помогала делать анализы.
Только села за столик и склонилась над анализами, как скрипнула дверь, послышались легкие шаги. Не поворачивая головы, она сказала:
– Здравствуй, Валюша!
Ответа не услышала, но тут же оказалась в крепких объятиях Ивана Солода, на цыпочках подкравшегося к ее столику.
– Невыдержанный, что двадцатилетний парень, – сказала она, вырываясь. – Сядь там...
Солод отошел, сел на стул в углу комнаты.
– Я пришел попрощаться. Через час выезжаю в Москву.
– Надолго? – Чуть обеспокоенно спросила Лида.
– Не беспокойся, моя ласточка. Только на неделю... – Встал, снова подошел к Лиде. – А ты действительно похожа на ласточку. Это только у нее так прекрасно сочетается черный цвет с белым, – тихим голосом говорил он, коснувшись ладонью белой пряди на Лидиных волосах.
Солод был лет на десять старше Лиды, но когда они стояли рядом, эта разница в годах почти не была заметна. Волосы на голове Солода лежали застывшими блестящими волнами. Его лицо было из той категории лиц, что остаются одинаковыми и в сорок, и в пятьдесят лет. Высокий, крепкий, с волевыми складками у рта, он и сейчас напоминал кадрового офицера, одевшего этот серый, безупречно отутюженный костюм лишь на несколько часов. Многолетняя военная выправка проявилось и в движениях, и особенно в его легкой, упругой походке.
Солод работал заместителем директора завода по быту. Он считался способным работником, знающим и любящим свое дело. Жалоб на него со стороны работников почти никогда не было, а если и случалось что-то, Иван Николаевич умел так поговорить с теми, кто жаловался, что они уходили от него довольными и даже благодарными.
– Лида, какие будут заказы?.. Что привезти из Москвы?
– Какие там заказы?.. Сам скорее возвращайся, – сказала Лида, не вырывая свои руки из его теплых ладоней. – Не забудь, что у Федора скоро день рождения. Успеешь?..
– Постараюсь, ласточка. Если нигде не задержусь.
Это интимное, несколько сентиментальное обращение сначала не нравилось Лиде – в нем ей слышалось что-то неискреннее. Но когда Лида убедилась, что Иван Николаевич вкладывал в него настоящую нежность, ей это слово тоже полюбилось.
– Ну, до свидания, Лидок. Мне надо еще домой заехать.
– До свидания. Не медли... Неделя – это тоже немало, – ее смуглые щеки едва заметно порозовели.
Солод прижал Лиду, заглянул в карие с золотистым оттенком глаза.
– Будешь скучать?..
– А ты как будто не знаешь, – улыбнулась Лида, положив руки ему на плечи.
... Валентина Георгиевна зашла в лабораторию в ровно в девять. Одета она была в летнее пальто из легкой светло-серой шерсти, такого же цвета шляпку, из-под которой выбивались густые пряди золотистых волос.
Если не было рядом никого, кроме Валентины, Лида позволяла себе зажечь сигарету. Она делала это редко, и только тогда, когда волновалась. Это почти всегда злило Валентину. Поэтому сейчас, доставая со столика сигарету, Лида, скупо улыбаясь, сказала:
– Не сердись... Горе приучило. Закуришь – и будто легче. Скоро совсем отвыкну.
– Ей-богу, скажу Ивану Николаевичу. Такая красивая женщина, а курит табак, как гусар, – притворно нахмурив брови, отчитывала ее Валентина.
– Он уже и так знает.
– И что?..
– Ничего. И именно потому, что он не запрещает, мне и курить не хочется. А сейчас чего-то...
Валентина пристально посмотрела на подругу.
– Скоро свадьба? – Спросила она после паузы, улыбаясь уголками губ.
– Что говорить о свадьбе? – С некоторым сожалением ответила Лида. – Разве в ней дело?
– Не говори. Это остается в памяти на всю жизнь.
Лида скрепила нитью вчерашние анализы, подняла голову и тихо сказала:
– Но не тогда, когда выходит замуж вдова фронтовика.
– Ты не уверена в Иване Николаевиче?
Валентине всегда был к лицу белый халат. В нем она казалась помолодевшей. Когда Валентина подняла голову от чертежей, Лида заметила на ее щеках румянец, что в последнее время не часто украшал ее округлое лицо.
– Солод – хороший человек. В нем я уверена. Но скажи, Валя... Вот у тебя вроде все в порядке. А ты разве забыла Виктора?
Румянец на щеках Валентины начал заметно увеличиваться и вскоре разлился по всему лицу. Теперь она скорее напоминала студентку-практикантку, чем инженера-исследователя с большим стажем. Но вот тень упала ей на глаза.
– Нет, не забыла... И невозможно забыть. Так же, как фронтовики не забывают о своих ранах. Вот вроде и переболело, а только набежит тучка на солнце – и снова заноет... И наши мужья не имеют права жаловаться на это. – Она помолчала, словно собиралась с силами. – Ну, хватит. Садись к стилоскопу. Наш рабочий день начался...
Тем временем Солод, выйдя из лаборатории, вынужден был задержаться в мартеновском цехе. Случилось это совершенно неожиданно.
В мартен, у которого сейчас работал Коля Круглов, как раз загружали лом. Коле повезло больше, чем Кузьмичу: в мульдах лежали обломки орудийных стволов, танковые траки, ржавые пулеметные стволы. Ему прислали лом той партии, что недавно прибыла баржей из-под Канева, где в свое время шли большие бои. Хоть и немало прошло времени, как отгремели бои, хоть и казалось иногда, что уже весь военный лом переплавлен на сталь, однако иногда еще приходили баржи и составы с остатками фашистской военной техники. А сталевару хлеба не давай – дай только хорошего лома.
Произошла какая-то заминка. Пока поступила новая партия, значительная часть лома уже была расплавлена.
Коля стоял у печи и сквозь синие очки, прикрепленные к фуражке, наблюдал за работой завалочной машины.
– Разравнивай мульдой! – Кричал он машинисту. – Посмотри, какая гора образовалась в ванне. Кто тебя учил так заваливать?.. Это тебе не сено в копны складывать.
Когда железный хобот завалочной машины подал в печь последнюю мульду с ломом, в ванне мартена что-то взорвалось. Взрыв потряс весь корпус мартеновской печи, из ее дверей брызнуло растопленным металлом на пустые мульды, стоящие на платформах, ударило железными обломками, выброшенными из ванны, по завалочной машине. Коля Круглов упал. Взрывом сбило пороги, и шлак белыми струями полился из печи. Огненный ручей уже подкрадывался к взъерошенной голове Круглова, лежащего неподвижно у печи. Еще несколько секунд – и его голова оказалась бы в этом потоке, температура которого достигала далеко за тысячу градусов.
Иван Николаевич бросился к печи. Пробираясь между платформами и завалочной машиной, он за что-то зацепился полой пиджака. Рванул ее с такой силой, что разорвал надвое, подбежал к Круглову, подхватил его на руки. То место, где лежал Коля, за несколько секунд было залито шлаком.
– Подсыпайте пороги... Слышите? – Крикнул он подручным. – Уберите отсюда платформы!..
Они действительно не давали возможности подручным повернуться с лопатами. Завалочная машина задела их хоботом и погнала в другой конец цеха. Площадка перед мартеном освободилась, и теперь двое подручных и еще двое рабочих, прибежавших от соседней печи, орудовали лопатами, чтобы остановить поток шлака. Вскоре пороги были восстановлены, и огненный поток прекратился.
Иван Николаевич отнес Колю в небольшую комнату, где были установлены приборы, автоматически записывающие малейшие колебания в работе мартена. Солод положил его на деревянную скамью, в конце которой стоял белый оцинкованный бачок с водой. Волосы Круглова слиплись от крови. Видно, осколком лома, выброшенного из печи, его ранило в голову.
Коля открыл глаза и попытался встать. Он провел рукой по влажным волосам, затем посмотрел на окровавленную ладонь.
– Вы зря встаете, – сказал Солод. – Сейчас придет врач.
Спустя минуту в комнату вошел сухонький старичок в белом халате. Он спокойно осмотрел рану на голове Круглова, остриг вокруг нее волосы, смазал йодом и сказал:
– Ничего страшного. До свадьбы заживет. Но вам придется немного полежать.
– Перевязывайте. Полежу, – сказал Коля.
А когда его голова была щедро обмотана белым бинтом, он с силой натянул фуражку с очками и вышел из комнаты.
– Куда же вы? – Растерянно спросил врач.
– Полежу, полежу, – улыбнулся Коля. – Закончу плавку – и полежу.
Он подошел к мартену, заглянул внутрь, где в белом пламени темнели едва заметные тени, напоминающие пятна на солнце. Это были тени от обломков еще не до конца растопленного лома. А вверху, на своде, виднелась другая тень – кривая линия, тоненькая, как паутина.
– Треснул свод, – сказал Коля, повернувшись к Ивану Николаевичу, который стоял рядом. – Выдержит до конца плавки?..
– Этого я не знаю, товарищ Круглов. Позвонили главному инженеру. Сейчас прибудет. Я вам советую не подходить к печи. Высокая температура вызовет приток крови к голове.
– Это ничего, Иван Николаевич. Я буду больше стоять на пульте. А чего это у вас пиджак разодран?.. Такой замечательный костюм, и испортили.
– Эх, Коля! – Сказал подручный. – Быть бы тебе без головы, если бы не Иван Николаевич. Ты лежал, а шлак подползал к тебе... Мы далеко стояли. Не успели бы тебя выхватить...
– Вот как! – Тихо сказал Круглов, пожимая руку Солоду. – Спасибо.
– Не стоит благодарить. Кто бы этого не сделал? – Сдержанно ответил Солод.
– Но что же произошло, Иван Николаевич?.. Откуда этот взрыв? – Тревожно оглядывался Коля.
Главный инженер завода Федор Голубенко, что как раз подходил к мартену, объяснил причину взрыва – шихтовики упустили. Они там иногда вынимают снаряды из орудийных стволов. Не заглянули в ствол, бросили в мульду...
– Это упущение граничит с вредительством, – строго заметил Солод.
– Хорошо, хоть снаряд небольшой. Свод все-таки треснул. Надо проучить шихтовикив. А если бы снаряд был от корпусной?.. Зеваки! – Гневно восклицал Круглов, поправляя очки, которые никак не приходились против глаз, потому что нельзя было ниже надвинуть кепку.
– Да уж кому-то не поздоровится, – сказал Федор. – Надо только разобраться, кто виноват.
– Нечего разбираться, – высунулся вперед из группы молодой рабочий в брезентовой робе. – Я так и знал, что сегодняшний день добром не закончится. Еще когда кепку с меня ветром сорвало, я подумал – плохой признак... Так и есть.
– Какая кепка?.. При чем тут кепка? – Нетерпеливо спросил его Федор.
– Кепка здесь ни при чем, а примета плохая, – продолжал рабочий. Что ж, судите. Моя вина.
Все, кто стоял у мартена, молча переглянулись. Никто не ожидал такой развязки. Коля Круглов подошел к рабочему, который был почти его ровесником, и уже без гнева в голосе, но строго заговорил:
– Как же ты мог упустить, голова твоя садовая?.. Ты из шихтового?
– Значит, прозевал. Моя вина – мне и отвечать. Можешь подать на меня в суд.
– Комсомолец? – Спросил Коля, который был членом заводского комитета комсомола.
– Да, – ответил рабочий, отведя глаза от строгого взгляда Круглова.
– Вот мы на комитете и разберемся, что с тобой делать. А теперь некогда с тобой возиться. Как твоя фамилия?..
– Владимир Сокол.
– Подожди... Это не ты ли в прошлом году грамоту ЦК получил?
– Я, – ответил Сокол.
– Эх, ты!.. – Коля подумал, потом, нажимая на каждое слово, сказал: – Вон отсюда! Не мешай работать!
Сердито сведя брови, вернулся к печи, а Владимир Сокол, сгорбившись и опустив голову, ушел из цеха.
Пока Круглов говорил с Соколом, Федор успел осмотреть свод.
– Ничего. Я думаю, что выдержит до конца плавки. Не рухнет. А после этого придется ставить печь на холодный ремонт.
– Убытки немалые. Парня придется судить. А, откровенно говоря, жалко, – грустно сказал Солод. – Ну, до свидания, Федор. Поеду переоденусь – и на поезд. Мне остается полчаса.
– Не забудь в министерстве поругаться насчет лома. Они без ножа нас режут. Никакого запаса. Прямо из вагонов в мульды бросаем. А что будет зимой, когда дороги снегом заметет и Днепр замерзнет?
– Не забуду, – ответил Иван Николаевич, поддерживая рукой разорванную полу пиджака.
4
Прошла неделя.
Когда Федор Голубенко, проведя почти весь день в прокатном, подходил к заводоуправлению, было уже шесть часов дня.
В глубине его мозга шевельнулась смутная мысль, что он сегодня чего-то еще не успел сделать. Но чего именно?.. Он даже остановился, чтобы сосредоточиться, подумать, вспомнить. Но вспомнить ничего не мог и с неприятным ощущением чего-то несделанного поднялся к себе в кабинет.
– Федор Павлович, – обратилась к нему секретарша. – Вам уже трижды звонила Валентина Георгиевна. Она просит немедленно ехать домой. Поздравляю от себя. Искренне поздравляю.
– С чем поздравляете? – Удивился Федор.
– Ну как же?.. Сегодня же ваш день рождения.
Вот что! Теперь он вспомнил, чего именно не успел сделать. И успеть уже не было никакой возможности. Ведь он обещал Валентине быть дома не позже пяти.
Вымыл руки под краном, вытер свежим полотенцем. Ему стало легче – ощущение чего-то несделанного начало исчезать.
Федор спустился по лестнице, сел в машину и поехал домой.
– Включить радио? – Спросил шофер.
– Не стоит, Саша. И так в голове звенит.
Федор с наслаждением закурил, откинулся на спинку сиденья всем своим уставшим телом.
– Завтра воскресенье. Поедете рыбу ловить?..
– Нет. Буду дома сидеть. А тебе на рыбу хочется?..
– Ну а что?.. Дорога хорошая. Вы как-то собирались.
Дом Федора Голубенко мало чем отличался от других. Только большая открытая веранда, украшенная резьбой, придавала пышности его виду. Резьба на веранде была тонкой, ажурной, и это никак не соответствовало его плотному и несколько простоватому виду. Он с этой резьбой напоминал сталевара, который приколол праздничную розу прямо к рабочей куртке.
Резьба имела свою печальную историю.
Здесь, где теперь стоит дом под шиферной крышей, когда-то стоял домик под белым железом с голубыми резными наличниками на окнах. В нем родился и вырос Федор. Отец Федора, потомственный сталевар, задушевный друг Георгия Кузьмича, всю жизнь мечтал пристроить открытую веранду. Перед войной он заказал резьбу для нее у прославленного мастера из того села, откуда много лет назад сам пришел в город.
Долго трудился мастер, не жалел ни рук, ни времени для своего земляка. Наконец резьба была перевезена в отчий дом и составлена в сарае. Но веранду поставить не пришлось. Началась война.
А когда Федор вернулся с фронта, он не застал ни отца, ни матери, ни домика под белой железной кровлей. На родительской усадьбе остался только сарай, в котором лежала древняя мечта отца – резьба для отделки веранды.
Итак, когда Федор построил новый дом, он поставил веранду, украсив ее резьбой, что сохранилась после смерти отца. И хотя во внешнем виде дома вступали в некоторое противоречие вкусы и стили двух разных эпох, Федор скорее бы согласился разрушить его, чем веранду. Впрочем, это противоречие не сразу бросалось в глаза, потому что стены были оплетены диким виноградом почти до самой крыши. Высокие тополя обступали двор со всех сторон. У самой веранды красовались немолодые разлогие яблони.
Когда Федор подъехал ко двору, Валентина и Гордый стояли на веранде. Валентина погрозилась на него пальцем, а Гордый спустился по лестнице и пошел ему на встречу.
– Ну, что же... Иди, иди, голубчик сизый. Неси сюда свои уши. Намну их с большим удовольствием. И не потому, что именинник. А потому, что слова не держишь.
Георгий Кузьмич, несмотря на то что машина еще не отъехала и водитель показывал из-за ветрового стекла белые зубы, принялся таскать Федора за ухо.
– Хватит, Кузьмич. Достаточно. Честное слово, больше не буду.
Но вырваться из цепких мускулистых рук Гордого было не так просто. Федор рисковал оставить по крайней мере одно ухо в его узловатых пальцах.
– Ну, что?.. Разве не заслужил? – Смеялась Валентина. – Обещал приехать не позже пяти, а сейчас уже полседьмого. Саша, – обратилась она к шоферу, – а вы чего не заходите во двор? Заходите!..
– Никак не могу, – ответил Саша. – Я хотел спросить, машина нужна?
– Машина не нужна, – обратился к нему Федор, уже освободивший свои уши из рук Гордого. – Но куда ты спешишь?.. Заходи к нам. В этом доме, кажется, должен быть неплохой пирог.
– Не могу, Федор Павлович. Мы с Галиной договорились пойти в кино...
– А-а, это причина достаточно уважительная. Тогда пожалуйста.
Саша дал сигнал, и машина скрылась за тополями.
– А где же Прасковья Марковна? – Спросил Федор.
– Мигрень, голуб сизый, – ответил Кузьмич. – Мигрень после третьей шахматной партии. Лет двадцать назад она выдерживала до десяти партий. А теперь три партии едва вытягивает.
– Да ты разве не замучаешь? – Послышался из окна голос Марковны. – Когда люди становятся инвалидами на работе, то им хоть пенсию платят. А я из-за твоих шахмат стала инвалидом, и никакой тебе пенсии.
– А чего же это никакой? – Шутил Кузьмич. – Разве я тебе пенсии не плачу? Кто же после получки мои карманы выворачивает?.. Разве не ты?
В дверях с мокрым полотенцем на голове появилась полная Прасковья Марковна.
– Ага, вот как! – Воскликнула она. – Так ты не хочешь, чтобы я карманы выворачивала? Так сколько бы это за год в них табака и всякого мусора накопилось?..
Пока Лида и Валентина накрывали на веранде стол, ко двору подъехала еще одна машина. За деревьями появился Солод, нагруженный пакетами. Он был хорошо выбрит, одет в черную тройку с черным галстуком под белым воротничком.
– Ну, как? Не опоздал?..
– Заходите, богатый купец, – сдерживая радость, отозвалась Лида. – Вы скоро появитесь в этом дворе в окружении целой свиты носильщиков.
Действительно, у Солода для всех нашлись хорошие подарки. К Федору он подошел с игрушечным фотоаппаратиком.
– Спокойно, спокойно, товарищ главный инженер!.. Фотографирую.
Иван Николаевич щелкнул... И тут оказалось, что в его руках был не фотоаппарат, а подделанная под маленький фотоаппарат обычная зажигалка. Желтый язычок огня, вспыхнувшего над ней, едва заметно качнулся на тихом ветре.
– Вот что! – Удовлетворенно воскликнул Федор. – Остроумная штука.
Закончились традиционные поздравления именинника. В головах туманилось от легкого хмеля. Все были веселые, возбужденные. Кузьмич и Марковна пошли в комнату, Валентина с Лидой меняли на столе тарелки, ставили новые бутылки с вином.
Солод подошел к Федору, таинственно поманил его пальцем за дом, где стояла оплетенная диким виноградом небольшая беседка.
– Не знаю, говорить сейчас, или в другой раз. Не хочется в такой день портить тебе настроение. А предупредить надо. И немедленно...
– Начал, так говори...
Солод выглянул из беседки, прислушиваясь, не слышно ли шагов, и тихим голосом сказал:
– Письмо.
– Какое письмо?..
– От него. Из Магнитогорска.
Федор впился пальцами в деревянную скамью, словно боясь, что она может выскользнуть и он рухнет в темную пропасть, которую чувствовал под собой физически. На его лице выступил холодный пот.
– Что тебя так поразило? – Переспросил Солод. – Это не первое. Несколько лет назад было одно. Я изъял его тогда из экспедиции завода. И на этот раз тоже все будет хорошо. Тебе не следует принимать это близко к сердцу. Ведь ты все равно не отступишься.
Федор, бледный, мрачный и растерянный, смотрел на Солода неподвижными глазами. Достал платок, вытер потное лицо.
– Отступиться сейчас в десять раз тяжелее, чем там, на вокзале, – удрученно сказал он. – Неужели это второе письмо?.. Почему ты не говорил мне о первом?..
– Зачем?.. Я и сейчас жалею, что сказал.
Федор уже в третий раз перечитывал письмо, которое начиналось так:
«Дорогая Валентина Георгиевна!
Уже десять лет, как Вы стали женой Федора. Уже восемь лет, как я знаю об этом. Наверное, Ваш сын уже перешел в третий класс... Возможно, я веду себя, как мальчик, что пишу Вам второе письмо, не получив ответа на первое в течение трех лет. Возможно, я потом буду упрекать себя. Возможно. Но я никак не считаю себя чужим для Вас человеком. Когда-то у нас было очень много общего. Верьте, что я буду счастлив, если узнаю, что Ваша жизнь сложилась хорошо. Но мне хочется знать об этом от Вас... Только от Вас. В этом письме я не все говорю из того, что мне хотелось бы Вам сказать...»
Федор машинально сложил письмо вчетверо и протянул его Солоду.
– Хватит. Но это невозможно...
– Неприятно, конечно, – сочувственно сказал Иван Николаевич. – Мне кажется, что он больше не напишет. Не получить ответы на два письма на протяжении восьми лет – этого, по моему мнению, достаточно, чтобы отбить охоту писать.
Федор поднялся со скамейки, прошелся по беседке.
– Но я не могу так жить... Не могу. Не знаю, какое наслаждение получают от жизни воры. Возможно, они не ругают себя так, как я... возможно, их не преследует совесть, и от этого им легче живется. Я познал большое счастье настоящей любви. Я сам себе стал казаться благородным человеком. Я забывал о том, что я – вор. Да еще какой вор!.. Но это письмо... Нет, дальше так невозможно.
– Да, Федор, трудно тебе.
Солод снова положил руку на плечо Федора. Федору сейчас неприятно было ощущать чью-то руку, но он не снял ее. За каких-то десять-пятнадцать минут он будто постарел на несколько лет. Щеки его ввалились, нос заострился, лицо вытянулось, морщина на лбу под прядями седины значительно углубилась. Плечи его опустились, будто кто-то положил ему на них тяжелый, непосильный камень. Только большие душевные потрясения способны так изменить человека.
– Что же мне делать?
– То, что всегда, – ответил Солод. – Жаль, Федор, что я сказал тебе об этом. Держись, друг. Будь молодчиной.
Солод отвернулся: ему, видимо, было трудно сдержать удовлетворенную, насмешливую улыбку. Если бы Федор заметил ее, он бы подумал: Ивану Николаевичу приятно от того, что испортил праздник... Да что Федор может заметить сейчас?..
К беседке подошла Валентина.
– Что там за секреты?.. Садитесь за стол, не разлей вода.
Федору наливали вина, тянулись к нему рюмками и бокалами. Он пытался улыбаться, даже пошутил, что хорошо, если бы еженедельно можно было быть именинником.
К счастью, уже вечерело, а свет на веранде был не таким ярким, чтобы гости и Валентина могли заметить разительные перемены на его лице.
Георгий Кузьмич покосился на Лиду и Ивана Николаевича, перешептывающихся между собой, и, подвернув усы, воскликнул:
– Теперь послушайте мой тост!.. Горько!.. Полынь-трава! Слышите?.. Горько!
Валентина засмеялась.
– Короткий у вас тост, папа.
Федор, пытаясь овладеть собой, тоже улыбнулся. Улыбка у него вышла невеселой, искусственной. Но всем было весело, все смеялись, шутили, и поэтому никто не замечал, сколько усилий прилагает именинник, чтобы тоже казаться веселым.
– Короткий тост, зато яркий, – сказал он с некоторым опозданием.
Все за столом закричали:
– Горько! Горько!
Лида опустила глаза, покраснела. Не спасла и загорелая кожа. Иван Николаевич, который был значительно выше ее, навис над ее головой своим улыбающимся лицом.
– Ну, что же, – прищурив глаза, сказал он. – Если требуют массы...
Положив правую руку на белую прядь в Лидиных волосах, а левой взяв за подбородок, он поцеловал ее в полные губы.
– Да, да, голубочки сизые, – хлопал в ладоши Гордый.
– Значит, стихийная свадьба? – Попытался пошутить Федор.
– Нет, это только заявка на свадьбу, – засмеялась Лида.
– Горько! – Воскликнул Кузьмич. – Пишите еще одну заявку для уверенности.
– Ого! – Сказала Прасковья Марковна. – Как видно, моему старому эта заявка больше понравилась, чем молодым.
– Гм... им это в новинку, а мне молодость вспомнилась. Когда-то и мне с тобой целоваться нравилось. А сейчас...
– Это намек! – Воскликнул Солод. – Горько!
– А что же вы думаете?.. Конечно, намек. Вы же сами не догадаетесь, что и старые тянутся к увядшим цветам молодости...
Гордый под общий смех и плеск ладоней поцеловал Марковну.
Над поселком стояла тишина. Только издалека доносился гудок паровоза, который отходил от завода с платформами, нагруженными чугуном и сталью. Тихо шелестели листья яблонь и дикого винограда, обвивающего родительскую веранду Федора. Где-то прозвенел трамвай.
Олег находился в пионерском лагере недалеко от поселка. Валентина вчера его навещала, но виделась с ним только минут десять.
– Как там наш Олежек? – Подумала она вслух.
– Их уже спать уложили, – со вздохом сказала Прасковья Марковна.
– Который же час? – Спросила Лида, которой после разлуки с Иваном Николаевичем не очень хотелось засиживаться в гостях. Вечер был прекрасный, лунный. В такие вечера хорошо пройтись по днепровским берегам, подышать свежим воздухом, расспросить Ивана о поездке, о Москве, о столичных театрах.
– Вот что, – поднялся Гордый. – У меня, друзья, есть еще один тост. Оно, конечно, хорошо чувствовать себя отцом, но надо, чтобы дети помнили и тех родителей, которые их породили и не имеют возможности сейчас радоваться их успехам. Выпьем за родителей, которых скосила вражеская пуля. Выпьем за родных родителей Валентины и за родного отца Олега. Пухом им земля.
На глазах Гордого появилась непрошенная слеза, и он украдкой смахнул ее ладонью.
– Благородный тост, – поднялся за столом Солод. – Живые не имеют права забывать о мертвых.
Все встали с наполненными бокалами в руках. Встал и Федор. Но голова его опускалась все ниже и ниже, а глаза были направлены в пустую тарелку, стоявшую перед ним. Ему казалось, что если он поднимет сейчас голову, посмотрит людям в глаза, все сразу поймут, какое большое преступление каменным гнетом лежит на его душе. Он слышал, как звякнули бокалы в руках гостей, как смачно кряхтел Гордый, вытирая усы после выпитого вина, как скрипнули стулья и зашелестел шелк на женщинах, когда все снова сели. Он только слышал, но ничего не видел перед собой. Он один стоял за столом, понимая, что надо сесть, но сесть не мог, как не мог и поднять головы. Ноги не сгибались, словно были налиты чугуном. В его руках мелко дрожал не выпитый бокал. Лицо Федора было таким бледным, что все это заметили.
– Что с тобой? – Бросилась к нему Валентина.
– Ничего. Я не могу больше пить.
– Э-э, нехорошо, голуб сизый... Нехорошо. Как же это понимать? – Хмурился Гордый.
– Папа, не надо заставлять... Может, действительно ему не идет вино.
Валентина подошла к Федору, взяла его за руку у самого плеча. Она не замечала, чтобы Федор в этот вечер много пил. И вообще его нельзя было в этом винить. Что же с ним произошло?..
Наконец Федор поднял голову и грустно спросил:
– Валя, когда я усыновлю Олега?
Федор сам не знал, почему он поставил Валентине этот неуместный вопрос. Сказал он механически, поймав в своей памяти одну из старых мыслей, которые его всегда волновали.
– Ну, что ты, Федя?.. В другой раз поговорим об этом.
Теперь уже Валентина была совсем удивлена. Возможно, он действительно больше выпил, чем мог, а она, поддавшись общему веселому настроению, этого не заметила?
– Но Валентина Георгиевна носит ваше имя, Георгий Кузьмич, – сказал Солод, чтобы как-то оправдать Федора.
– Видишь, Иван, – сказал Кузьмич, – я даже не знал имени Валюшиного отца. А с Олегом иначе. Возможно, для него будет гордостью носить имя родного отца, который погиб смертью храбрых. Разве это для тебя обидно, Федор?
– Нет, здесь что-то не то... На работе не в порядке? – Заглядывая в глаза Федору, спрашивала Валентина.
– Позвольте мне отдохнуть... Я очень плохо себя чувствую.
Федор, шатаясь, вышел из-за стола. Когда он проходил мимо Солода, тот недовольно буркнул:
– Что ты действительно раскис?..
Валентина отвела Федора в спальню, сбила подушки, помогла ему раздеться. Как только она касалась его тела, Федор вздрагивал, словно его пекли горячим железом. Ему казалось, что ее руки прикасались к ранам в его душе, ощупывали его совесть и находили в ней те незаживающие язвы, которые Федору мешали жить. Ему было стыдно перед этими милыми, нежными руками. Как он мог забыть о своем преступлении, совершенном там, на вокзале?
Восемь лет он прожил счастливо. Сердце говорило, совесть спала. Это неожиданное письмо ее разбудило. И теперь заговорили вместе, споря между собой, – сердце и совесть. Почему Солод не скрыл от него и это письмо?.. Он единственный человек, который знает правду о Федоре Голубенко. Рассказать обо всем Валентине? Рассказать и избавиться от этого бремени? Как она отнесется к нему, когда узнает обо всем?.. Сомнений не было – Валентина уйдет от него в тот же день. Нет, он не может ее никому отдать. В конце концов, разве она не счастлива с ним?.. Вот она склоняется над своим Федором, такая отзывчивая, сердечная, заботливая. И может, она его не только уважает как своего ближайшего друга, но даже немного любит?.. Федор потянулся к Валентине, крепко обхватил ее руками, притянул к себе на грудь, до половины покрытую одеялом.
– Валя!.. Кровь моя, дыхание мое!.. Никому, никому тебя не отдам.
– Но меня никто и не захочет взять, – попыталась шутить Валентина, не вырываясь из его объятий. – Успокойся. Поспи немного. Мне надо с гостями попрощаться.
Но Федор не выпускал ее из своих рук.
– Какие гости?.. Все домашние, свои. Я прошу тебя – побудь со мной. Я не могу тебя сейчас отпустить. Кажется, отпущу – и больше ты не придешь.
– Да что это с тобой?
Валентина положила ладонь ему на лоб. Голова у Федора горела, как в лихорадке. Дыхание его было необыкновенно горячим.