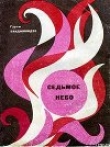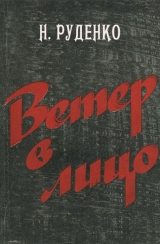
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
30
Ветер налетал с юга, с таврийских степей, крутил пыль на дорогах, выхватывал дым из заводских труб, прибивал его к земле, и он стелился над днепровскими берегами, как туман, разъедал глаза рыбакам, покрывал сажей крыши.
Было что-то волнующее, даже величественное в бешеном беге нагретых южным солнцем, тугих, как тетива, воздушных течений, в страстных порывах и неугомонном шуме ветра.
Валентина остановилась возле руин старой больницы. Ветер заставлял тополя поклоняться днепровским волнам, срывал с обнаженных пятиэтажных стен куски размытой дождями штукатурки, которая, не успев долететь до земли, превращалась в мелкую пыль. Валентина стояла у стены, на высоком холме, который тоже был когда-то домом. Ветер умело разделил ее волосы посреди головы, проведя золотистый пробор. Зеленый шелковый платок, повязанный под округлым подбородком, трепетал за ее плечами, как привязанная птица, рвущаяся в полет. Белая блузка, прижатая ветром к телу, подчеркивала округлости груди, плавные овалы плеч. Черный лакированный ремешок опоясывал ее в талии, черная, с крепко спрессованными складками юбка хорошо смотрелась с блузкой из белого шелка.
После того вечера, когда Федор проявил бестактность и грубость, он стал для нее еще более далеким и чужим. Как они жили до сих пор? Видно, Валентиной владела привычка, и именно ее инерция заставила простить Федору его поступок.
Посещение больного Сотника не прошло для нее даром. Выйдя из больницы, она прижала сына к груди и так стояла у забора, пока Федор не взял ее за плечи. Он ничего у нее не спрашивал, только благодарно посмотрел в глаза. Не знал Федор, что его поведение там, у кровати Виктора, было той высшей точкой человеческого напряжения, после которого должна наступить развязка.
Федор говорил ей, что хорошо бы вместе поехать к морю, а Валентина в это время думала: «Олег – точный Виктор». Федор говорил, что она устала, похудела, а Валентина вспоминала, как потянулась рука Виктора к головке сына...
Закрывала глаза, наплывал туман. Туман медленно расступался. В светлом круге, словно в проталине замороженного окна, снова появлялось лицо Сотника. Это лицо было то таким, каким она знала его в студенческие годы, молодым, с короткими торчащими волосами; то загорелым, мужественным, в военной фуражке, то немного бледным, небритым, на фоне белой палатной подушки...
Она теперь была довольна, когда Федор задерживался на работе. Доставала фото, спасенное Федором от ее гнева, смотрела, грустила. Ей вдруг хотелось побежать в больницу, рассказать ему обо всем, попросить его все бросить, вернуться к ней... Ради ее сердца, ради их сына, ради любви.
Ветер бушевал, скрипели дуплистые ивы, гудело в оконных провалах старых развалин. Над головой кружили кобчики. В стенах были их гнезда. Это к ним вчера подбирался Олег, когда Валентина его нашла. Пришлось пригрозить, что не пустит в кино...
Она заметила: на карнизе второго этажа ветер безжалостно треплет одинокий василек. Ей показалось странным и непонятным, как могли задержаться и прорасти в таком неуютном месте семена этого цветка. Синяя головка билась о кирпичную стену, листочки бились в бессильной покорности. Казалось, вот-вот сорвет его горячий ветер, бросит в Днепр, запененный волнами...
Вдруг Валентине пришло в голову, что, похоже, ее любовь такая же красивая, вредоносная и ненадежная, как этот василек. И она тоже выросла на обнаженной стене разрушенного войной счастья. И ее тоже стегает ветер.
Валентина прыгнула с холма, обрывающегося в бурьянах едва заметной кирпичной стеной, побежала по тропинке между кустарниками. Бежать было трудно, потому что ветер – в лицо...
Нет, сомнений больше не было. Она скажет ему все...
Неожиданно для себя вспомнила давно известную истину: женщина, унижающаяся перед мужчиной, всегда не мила ему. Самая безнадежная возможность стать любимой – это выпрашивать любовь...
Однако эта мысль ее не остановила. Она же – не девочка. Она – мать его сына. И он должен знать об этом. В конце концов, как это было глупо с ее стороны – скрывать от него сына!..
До больницы, где лежал Виктор, оставалось метров двести. Какой-то рыбак в широком соломенной брыле, со спиннингом на плечах подозрительно посмотрел вслед Валентине. Она почувствовала на себе его взгляд, оглянулась и подумала, – пожалуй, она производит впечатление человека, убегающего от преследования. О, нет! Ее преследует только собственное сердце, а от него не убежишь...
Зубцы высокого зеленого забора. Густые заросли молодой акации. Мелкие листья, как зеленые перья, трепещут на ветру. Калитка во двор больницы открыта.
Валентина заходит во двор, просит разрешения у санитарки проведать Сотника. Пожилая женщина с большим родимым пятном на щеке подает ей халат, предупреждает, чтобы долго не задерживалась.
Валентине повезло – она зашла в палату, когда Горовой был на процедурах.
Виктор отложил книгу, удивленно взглянул на неожиданную посетительницу. Валентина обратила внимание, что на столике в прозрачной вазе стояли не те цветы, которые она принесла. Конечно, прошла неделя, они завяли. А может, попросил санитарку выбросить на помойку?
Глаза Сотника смотрели на нее с удивительным равнодушием.
– Садитесь, – показал он рукой на стул возле кровати. Затем выше, до самого подбородка, натянул белое пикейное одеяло.
Валентина села. Ее пальцы нервно перебирали красный ремешок сумочки. Как ей начать разговор? Поймет ли он ее?..
Она подалась вперед, к его груди, почти шепотом произнесла его имя.
Сотник даже бровью не повел. Руки спокойно лежали на одеяле, и золотистые ворсинки на тыльных сторонах ладоней поблескивали на солнце. Валентину ошеломило равнодушие Виктора, но она уже не могла остановиться.
– Я не могу так... Слышишь? – Из глаз катились слезы, падали на красную сумочку. – Я не знаю, почему ты исчез после войны. Возможно, тебя за это ненавидеть надо... Но я люблю. Все так получилось...
Глаза Виктора блеснули холодно, неприветливо, как осколки льда. Он пытался понять, что происходит с этой женщиной, которая так искалечила его жизнь. Еще в юности она стала между ним и Федором. Хватило у нее твердости сделать выбор. Ему когда-то казалось, что выбор сделан. Но это потом оказалось обманом. Поверила в его смерть, приклонилась к Федору. И теперь снова протягивает руки к Сотнику... Ой, Валентина! Все можно простить, но ложь... Этот внезапный порыв такой же мимолетный, как бледная вспышка зарницы в душную июльскую ночь. Путешественник, рассчитывающий при свете зарниц дойти до цели, обязательно собьется с пути. Нет, Виктору нужен надежный свет. Ровный, спокойный. Чтобы хватило на всю жизнь. Он знает цену этаким вспышкам.
Виктору хотелось верить, что он вполне к ней равнодушен. Надо же как-то кончать! Чем резче, тем лучше. Меньше боли для обоих.
А Валентина говорила:
– Я виновата перед тобой. Но ты тоже виноват... Ты забыл обо мне. Мне было трудно. Я виновата, что не сказала о сыне. Я не имела права...
Она понимала, что говорит совсем не то и не так, как хотелось. Она глотала значительные слова вместе со своими слезами, а тому, для кого они предназначались, бросала только обрывки фраз.
– Вот что, Валентина, – перебил ее Сотник. – Не будем говорить о прошлом. Ты, – после разлуки он впервые назвал ее на «ты», – ты, конечно, понимаешь, что восстановить наши прежние отношения нельзя. И не надо. Из этого теперь ничего бы не получилось. А сын... – Рука его сжалась в кулак. – Я постепенно выплачу все, что должен был давать на его содержание за все годы. – И грубовато добавил: – Это тебя устраивает?..
Бескровные губы Валентины раскрылись, задрожали от внутренней боли.
– Неужели ты думаешь...
Она не закончила фразы, но Виктор ее понял.
– Я хочу быть отцом Олега. Ясно?..
Наступила долгая пауза. Холодность Виктора помогла Валентине овладеть собой. Она смотрела на его профиль, четко вырисовывающийся на фоне белой стены. Темные брови опущены, губы сжаты, на переносице – глубокая впадина. Прядь белокурых волос нависла над глазами.
Наконец она решилась задать вопрос, который давно шевелилось в его мозгу, неотвязно, колко.
– Ты женат?..
Виктор саркастически улыбнулся, насмешливо прижмурился.
– Какое это имеет значение?.. Если даже и так, то я имел на это право. Мне было известно, что ты вышла замуж. Я не знал только о том, что Олег не Федора, а мой сын... – И, стараясь придать своему ответу большей язвительности, спросил: – А ты думала, что я всю жизнь буду жить воспоминаниями?..
Валентина резко поднялась. Столик покачнулся, ваза с цветами упала на пол, разбилась. Вода забрызгала стену, потекла под стул, под кровать. Валентина поспешно вышла из палаты.
Ветер не утихал. Пыль ослепляла глаза. Днепр кипел, свирепствовал, глотая собственную пену.
Валентина пошла домой мимо развалин старой больницы. Ветер подгонял ее в спину.
Вот ты и поговорила! Все тайны выяснены. А дальше что?.. Если раньше в тебе жили смутные, подсознательные надежды, то теперь и они должны быть решительно отброшены. Ясно только одно – Федора ты не любишь. Если бы любила – не побежала бы к Сотнику. Так будь же честной, – скажи ему об этом, уйди от него...
А другой голос подсказывал: не надо спешить... Ты еще сама себя не до конца поняла. Ошибаться больше не имеешь права.
Валентина подняла голову, посмотрела на карниз обнаженной стены. Нет, ветер не сорвал василек. Синяя головка билась о кирпич, но корень, видно, крепко вцепился в размытую штукатурку. Тоненький, одинокий, но гордый и непокорный, он упорно боролся с ветром. Неужели и любви твоей выпала такая судьба?..
31
Тихо покачивались кипарисы, сдержанно переговаривались широкой листвой пятнистые платаны. На острых темно-зеленых листьях олеандров застыла утренняя роса. Солнце уже взошло, но оно еще было где-то за горами, с трех сторон окружающих дом отдыха. А внизу, под высокими гранитными утесами, беззаботно шуршало береговой галькой спокойное море. Оно меняло свои краски ежеминутно – то желтовато-оранжевое, с прозрачной прозеленью под берегом, то розовое, то бирюзовое. Оно, отражая лучи солнца, освещало сейчас и белый дом, окруженный кипарисами и платанами, и гранитные скалы, и вырубленные между ними лестницы на пляж. И хотя солнце взойдет над горами через час, горы почти не бросали тени на белый дом.
А для моря оно взошло раньше. Краски на море менялись, менялись... Сейчас уже там, где светилась прозрачная бирюза, вода стала розовой, а бирюза разлилась тоненькими прожилками между ярким метилоранжем, как на хорошо отполированном мраморе. Однако краски лучшего мрамора и даже малахита, лазурита, яшмы кажутся мертвыми по сравнению с этими беспокойными, меняющимися цветами утреннего моря. И все вокруг в необычном освещении, идущем от моря, было почти сказочным, придуманным этим гениальным художником, который, прячет свою огненного голову за гребнями гор, а морем пользуется, как огромной палитрой для своей лучистой кисти.
Большинство отдыхающих не придерживалось ни распорядка, утвержденного директором, ни правил, предписанных врачами. Они вскакивали с мест, наскоро надевали пижамы, бросали на плечи полотенца и бежали к морю. Вода была такая прозрачная, что стоящему на веранде дома отдыха, казалось – бронзовые тела плавают не в морской воде, а в безоблачном небе, что каким-то чудом перекинулось вниз своим голубым куполом. Видно было не только темноволосые, белокурые, золотистые головки женщин, а каждую мускулистую, сильную округлость молодого загорелого тела. Движения плавные, как на замедленной кинопленке...
А огнистый художник протягивал свою лучезарную кисть-волшебницу над их головами – и море меняло и меняло цвета, показывая людям удивительную красоту своего необозримого поля. На бронзовые тела наплывали то золотистые, то оранжевые, то бирюзовые краски. Тело не покрывалось ими – оно медленно проплывало в них, как плавает ласточка над морем. Только слегка обволакивал бронзу прозрачный разноцветный туман, и тогда подвижная бронза сияла розовыми и бирюзовыми отсветами.
Симпатичный, всегда улыбающийся директор дома отдыха Прокоп Кондратьевич смотрел сквозь пальцы на такое нарушение режима.
– А может, им от этого будет больше пользы, чем от сна? – Говорил он медицинской сестре, которая пришла к нему жаловаться на «беспорядки».
Не было человека более мягкого, щедрого, доброго, чем этот Прокоп Кондратьевич. И хотя его лицо не относилось к тем, которые сразу запоминаются, однако оно имело некоторые характерные черты – приятную, обворожительно улыбку и большие роговые очки, которые никак нельзя представить отдельно от этого круглого лица, без единого волоска на черепе и на подбородке. Никто никогда не видел Прокопа Кондратовича без очков. О нем ходила добродушная, беззлобная шутка, что он, мол, и родился в очках. Сотрудники дома отдыха относились к нему с уважением, говорили о нем тепло – «наш Прокоп Кондратьевич».
Вот он идет по двору между клумбами и кустами густой, приземистой лавровишни. Какой-то новичок из отдыхающих высунулся из двери и, увидев директора, сразу же спрятался. Прокоп Кондратьевич отступил за дерево – пусть себе бежит на пляж.
Кабинет у Прокопа Кондратовича был «монументальный», как выражались некоторые работники. Двойные двери надежно обиты дерматином и войлоком. Постучать к директору нельзя: сколько ни стучи в дверь – звука никакого. И если бы даже удалось добыть звук из первых дверей, вторые бы его не пропустили. Поэтому никто к нему и не стучал – входили без предупреждения и садились в кресло, не дожидаясь приглашения. Иногда Прокоп Кондратьевич закрывался в своем кабинете и сидел часами. Тогда о нем говорили:
– Повышает идейный уровень.
А другие подозревали, что Прокоп Кондратьевич любил, грешным делом, полежать на своем роскошном диване. Звуконепроницаемые двери в кабинете нужны для того, чтобы не нарушать покой дома отдыха густым, басовитым храпом.
Иногда к Прокопу Кондратовичу заходили старые фронтовые друзья. Тогда в кабинет приносили обед на две персоны и бутылку муската. Друзья не имели привычки засиживаться допоздна – они навещали директора только тогда, когда отдыхали в соседних санаториях, а там режим был значительно суровее, чем у Прокопа Кондратьевича. Исключение составлял лишь один товарищ, приехавший сегодня ночью. Они, наверное, давно не виделись: Прокоп Кондратьевич был взволнован до слез, сжимал своего высокого, сильного друга в коротких, толстых руках и говорил:
– Сколько лет, сколько зим, дорогой Иван Николаевич! Забываете вы старых друзей, забываете...
Иван Николаевич, видимо, отоспался в поезде или на пароходе. Проснулся он очень рано и сейчас ходил по плоской крыше, осматривая местность. Ходил и думал. О чем можно думать, когда вокруг такая необыкновенная красота?..
Прокоп Кондратьевич поднялся на крышу.
– Ну, как вам у нас, Иван Николаевич?
Солод улыбнулся.
– Устроились вы неплохо. Позавидовать можно. Не то, что у меня.
Где-то далеко, на самом горизонте, появились синеватые, полупрозрачные контуры крейсера. Он был так далеко, что, казалось, совсем не двигался.
– Стерегут, – сказал Солод.
– Конечно, – ответил Прокоп Кондратьевич. – Ну, пойдемте ко мне. Поговорим. Не надо мозолить глаза людям. Вы сейчас в отпуске?..
– Нет, – улыбнулся Иван Николаевич. – В командировке. Не здесь, конечно... В Мариуполе.
Они спустились на второй этаж, зашли в кабинет директора. Прокоп Кондратьевич повернул ключик в первых и вторых дверях.
– Садитесь, – обратился он к Солоду. – Здесь мы сможем обо всем поговорить.
Солод сел в кресло напротив Прокопа Кондратьевича, достал сигарету.
– Курить можно?
– Можно курить, можно рассказывать анекдоты, вспоминать молодость... Хотя ты, Загреба, нисколько не постарел за эти годы. Ничто тебя не берет.
– Я уже совсем отвык от этой фамилии, – улыбнулся Солод. – Вот вы назвали, а для меня она звучит, как чужая.
Прокоп Кондратьевич благодушно посмотрел на Солода.
– Мускат хочешь?.. Завтракать, правда, еще рано...
– Мускат позже, – ответил Солод.
Он заметил, как постепенно меняется лицо Прокопа Кондратьевича. Благодушная улыбка давно исчезла, глаза, всегда широкие, сузились и смотрели на него пристально, будто из-под очков на гостя были нацелены стальные наконечники невидимых стрел. О, Солод хорошо знал, какая жестокая, неумолимая сила скрывается за этой благодушной улыбкой. Он давно убедился, что этот человек способен жертвовать близкими друзьями, убирать их с дороги спокойно, рассудительно, если на них падал луч прожектора и их деятельность подвергалась обстрелу.
Он знал, что стоит ему только оступиться, бросить подозрение на этого человека, – и его самого не обойдет такая же участь. Не поможет даже многолетняя дружба.
Что связывало их теперь, когда надежды на изменение политического строя в стране оказались эфемерными, как лепет одного сумасшедшего, что взбирался на гору, поднимал над головой окровавленные руки и, ободранный, худой, изможденный, обращался к небу:
– Боже, когда же ты услышишь мои молитвы?.. Я умоляю тебя разрушить эти горы, потому что они крадут солнце.
Об этом безумном рассказывали, что он прожил двадцать лет в темной пещере и умер, привалив себя камнями. Позже Новоафонский монастырь объявил его святым, а пещеру назвал пещерой святого Иннокентия. В пещеру приходили тысячи паломников, и монахи имели хорошую прибыль.
Не похожи ли и они на того сумасшедшего? Солод часто вспоминал слова Колобродова – «скалу не шилом ломают». Что же, это были трезвые слова. Но скала выстояла не только против шила. Верить в то, что она упадет, это все равно, что просить бога разрушить эти горы, потому что они крадут солнце у того, кто сам себя превратил в мокрицу, замуровал в сырой пещере, обрек на постоянное одиночество. А тысячи людей вокруг живут, радуются, любят эти горы сыновней любовью и готовы отдать за них жизнь. Любят потому, что они, незыблемые гранитные вершины, украшенные душистым цветом вечной весны, помогают им подниматься ближе к солнцу. Для людей открываются с этих вершин необъятные просторы, прекрасные владения утренней зари...
И хотя Солод живет среди людей, но душа, мысли и все его существо пребывают в темной, сырой пещере, куда он не впустит ни единого человека, кроме своего старого друга, ставшего за последние годы почти ненавистным ему.
В пещеру Иннокентия приходили паломники. А кто придет к нему, когда он умрет, завалив себя камнями, которые ему удалось выковырять из скалы за двадцать долгих лет? Камней так мало, что хватит только для его могилы. А скала будет стоять вечно, и люди даже не заметят, что какой-то сумасшедший пытался под нее подкопаться.
Страшно, холодно в пещере Солода. И все же до конца жизни не выйдет он из нее... Он не выходит из нее даже тогда, когда приветливо улыбается комсомольцам, что приходят к нему за красным полотном для ленинских уголков. И разве это Солод спас Круглова, когда тому грозила опасность? Нет, это не он. Это тень. Та тень, что видима человеческому глазу. Ее предназначение – скрыть Солода, отвлечь человеческие взоры от него самого.
Все надоело, – вино, женщины, даже нажива. С женщинами он тоже – тень... Даже с Верой, которая ему больше нравится, чем Лида.
Почему стал ему ненавистным Прокоп Кондратьевич? Не потому ли, что в нем он видит некоторые собственные черты? Так не похож ли он в этом случае на проститутку, разбивающую зеркало, чтобы не видеть свой провалившийся нос?.. Потом эта же проститутка, закрыв лицо шелковистыми кудрями, выйдет снова под уличные фонари. От своей профессии она уже не откажется, пока не сгниет окончательно... Не так ли живет и он, Солод-Загреба?..
Все это промелькнуло в голове Солода, пока он смотрел в холодные глаза Колобродова. Прокоп Кондратьевич словно угадал его мысли. Тяжело вздохнув, он сказал:
– Хорошо тебе, Загреба... Ты – молодой. А мне – шесть десятков. Не доживу. – Он сделал паузу, раскачиваясь в кресле, как игрушечный мулла на витрине часовой мастерской. Солод понял, до чего не доживет Колобродов. А Прокоп Кондратьевич уточнил: – В будущей войне, Иван, главное – выжить... Ты, возможно, переживешь. А я... Жаль, что тогда вернулся сюда. Не надо было... Тем не менее все, что там нужно, оставалось здесь. Пришлось бы попрошайничать...
– Вы еще верите в возможность войны? – Мрачно спросил Солод.
– Там же верят, – показал Колобродов большим пальцем правой руки за затылок. Жест был неуверенный, безвольный. Видно, что Колобродов и жил, и верил по инерции...
Вдруг он вскочил с кресла, глаза у него стали красными, руки задрожали, потянулись к ящику письменного стола. Колобродов достал продолговатую металлическую баночку, открыл ее, вынул шприц и жалобно посмотрел на Солода. Солод понял – ему надо выйти...
Иван Николаевич поднялся на крышу дома отдыха. Синеватые контуры крейсера растаяли на горизонте. От моря доносился смех, плеск, шорох гальки. Десятки юношей и девушек в плавках и купальниках бегали между лежаками. Пестрели разноцветные зонтики, сверкали солеными морскими каплями загорелые тела.
«Весело им! – С тупой злобой подумал Солод. – А этот старый дурак нашпиговывает себя морфием... Однако, что ему остается делать?.. Может быть, и я этим закончу?»
В кабинет Прокопа Кондратовича Солод вернулся спустя час, – раньше возвращаться не было смысла. В течение часа Колобродову мерещились заоблачные замки, которые он построит тогда, когда можно будет, не боясь разоблачения, реализовать награбленное... Возможно, именно этот бред и приучил его к морфию?
В кресле напротив Колобродова сидел заведующий базой курортного управления Синюхин. Он поднялся, протянул руку Солоду. Ивану Николаевичу показалось, что от Синюхина пахнет ржавой селедкой. Сам он тоже был похож на сельдь, – тонкий, узкоплечий, с длинными ногами, которые он протянул поперек кабинета, от кресла к креслу.
– Вот Дмитрий Платонович интересуется, когда будет вагон, – сказал Колобродов, пытаясь спрятать от Солода кровянистые глаза. – Не подведет ваш приятель?
– Раньше не подводил, – неохотно ответил Солод. – А что там у вас?
– Всякая всячина, – прошамкал Синюхин. – Но самое ценное – цитрусовые и тонна лаврового листа. Симпатичный товар. Вы не беспокойтесь, все будет оформлено так, что комар носа не подточит... Наш человек будет обеспечен соответствующими документами. Мол, он является уполномоченным тридцати колхозных дворов и все такое. – Синюхин тыкал указательным пальцем перед носом Солода, будто ставил точки после своего «все такое». – Это даст ему право сдать продукцию просто в Челябинский горторг. Ясно?.. Там у меня обо всем договорено. И деньги наличными... Хе! Неплохо?
– Вагон я обеспечу... Но имейте в виду – это недешево.
Солод подошел к окну, посмотрел на море. В бирюзовых волнах плавали десятки брюнеток, блондинок, золотистых головок. Он яростно подумал: «Я никогда не отдыхал так весело, беззаботно, как они... Всегда в голове какая-то гадость, фальшивые отчеты, бухгалтерское крючкотворство Сороки, нимфы над диваном, кусок стены за нимфами... Для кого это все? Для чего?»
Когда-то ему казалось, что самое страшное в жизни человека – голод и жажда, самое ценное – власть и золото. С детства он жил с этим убеждением... И вот, когда разменял почти пять десятков, он понял, что голод – не самое страшное, а золото – не самое ценное... Были ли у него когда-нибудь друзья? Никогда! На той дорожке, которую он себе выбрал, друзей не бывает.
Обернулся, безразлично посмотрел на Колобродова.
– Нам надо рассчитаться между собой. Я пришлю Сороку. За вами долг... За два вагона. Я расплачивался своими. Кроме того, вагон мыла... Помните? – Он повернулся к Синюхину. – Вы его реализовали?
– Конечно, – довольно улыбнулся Синюхин. – Пропустил через курортторг. Плановое немного придержали. Пусть полежит... Мыло – товар симпатичный. Не портится. Присылайте еще... На курортах на него всегда есть спрос. А у вас там, наверное, такого добра полно... Правда?
– Хватит, – нетерпеливо воскликнул Солод. – Достаточно... Давайте завтракать. И коньяка, пожалуйста. Больше коньяка. С лимоном.
Опять перед ним встал тот жестокий, неотступный вопрос, что не давал ему покоя в течение последних лет, – для чего жить?.. Для чего сновать паутину – чтобы запутаться в ней самому? А запутаться несложно. И когда его не будет на свете, какой-то курносый каменщик или штукатур найдет его тайник в стене и подумает: «Ты смотри!.. Это, наверное, хапуга-купчина еще до революции замуровал».
Затем Иван Николаевич вспомнил, что дом, в котором он живет, построен в годы первой пятилетки. Сам себе улыбнулся: «Назовите проще – вором...»
И все же стоит жить. В конце концов, для чего нужны деньги?.. Для того, чтобы заставлять других прислуживать тебе, чтобы жить так, как хочется. А разве для этого надо «выворачивать кожух», как говорил когда-то Колобродов? Разве советская власть отменила деньги?.. Нет, до этого пока не дошло и, видно, не скоро дойдет. Значит, надо превратить этот кожух в теплое и уютное гнездышко для себя. Возможно, в вывернутом виде он оказался бы не таким теплым и не таким уютным...
Он взглянул на Синюхина, развалившегося в кресле, на Колобродова, вспотевшего и истощенного бредом. С такими слизняками свела его судьба!
Коньяк выпит. У Колобродова – совиные глаза, дрожащие руки с синими ногтями, как у мертвеца. Прокоп Кондратьевич снова нетерпеливо поглядывал то на гостей, то на ящик стола... И этого человека он считал своим учителем! Этого человека он боялся!..
Нет, не боится его Солод. Зря Прокоп Кондратьевич пытается сохранить за собой репутацию паука, а его, Солода, считает мухой, которая способна вырваться из паутины. Колобродов давно уже не паук, а мокрица...
– Не забудьте о вагоне, – сонно напомнил Колобродов.
Солод яростно ударил кулаком по столу. Прокоп Кондратьевич вытаращил испуганные глаза, а Синюхин запутался в собственных ногах, – он пытался встать, но длинные ноги лежали поперек кабинета и не хотели возвращаться в вертикальное положение.
– Никаких вагонов, – крикнул Солод. – Кто вы?.. Чего вы хотите от меня? Вы – мертвецы, которые хватают за ноги живых. На что вы рассчитываете?.. На войну? Дураки! Война раздавит вас... Да, вас, а не большевиков. Нам, изнутри, это виднее, чем оттуда, из-за океана... – Лицо Солода побагровело, глаза налились кровью. Он стоял у двери, обитой дерматином, и бросал слова, тяжелые, как камни, в лицо своих недавних союзников. – Тебе, старый дурак, все равно. Ты отжил свое. Тебя может ублажить бред морфиниста. А я еще хочу жить!.. Я еще не жил по-настоящему.
Солод повернул ключ в двери, быстро сбежал по лестнице, пошел по асфальту, что под каменной крутизной горы выводил к морю. Вот она, жизнь!..
Эти горы, это море, эти женщины, что плещутся в воде, еще смогут принести Солоду много счастья, отплатить ему за многолетнее духовное одиночество неподдельным наслаждением. Разве он не умеет быть веселым?.. И разве не это наслаждение – самое существенное, ради чего стоит жить?..
Криничный – дурак, но он умный инстинктом эгоиста, – жить надо сегодня. Недаром говорится: умри ты сегодня, а я – завтра... К черту идиотские надежды на смену власти! Даже в слитке стали есть поры и щели, невидимые человеческому глазу. Солоду этого достаточно. Он сможет использовать их для себя. На его жизнь хватит... А после него – хоть потоп!..
Кем он стал по сути?.. Мещанин, не больше. Мещанином его сделала бесперспективность надежд. Но какая ему от того беда? Солода не пугает и не унижает это слово. Разве его отец, старый Саливон, не мечтал стать знатным мещанином? Если в устах тех, кто убил отца, слово это – клеймо, то в сознании Солода – оно почетно. Да разве дело в словах?.. Важно другое – пусть они верят, что с мещанством покончено еще в тридцатых годах. Было бы чудесно, если бы они в это поверили!..