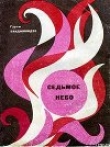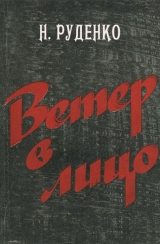
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
– Макар Сидорович, – удрученно заговорил Голубенко. – Я по поводу фельетона. Сотника обвиняют в нем безосновательно. Это какая-то провокация. Кому-то он здесь мешает.
– Вот как! – Удивленно посмотрел на него Доронин.
– Вы же знаете, в каких я отношениях с ним. И может, я сам был бы рад, если бы он уехал отсюда. Вы меня понимаете. Но не таким образом...
– А откуда вы знаете, что Сотник не виноват? Там же ссылаются на протокол милиции.
– Я видел, как за ним следили двое неизвестных. А потом, – после некоторых колебаний сказал Федор, – эти неизвестные на него напали. Сотник только защищался. – Федор нервно закурил и снова заговорил. – Я очень прошу позвонить председателю комиссии. От имени дирекции и партийного комитета. Сотника надо реабилитировать. Сейчас же. Немедленно.
– Так вы же сами можете поговорить с председателем комиссии, – улыбнулся Доронин, собирая мелкие складки на лбу.
– Нет, мне неудобно. Я очень прошу, Макар Сидорович, позвоните. Еще рано. Они, видимо, в гостинице...
Доронин поднялся с кресла, прошелся по кабинету, подумал. Он видел волнение Федора и понял, что ему нелегко говорить о Викторе Сотнике. Еще бы!.. Кому, как не Голубенко, должна быть понятна вся низость поступка Сотника по отношению Валентине.
– Ну, хорошо. Что же с вами делать?.. Позвоню.
Подошел к телефонному аппарату, набрал номер отеля.
– Дмитрий Афанасьевич?.. Это говорит Доронин. Парторг завода. Вот тут у меня сидит свидетель, который доказывает, что Сотник не виноват. На него напали, а он только отбивался. Свидетель убежден, что это какая-то провокация.
Телефонная трубка отвечала достаточно громко, и Федору было слышно все, что говорил председатель комиссии.
– Но Сотник сам признает свою вину. Он и не собирается оправдываться. Он сейчас заказывает билет на Москву, его отзывает министр. Такие вещи безнаказанно не проходят.
– Дмитрий Афанасьевич, – сказал Доронин. – Вот Голубенко утверждает, что видел, как на него напали двое неизвестных. Сотник, возможно, сам не помнит, как оно было. У меня нет оснований не верить Голубенко.
– Товарищ Голубенко? – Переспросил председатель. – Это серьезно. Надо разобраться. Если за него просит завод... Позвоню в министерство.
Когда Доронин положил трубку, из груди Федора вырвалось глубокий вздох, будто он сейчас пробежал десятикилометровую дистанцию. Пальцы у него дрожали, лицо побледнело. Он собрал все силы, чтобы хоть немного успокоиться.
Доронин давно замечал мрачную нервозность Голубенко, но приписывал это характеру, натуре. Его беспокоила некоторая нелюдимость Федора, нетвердость в принятии решений. Но Макар Сидорович терпеливо относился к людям, боялся делать преждевременные выводы. Так было и с Голубенко, в котором он видел молодого, неопытного руководителя. Несколько удивляло Доронина то, что Голубенко до сих пор не решил для себя вопрос о партийности. Как-то Макар Сидорович осторожно заговорил с ним об этом. Федор сник, потом нерешительно, вкрадчиво ответил:
– Я об этом часто думаю. Но пока... Готовлюсь, Макар Сидорович. Для меня это очень серьезное дело.
После этого разговора Доронин подумал, что у Федора есть какая-то невысказанная, глубоко скрытая тяжесть на душе. Он еще делал попытки заговорить с ним, вызвать его на откровенность, но Федор каждый раз пытался перевести разговор на другое.
Сейчас же, глядя на Федора, Доронин спросил:
– А не лучше ли было бы не допускать Сотника к работе над интенсификатором? – Глаза Макара Сидоровича невольно улыбнулись. – Мне кажется, вы тоже такого мнения. Может, вам неудобно это высказать? Моральный облик этого человека меня отнюдь не удовлетворяет. Не может ли он навредить Валентине? Ну, из зависти, например... У него есть основания ей завидовать.
Федор поднялся, твердо ответил:
– Нет, Макар Сидорович. Я уверен, что Сотник сделает все возможное, чтобы помочь. Он умный и... честный.
– Смотрите. Вы за это отвечаете не меньше, чем я.
Уходя от Доронина, Федор заметил на веранде невысокий сапожный столик. На столике лежали незаконченные юфтевые сапоги. «Неужели до сих пор сапожничает?» – подумал он. На душе у него стало легче: хоть от одной неприятности он спас своего жестоко обворованного друга.
– Ну, сынок, когда ты сапоги мои закончишь? – Недовольно спросил старик, как только Голубенко вышел из дома.
– Закончу, отец, закончу... Разве вам у нас надоело? Или дочь вам милее сына? – Лукаво спросил Макар Сидорович. – Или в селе легче дышится в старости?
– Конечно, – устало ответил старик. – Особенно сейчас. Недавно народ наш председателя колхоза выгнал. Такой был пьяница, что готов отца родного пропить. А когда мало выпьет – еще хуже. Натравливает мужей на жен. К твоей жене тот и тот ходил... Муж с горя идет с ним пить, пропивает все, что есть в карманах. А приходит домой – на жену с кулаками бросается. Как-то две бабы сговорились, подстерегли его пьяного, накрыли кожухом среди бела дня. Прямо на улице у правления... – Дедушка засмеялся мелким, довольным смехом. – Да граблями, граблями. А мужчины попрятались за воротами, хохочут. Неделю он с синяками и шишками ходил. – После паузы старик спросил: – Ну, так ты сядешь сегодня за сапоги? Если в воскресенье не закончишь, то когда же?..
– Сяду, отец...
Но едва старик вышел из кабинета и прилег на диване, Доронину принесли письмо. С радостным волнением он разрезал конверт, начал читать.
«Дорогой Макар! Друг мой!
Давненько я не видел света божьего. Может, не так и давно, но эти дни были слишком уж длинными. Лежу, лежу. Врачи и сестры заставляют меня глотать резиновые шланги, и я так овладел этой техникой, что, приехав на завод, приму участие в заводской самодеятельности. Искусством индийских факиров я овладел не целиком, глотать шпаги не сумею. Да и где их теперь взять?.. А вот железные трубы толщиной с руку всегда найдутся на заводе. Думаю, что мне теперь под силу.
Прошу принести книгу, что-нибудь веселое. Подают Щедрина. Открываю и на первой странице читаю первые строки: «Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить посвятить себя культу самосохранения». Дальше не цитирую – очень весело!..
Первые дни все время шумело в голове, словно я из тишины клинической палаты был перенесен в шум нашей заводской жизни. А случилось как раз наоборот. Почему это, Макар?.. Заводской шум мне казался тишиной, а тишина, полная тишина, вдруг заскрежетала в моих ушах, будто где-то рядом грузили на платформы стальные слябы. Не так ли чувствует себя рыба, выброшенная на берег?.. В воде ей воздуха вполне хватает, а на поверхности – его для нее совсем нет.
Макар! Видно, мы с тобой уже старая гвардия. А сколько нам было, когда начиналась революция?.. Еще воробьев под крышами гоняли. Правда, в гражданскую мы уже были, как говорится, на коне. Семнадцатилетние мальчишки, мы и себе и другим казались взрослыми. И таки мы были взрослыми! Жизнь дала нам преждевременную зрелость, и мы уже где-то после гражданской отгуливали свое мальчишеское, совершали полудетские глупости, будто наверстывали то, что должно было быть значительно раньше.
Макар, Макар, какие мы с тобой счастливые, что жили, творили в это время, разбивали себе лбы на трудностях, убеждались, что лбы наши от этого становились только крепче, и снова ломились вперед, и пробивались, и понимали свои ошибки, и выходили победителями!..
Я присматриваюсь к новому поколению, что идет нам на смену. Замечательное поколение. Есть среди них много таких, как Коля Круглов. В нем все еще кипит и бродит. Он кажется мне то преждевременно зрелым, то наивным мальчишкой. Это молодость. Он замешан на хороших дрожжах. Он еще не раз разобьет себе лоб, как мы разбивали, но после этого пойдет по земле твердо, а не шатаясь.
А вот Голубенко я не совсем понимаю. Он мне кажется разумным и трудолюбивым инженером. Он вкладывает в работу все свои способности. А способности у него немалые. Достаточно обратить внимание на то, что он никому не напоминал о своей учебе в институте, не просил меньше его загружать. И все же окончил институт с отличием. Упрямый человек. Войну прошел. Но я сомневался оставлять на него завод. Есть в нем что-то неустойчивое, что-то зыбкое. Я даже не знаю, откуда у меня возникло такое впечатление. Но ему не хватает духовной твердости. Возможно, я ошибаюсь. Духовный рахит страшнее всех других болезней. Читаю газеты, радуюсь вашим успехам. Молодцы! Поздравь, Макар, от моего имени Георгия Кузьмича. Как только меня выпишут – хотя бы скорее! – приду сам к нему, обниму, поцелую. Пусть все тянутся за ним. Но ты помнишь, как начальник мартеновского цеха однажды хотел поставить его в исключительные условия?.. Я думаю, что никто у вас не ждет завалки по полтора, по два часа, как это я видел на одном заводе, где все бросались обслуживать печь рекордсмена, где все только о нем и думали...
Как твои Макаровичи поживают?.. Хорошие мальчишки. Жаль, что у меня нет детей. Особенно это ощутимо в наши годы. Приехал твой старик?.. Пошил ты ему сапоги?.. Ей-богу, приеду на завод и тоже пару хромовых закажу. Не бойся, не бойся. А то напишешь врачам, чтобы вообще меня не выписывали. Как твоя Катюша?.. Ты знаешь, что я в нее немного влюблен? Передай ей привет. Надеюсь, что у нее на очереди новый Макарович, ты уже доволен количественными показателями?.. Прости, так мне здесь скучно, что хочется хоть в письме отвести душу.
Обнимаю, целую тебя, Макар.
Твой Гордей».
Макар Сидорович склонил голову на руку, смотрел на быстрые, размашистые строки письма своего ближайшего друга, директора завода, но видел перед собой не фиолетовые буквы – видел перед собой его вечно улыбающиеся глаза, улыбающиеся даже тогда, когда он кого-то отчитывал с нарочитой суровостью в голосе. Такой уж характер у Гордея Горового, что настоящая злоба в нем могла закипеть только к врагу... Макар Сидорович видел улыбающееся лицо, шершавую седину, большие руки, напоминающие руки грузчика, широкие плечи, приземистую квадратную фигуру в кожаном реглане, и так ему захотелось потянуться к нему, обнять или по-медвежьи неуклюже померяться с ним силой, как они это делали второго мая вон там за окнами, в саду!.. Гордей, Гордей! Казалось, что вылепленный ты из того материала, что не разрушается полтораста лет. Что же с тобой?.. А как тебя сейчас не хватает, чтобы посоветоваться, поговорить! С тобой думать вслух можно...
Макар Сидорович не раз на протяжении этих нескольких дней собирался поговорить с Голубенко о рекордах Гордого. Нет, преуменьшать их значение нельзя. Если бы такие условия были созданы не Гордому, а менее опытному сталевару, то ничего бы этого не было. Была бы семичасовая плавка, что, правда, по сравнению с нормой тоже немалый успех. Мастерство и опыт Гордого имели решающее значение. Но почему же тогда Коля Круглов в последнее время начал варить сталь значительно более медленными темпами? Да и не только Коля.
Для Доронина причины были вполне понятны. Кажется, все просто – пригласить главного инженера и начальника мартеновского, поговорить с ними, а не поможет – вызвать на заседание партийного комитета. Хотя Голубенко и беспартийный, но он не посмеет не подчиниться воле парткома. Начальник мартеновского говорил Доронину, что на этот раз инициатива индивидуальных рекордов принадлежит не ему. Было бы нелепостью обвинять Голубенко в семейной заинтересованности. Он, конечно, целил не туда. Наверное, фигура Круглова ему показалась не вполне солидной для этой цели. Но он не подумал о том, что общественность может именно так истолковать его указание. И наконец, не только в этом дело. Гордый имеет свой собственный большой авторитет, и этот авторитет может пошатнуться... Как же решить этот вопрос? Если бы это был не Голубенко, а Горовой, Доронин бы долго не раздумывал. Пошел бы он ругаться к нему в кабинет, или пригласил к себе, поставил бы об этом вопрос на заседании парткома или даже горкома – в любом случае он достиг бы одинаково правильного результата, и от того, каким образом он к этому шел, ничего бы не изменилось. Не раз они «резались» и лицом к лицу, и на заседаниях парткома. По дороге домой молчали, а может, даже на прощание не подавали друг другу руки. Но назавтра сходились и, прося друг у друга прощения, разговаривали, словно между ними ничего не произошло. Если и вспоминали об инциденте, то только через месяц, когда уже все утрясалось, чувство обиды теряло остроту, развеивалось свежим ветерком заводских будней. Нет, Доронин не боялся, что Голубенко на него обидится. Пусть обижается!.. Он боялся именно другого – что этого не произойдет... Голубенко, несмотря на то что исполнял обязанности директора, достаточно нетвердо чувствовал себя в директорском кабинете. Себя он считал здесь временным человеком, а Доронина видел на его посту – ветераном и относился к нему как к старшему, как к непосредственному и постоянному начальнику, хотя никаким административным начальником он и не был. Если бы Доронин поговорил с ним, выразил свое недовольство, он бы это воспринял как директиву. Один-другой такой разговор, одно-второе такое замечание, и Голубенко в каждом отдельном случае начнет оглядываться на Доронина – а что думает он?.. Доронин все время давал Голубенко понять, что он – единоначальник, что он имеет право принимать самостоятельные решения, что он должен их принимать. Доронин боялся сковывать своими вмешательствами инициативу Голубенко, боялся, что в таком случае парторг скоро стал бы подменять собой директора, как это часто случается с плохими директорами и с плохими парторгами. А хорошие директора вырастают не сразу – они вырастают в течение нескольких лет...
Особенно большое значение имеет чувство самостоятельности при первых шагах на руководящей работе. Доронину надо было убедиться, что Голубенко твердо стоит на ногах, что он может спорить с парторгом, отстаивать собственное мнение, обижаться, даже жаловаться... Чрезмерная вспыльчивость – меньшая беда, и от нее легче избавиться. А выработать в человеке чувство самостоятельности в решениях, чувство ответственности значительно труднее. Излишне горячего молодого директора есть кому поправить, есть кому предостеречь, приучить уважать мнение других. Но безынициативного, забитого, издерганного никто не подгонит, если бы даже ему прислали на помощь сотню уполномоченных. Они его только больше затуркают и задергают. Тогда уж, как говорится, пиши пропало.
Голубенко вроде бы неплохо справлялся с обязанностями главного инженера. Неплохо он взялся и за выполнение обязанностей директора. Но как-то он к этому отнесся более спокойно и рассудительно, чем это бывает с молодыми людьми, которые впервые получают в свои руки такую власть. Будто эта власть его не радовала, была для него привычной... А где же молодое самолюбие, где желание показать свои способности? Или оно сказалось в рекордах Гордого?.. Если это даже неправильное решение, оно меньше беспокоило Доронина, чем холодновато-благоразумное отношение к делу, по которому не чувствуется заинтересованности ни в личной славе, ни в славе коллектива. К этому надо присмотреться, это надо изучить. Рубить с плеча нельзя, потому что можно натворить еще большей беды. Конечно, Гордей слишком резко сказал о Голубенко. «Духовный рахит»... Нет, это очень резко. Молодых специалистов надо воспитывать. А может, Гордей Карпович не ошибается?.. Время покажет. Жаль, если окажется, что Гордей прав.
Все эти размышления удерживали Доронина от откровенной беседы с Голубенко. Он пока присматривался и выжидал. А если принимать меры, то надо организовать дело так, чтобы Федор сам столкнулся с жизнью, сам почувствовал неудовлетворение коллектива. Это его больше научит, чем проработка в кабинете.
21
Вадику понравился город металлургов, но удручало то, что он не находил для себя какого-то интересного дела или развлечения. Накалывать флажки на карте – этого мало. И Георгий Кузьмич, как ему казалось, очень спокойно отнесся к работе, в которую Вадик вкладывал весь свой юношеский пыл. Парень даже обиделся на старика.
Кузьмич, видимо, понял настроение Вадика, – как-то подошел к нему и серьезно спросил:
– Завод осмотреть хочешь?.. У нас очень много такого, чего нигде не увидишь.
Разве мог Вадик не согласиться?..
Но в последнее время Гордый почему-то забыл о своем обещании. С работы он приходил хмурый, и Вадик боялся ему напоминать о своем желании.
Сегодня Гордый проснулся рано, сбрил бороду, подкрутил усы, надел новый костюм с орденами и медалями. Походил вокруг дома, поправил колышки на винограднике. Вадик знал, что он собрался идти за получкой. Парень решил, что именно сейчас и есть то удобное время, когда Кузьмич ему не откажет.
– Дедушка, возьмешь на завод? – Спросил он Кузьмича, что как раз подошел к крыльцу.
– Пойдем. Только не сегодня. В другой раз.
Вадика удивил раздраженный тон старика. Чего бы ему сердиться?.. Ему бы радоваться надо. Однако Вадик не понимал и не мог понять, что у Кузьмича были достаточно уважительные причины для плохого настроения.
Никто вслух не жаловался на Гордого, никто не высказывал своего недовольства. Слишком большой авторитет был у старого сталевара. Кроме того, рабочие прикидывали и другое – а что же, начальству видно, что делать. На нашем заводе, мол, есть чем похвастаться, а другим заводам подтянуться надо. Вот и пусть посмотрят все металлурги, какого орла воспитал заводской коллектив. Пусть позавидуют и сами позаботятся о своей рабочей чести. И хотя люди видели, что от этого в некоторой степени проигрывают другие мартены, проигрыш этот был не так заметен в первые дни, как он мог быть заметным и ощутимым где-то в конце квартала, когда из единиц складываются сотни, а из сотен – тысячи и десятки тысяч.
Гордый раньше не имел завистников – он со своим многолетним опытом был вне конкурса. Зато у Коли Круглова их всегда было немало. И теперь некоторые из них радовались, что он отстает от старика.
Коля шел по цеху на втором месте следом за Гордым, но в цифровых показателях отставал от него достаточно серьезно.
И все же большинство рабочих было очень недовольно, что слава Гордого росла не только благодаря его опыту, но частично и за их счет. Они говорили между собой:
– Эх, нет Горового... Он бы намылил шею за эти рекорды. Хочешь ставить рекорды, так не требуй для себя никаких облегчений. Тогда это будет честно. И куда только Макар Сидорович смотрит?..
Но даже недовольные были не вполне уверены, что их жалобы справедливы. А может, это так нужно?.. Может, общегосударственные интересы этого требуют?..
С Гордым все подчеркнуто вежливо здоровались, пожимали ему руку, если он ее протягивал первый, но душевности в отношениях уже не было. Если раньше приходили с ним посоветоваться и о свадьбе дочери, и о том, как лучше в доме настелить пол, и о выступлениях наших представителей на Ассамблее, то теперь к нему почти никто не заходил.
Гордого это сначала обеспокоило не на шутку. Он не привык жить одиноким лешим. Он любил, чтобы вокруг него были люди, чтобы эти люди просили у него советов, высказывали ему свои радости и печали. Но на то он и Гордый, чтобы не напрашиваться на внимание людей, когда они начали его обходить.
Наступил день получки. Как всегда в такие дни, большая комната перед окошком кассы была заполнена сталеварами. Одни пришли в рабочих куртках, с синими очками на фуражках, другие в новых костюмах – некоторые прямо с завода, некоторые из дому.
Сизоватый дым от сигарет плавал под самым потолком, и казалось, что потолка нет вовсе – есть только стены, покрытые сверху низкой, густой облачностью. Так бывает в горном ущелье, где с обеих сторон – гранитные стены, а вверху, низко-низко, потолок из сизой тучи.
Старшие важно разговаривали, младшие шутили, заигрывали с девушками. Наконец окошко кассы поднялось, и в нем появилась старческая голова кассира. Сталевары выстроились в очередь. Началась выплата. В окошке слышалось сухое шуршание, и неизвестно, от чего оно происходило – или от самих ассигнаций, или, может, только от сухих пальцев кассира, которые, казалось, тоже должны именно так шелестеть.
– Да-а, – многозначительно процедил сквозь зубы молодой, вертлявый каменщик Василий Великанов, что работал на ремонте ковшей. – Гришка, ты все деньги в кассе загребешь.
– Хватит и тебе, – огрызнулся подручный Гордого Гришка Одинец, покраснев до корней своих чернявых волос. Он взглянул на Великанова сверху вниз, ибо был выше его на целых полметра. На заводе не было двух людей, которые так отличались бы во внешнем виде: Великанов был низеньким, светлым, со вздернутым носом, Одинец – двухметрового роста, тонкий, черноволосый, с горбинкой на носу.
– Ребята! Надо его наколоть на пол-литра. А то с такими деньгами человек разлагаться начнет, – не унимался Василий.
– Кому смешком, а кому теперь хоть на Марс пешком, – мрачно рифмовал сталевар шестой печи Никита Торгаш, одетый в новый чесучовый костюм. – Домой хоть не показывайся. В прошлом месяце получил две двести, а сегодня – одна девятьсот. Как жене объяснишь?.. Вниз, значит, растем... Выпью рюмку по дороге, а ей скажу, что ребят в ресторан водил. Хоть и поворчит, но это же лучше...
Он сердито потер ладонью свои квадратные усики, хлопнул рукой по пачке ассигнаций, как заядлый картежник по колоде карт, и резким движением сунул ее в боковой карман.
– Ты так оделся, только в ресторан, – пошутил широколицый, средних лет сталевар третьей печи Сахно. – Вот я к тебе притрусь своей робой, тогда жена поверит, что хорошо выпил.
– Ну-ну, – покосился на него Торгаш. – Я тебя притрусь. Я тогда к твоему «Москвичу» так притрусь своей «Победой», что у него ребра вылезут. А мне уже не страшно. Все равно недавно за столб зацепился. Надо кузов рихтовать и красить заново. Вот бы как раз те триста рублей были кстати...
– Оно и небольшие деньги, – сказал Сахно, – да как-то не того... Вроде у тебя их из кармана вытащили.
– Конечно же вытащили, – послышался молодой голос. – Конечно, вытащили. И если бы только деньги, так полбеды. А то надежды наши обворовывают. Ты рвешься вперед, а тебе ботинки, как водолазу, свинцовыми подошвами подбивают... Чтобы вниз тянуло. Не буду я об этом молчать! На Гордого две завалочное машины работают сразу. А мы ждем...
– Ну, что ты, Коля?.. Металлолома не всегда хватает. Прямо с колес в мартены идет, – сказал Сахно.
– А Гордому хватает? – Не успокаивался Круглов. – Как же они нам могут своевременно лом подавать, если заставляют шихтовиков в целых горах металла рыться, чтобы для Кузьмича лучший лом выбрать?.. Ему сдобная булка с маслом, а нам житняк с остями, и этого мало...
– Ты бы, Коля, постеснялся. Тебе двадцать лет, а Кузьмичу почти шестьдесят, – буркнул Торгаш, недоволен тем, что первым высказал общее настроение не кто-то из старших сталеваров, а Коля Круглов.
– А я не о себе. Я о своем мартене. Я не голоден, а он у меня недоедает. Аппетит у него неплохой. И если я втрое моложе, то мартены наши – ровесники. За что же это его будут голодом морить?..
– Правильно, Колька!.. Режь правду, – поддержал его Василий Великанов.
– Коля, не надо, – взял его за руку Владимир Сокол. – Не надо, Коля. Может, Кузьмичу просто везет.
– Везет? – Огрызнулся Круглов. – Что-то очень часто ему везет.
Владимир оказался более сдержанным и не таким горячим, как это могло показаться тогда, когда он выступил вперед из группы рабочих и признал свою вину. Круглов читал Соколу разделы из своей книги. Владимир был приятно порадован, что в этой книге Коля больше говорил об опыте Гордого, чем о своем собственном. Сокол глубоко уважал старого сталевара, а когда прочитал раздел из будущей Колиной книги, понял, что его не меньше уважает и сам Круглов. Только он об этом никогда не говорит. А из книги было видно, что Коля значительно глубже понимает сильные стороны Гордого, чем сам Кузьмич. Гордый брал многолетним опытом, возможно, не всегда осмысленным, а Круглов расколупывал каждый орешек, ощупывал пальцами каждое зерно в этом опыте. Видно, он не зря смотрел за каждым движением Гордого у мартена. Сокол понимал, что Коля делает очень полезное дело, потому что, конечно, ни один литератор не мог бы так глубоко осветить опыт Гордого, как он, сталевар Круглов, для которого это стало делом ума и сердца.
Но вот у дверей зашикали, среди сталеваров прошел сдержанный шепот. К кассе подходил Гордый. Одет Кузьмич подчеркнуто торжественно, с орденами и медалями на бортах синего шерстяного пиджака. Поздоровался с рабочими и молча прошел к окошку кассы. Кассир потянулся к нему серой, арбузообразной головой из узкого окошка.
– Георгий Кузьмич! Пожалуйста, пожалуйста. Мы уже вам приготовили. Есть сторублевками, есть пятидесятками. Какими хотите получить?..
– Мне все равно, – буркнул Кузьмич.
И кассир начал отсчитывать, подавая пачки с деньгами в руки Кузьмичу.
– Одна тысяча, две тысячи, три тысячи...
Среди рабочих послышалось перешептывания, покашливание.
– Гм-м...
– Н-н-да...
А кассир отсчитывал:
– Четыре тысячи... Может, хотите полтинник?..
– Я же сказал, что мне все равно, – недовольно нахмурился Кузьмич.
А шепот нарастал. Было в нем скрыто что-то насмешливое, и Кузьмич этого не мог не почувствовать. Ему казалось, что проходят не секунды, а часы, кассир слишком медленно работает сухими, как корешки калгана, пальцами.
А чего же ему спешить? Не сам ли Кузьмич упрекал прежде, что он слишком торопится, бросает деньги, как некий бумажный хлам? Ведь еще недавно Кузьмич у этого окошка не деньги получал, а священнодействовал, смаковал результаты своего труда. Откуда знать кассиру, что деньги под укоризненными, мрачными взглядами рабочих пекут Кузьмичу руки? Кассир же был вполне убежден, что сейчас у Кузьмича на душе большой праздник. Он умышленно задерживает последнюю тысячу, чтобы дать возможность Гордому как следует почувствовать этот праздник – праздник материальной оценки государством его трудов.
Наконец кассир торжественно подает Кузьмич последнюю пачку и говорит громко, как судья объявляет лучшим бегунам минуты и секунды на финише:
– Пять тысяч!..
Но что это произошло с Кузьмичом? Он даже не попрощался с кассиром, со сталеварами, даже не спрятал последнюю тысячу в карман. Он почти побежал от кассы, как убегают людишки, которым ошибочно переплачивают и которые боятся, что им могут сейчас крикнуть вслед: «Товарищ, вернитесь!.. Вам переплатили».
Нет, Кузьмичу никто так не кричал. Выйдя в коридор, он прислушался. Никто ни слова. Но даже в этом молчании Кузьмич чувствовал глухое недовольство.
Чем они недовольны? Почему они так неприветливо смотрят на Кузьмича?.. Это было Гордому еще не вполне ясно, но он остро чувствовал на себе недоброжелательные взгляды сталеваров. Он чувствовал их даже тогда, когда видел только угодливую улыбку кассира и ничего больше. Он чувствовал их на своем затылке, как холодные, острые прикосновения тонких стальных остриев.
Но вот Кузьмич услышал чей-то голос – кажется, Круглова:
– Сам же он о себе говорит, что в трусиках рекорды ставит...
Неудивительно, что его собственные грубоватые слова приобрели какое-то совершенно другое содержание. Что они теперь означали?.. Значит, его собственная острота пошла по заводу и теперь была направлена против него самого?
Кузьмич домой не пошел. Его что-то сдерживало. Что же, Кузьмич не знал. Может, ему просто хотелось поговорить с кем-то, узнать, за что товарищи по цеху так настороженно к нему относятся? Возможно...
Но вот вышли Круглов и Сокол. Они поклонились Кузьмичу сдержанно, холодновато и неторопливо пошли по шоссе.
Кузьмич ускорил шаги. Вскоре он догнал их и пошел рядом.
– Домой, ребята? – Спросил Кузьмич.
– Домой, – поднял на него удивленный взгляд Сокол.
– Пойдемте вместе.
Круглов не ответил. Он только посмотрел на Кузьмича своими серыми глазами, будто спрашивая: «И чего ты, старик, от нас хочешь? Разве нам с тобой по пути? »
Когда Круглов поворачивал к Гордому свое лицо, Кузьмич успел отметить, что веснушки сейчас почти не заметны. Теперь лицо Круглова было значительно моложе, почти детским. «Видимо, только весной солнце его так разрисовывает. Пока соловьи поют... А собственно, какое мне дело до его веснушек?» – Рассердился сам на себя Кузьмич.
Наконец он решился заговорить о том, что его больше всего волновало.
– Николай, о каких ты трусиках говорил?
– А вы разве слышали? – Смутился Круглов.
– Случайно. Скажи, Николай.
В голосе Кузьмича послышались жалобные, умоляющие нотки. Сокол посмотрел на Колю с молчаливым укором, а Круглову тоже сразу стало жалко старика. Он почувствовал, что настроение коллектива беспокоит, тревожит Гордого.
– Георгий Кузьмич, – розовея, как ученик, провинившийся перед своим классным руководителем, заговорил Круглов. – О каких трусиках? Так вы сами сказали, что рекордсменов в трусиках фотографируют. Ну, и пошло по заводу.
– Знаю, что я говорил, – недовольно сказал Кузьмич. – Но что это теперь значит?..
– А вот что, – серьезно и твердо ответил Круглов, словно это не он по-ученически краснел несколько секунд назад. – Вот что, Георгий Кузьмич. Я хоть в армии не был, а военную жизнь представляю. – Коля снова покраснел. – По книгам, конечно. Ну, например, так. Другим сталеварам лом дают только после того, как ваша печь обеспечена. Вы получаете порезанные рельсы, орудийные колеса, танковые траки. А другим идет металлическая стружка, и то с перебоями... А если уж ставить рекорды, то только на общих основаниях. Как это бывает в армии?.. Взводу поставлена задача – пройти двадцать километров форсированным маршем. Нелегкая задача, как известно. И вот командир выпускает вперед одного бойца в трусиках и майке, а другие идут с полной боевой выкладкой... Ясно, что боец в трусиках придет раньше. Но какой же это рекорд? И какая от этого польза взводу?..
Гордый смотрел на Круглова, часто моргая сморщенными веками. Ему вспомнился намек Доронина на спортивную форму.
– Вот, значит, что! Дожил на старости лет. – Веки его замигали чаще, голос звучал раздраженно, гневно. – А кто мне надел эти трусики?
Коля со всей прямотой своего нелицемерного характера, немного резковато, с упреком сказал:
– Злые языки говорят, что зятек...
Наверное, если бы сказали Гордому, что он сейчас не за труд свой получил, а украл в кассе завода пять тысяч рублей, это бы его так не возмутило и не обидело, как Колины слова. Сокол даже побледнел от волнения. Он в эти минуты почти ненавидел Колю. А Гордый готов был ухватиться своими шершавыми руками ему за шиворот.
– Как ты смеешь? – С глухой яростью воскликнул он.