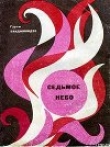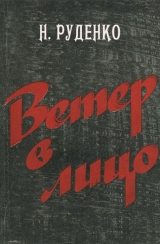
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
19
Позавчера московские и киевские газеты вышли с фотографиями Гордого. На одних он выглядел сановито, напоминая своими запорожскими усами Тараса Бульбу. На других – скромнее, ближе к своему настоящему виду, с запавшими щеками и глубокими морщинами на лице. С Урала, из Донбасса, с «Азовстали» приходили поздравительные телеграммы. Почтальон даже пошутил – или почту надо перевести поближе к дому Гордого, или Гордому предоставить квартиру рядом с почтой.
А Прасковья Марковна превратилась в своеобразное почтовое отделение при ставке Гордого. Марковна сортировала телеграммы по областям, по заводам, по городам – в зависимости от того, откуда они прибыли. Вскоре она так запуталась, что Кострома у нее попала в Житомирскую область, а телеграмма с Коломны лежала рядом с телеграммой из Коломыи от одного из бывших приятелей Гордого.
Худенький русый Вадик, которого недавно прислала из Москвы племянница Нина, боясь обидеть Марковну своим смехом, серьезно сказал:
– Бабушка, Коломна очень далеко от Коломыи.
– Разве? – Удивилась Марковна. – А я думала – рядом...
Тогда Вадик сбегал к Валентине, раздобыл у нее большую карту Советского Союза. А чтобы изготовить флажки, Марковна нашла в своем окованном железными обручами сундуке красную ленту, сохранившуюся со времен ее девичества. Для нее в этом была своя, возможно, только ей одной дорогая символика, но и этого было достаточно. Марковна даже помолодела, оживилась. Даже наклоняться над грядками ей было уже не так трудно. А почтальон приносил все новые телеграммы...
Вадик был выше подростков своего возраста. Чтобы поставить красный флажок на Архангельске, ему достаточно было встать на цыпочки. Он теперь часами не выходил из дома, ожидая новых телеграмм. Как только почтальон заходил во двор, Вадик брал несколько флажков, становился у карты, а Марковна, разрывая телеграммы, говорила:
– Сталино. Магнитогорск... Львов. Караганда.
Вадик хорошо помнил красные флажки на карте, висевшей в школьном коридоре, когда он пришел в первый класс. Они преодолели большое расстояние – от Сталинграда до Берлина.
Карта в доме Гордого напоминала ту памятную карту. Для Вадика она стала особенно дорогой, потому что была делом его рук. Вот пусть придет с работы Георгий Кузьмич и посмотрит на нее!.. Одно дело – держать в руках пачку телеграмм, а совсем другое – взглянуть на карту и увидеть, что вся страна от Ленинграда до Владивостока украшена красными флажками, свидетельствующими об общенародном восхищении успехами сталевара.
Марковна видела Вадика только однажды – когда после окончания первого класса он ехал с мамой в Крым и они на несколько дней заехали к Гордым. Сейчас Вадик перешел в восьмой.
Мама Вадика работала в Министерстве иностранных дел переводчиком. Ей много приходилось ездить с иностранными делегациями, поэтому она этим летом решила отправить сына к тете.
В отношении Кузьмича к себе Вадик чувствовал то, чего ему не хватало всю жизнь, – отцовскую, по-мужски грубоватую, но сердечную и теплую заботу. Отец Вадика погиб на фронте.
Кузьмич, придя с работы, сначала не понял, что это за карта висит на стене и что за флажки накалывает на нее Вадик. А когда парень ему все объяснил, Кузьмич, заложив руки за спину, долго стоял у карты. Марковна сидела на сундуке, радостно улыбалась. А Гордый осматривал пространства родины, где жили неизвестные, незнакомые друзья, оказавшиеся такими отзывчивыми, родными.
Кузьмич был глубоко тронут, на глазах выступили слезы, ему хотелось подойти, поцеловать жену и Вадика, но он не привык никому показывать свои слезы, даже если они были вызваны радостью. Он только кашлянул.
– Давай, жена, ужинать.
Когда со стороны смотреть на Кузьмича, то в его облике и поведении не произошло почти никаких изменений. Он был простой с друзьями, как и всегда, делал вид, что все это его мало касается, – пусть, мол, фотографируют и пишут. Что же тут удивительного? Мы, мол, и раньше знали себе цену, только соответствующих условий не было. Пусть пишут. А нам делать свое дело и жить просто, без спеси, как и всегда жили...
Но какая улыбка появляется у Кузьмича, когда он остается один! Чего только стоит эта улыбка!.. Словно то не губы смеются, не шестидесятилетние, белые, как январский снег, зубы сверкают, а душа Кузьмича и все его радостное существо улыбается. Словно он втайне от всех купается в славе, и она теплыми струями согревает его старческое тело, душу, мозг.
Всегда на свете было два Кузьмича – один домашний, а второй у мартена. Домашний был немного чудаковатый, со своими причудами и капризами. Домашнего Кузьмича побаивались, потому что он вдруг поймает человека на улице, пригласит к себе на «мерзавчик», как он называл четвертинку водки, а потом заставляет гостя отрабатывать за тот «мерзавчик» чуть ли не до самого вечера. Человек дожидался выходного дня, мечтал поехать на рыбалку, а тут сиди с Кузьмичом и передвигай на шахматной доске коней, слонов, пешек. И хоть у Кузьмича красивые шахматы, но играть с ним не интересно. Первыми же двумя партиями он избивает своего противника так, что тот теряет всякую веру в свои силы. А когда тот уже нетерпеливо заегозит на стуле, Кузьмич даст ему возможность выиграть. Но уже следующую партию Кузьмич проведет с таким блеском, что противнику сразу ясно: не он выиграл предыдущую партию у Кузьмича, а Кузьмич выиграл у него, потому что перехитрил, поощрил, не дал возможности попрощаться...
А что уж говорить о том, как он издевается над Прасковьей Марковной! Специально научил ее передвигать фигуры, чтобы было с кем посидеть за шахматной доской, когда никто из лучших шахматистов не попадался. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Но не так уж беспомощна Прасковья Марковна! Были случаи, когда она загоняла своего противника в железное кольцо и громила вдребезги. А когда он, пристыженный, пытался схитрить, обмануть ее, украдкой подвинуть пешку на один квадрат в сторону, Марковна на помощь своей королеве выступала с варварским оружием – с обычным, черным от сажи рогачом. Что и говорить, увлекалась и Марковна. И если она ворчала иногда, то не потому, что ей неприятно было посидеть с Кузьмичом за шахматной доской, а потому, что он недооценивал ее способности, относился к ней скептически.
Водились за Кузьмичом и другие чудачества. И вообще дома он казался ничем не знаменитым старичком. Ни горделивой, генеральской походки, ни осанки, ни широких плеч. Усы висели, как нечто случайное, как кусок кожушка, приклеенный над верхней губой для забавы детям. Эх, полынь-трава, полынь-трава!.. Давно прошла его удаль.
Но как менялся Кузьмич, когда он подходил к мартену! Нет, это был уже не домашний Кузьмич. Здесь ему нельзя было дать меньшего чина, чем чин бога огня. И когда он своей пятиметровой ложкой проникал в растопленный металл, казалось, что этот усатый, седобородый великан достает раскаленную магму из самого земного ядра.
Кузьмич действительно в это время был похож на великана. Он весь распрямлялся, расправлял плечи, даже лицо его становилось другим – вдохновенным, торжественным.
А усы делались в такие минуты большим украшением на его лице. Ходил он твердо, легко, властно. И когда кричал в другой конец цеха, чтобы не задерживали завалочную машину, нельзя было не подчиниться его воле. К пульту управления печью он подходил легкой, надменной походкой, стоял возле него, нажимая на кнопки, точно сам отлитый из стали... Серая рабочая куртка делала его значительно дороднее, чем он был, спина и плечи казались широкими, вся фигура – крепкой, коренастой, а также его роба по своему цвету напоминала скалу.
Таким был второй Кузьмич – Кузьмич у мартена.
И оба эти Кузьмичи были схвачены объективами фотокорреспондентов, оба попали на первые страницы газет. С одних газет смотрел на читателей своим орлиным взглядом Тарас Бульба, с других – сказочный старичок с обвисшими овчинными усами. Одним корреспондентам удалось сфотографировать его на работе, у мартена, другие, менее шустрые и менее изобретательные, прибегали домой, куда он вернулся с работы усталый не столько от самой работы, сколько от щелканья фотоаппаратов.
Что же такого необычного сделал Кузьмич?.. Ведь не впервые ему видеть свое фото на страницах газет, не впервые принимать у себя дома и у мартена корреспондентов. Но почему его сегодняшняя слава затмила все, что было раньше? Причина была проста – сегодня Кузьмич окончил плавку за пять с половиной часов. Таких результатов ни он сам не достигал раньше, ни кто-либо из его товарищей по профессии. Это был действительно рекорд, как ни странно называть рекордом трудовые достижения человека. Между трудом и спортом существует разница. Спорт – средство отдыха трудового человека, труд – смысл его повседневной жизни, смысл его души, его святыня. Вот почему для Кузьмича, при всем его глубоком уважении к спорту, в слове «рекорд» слышалось что-то легкомысленное, унизительное, более мелкое по своему значению, чем то, что он сделал.
Поэтому, когда корреспондент областной газеты прибежал к нему домой, Гордый спросил:
– Чего пришли, товарищ Сумной?..
– Георгий Кузьмич! – Защебетал Ваня, тряся своей поповской шевелюрой. – Поздравляю вас с новым славным рекордом!.. От имени редакции и наших уважаемых читателей...
– Значит, областная тоже будет писать обо мне? – Язвительно спросил Кузьмич.
– Конечно! Обязательно! На основе передовых методов труда...
– Значит, Ванька, ты тоже за рекордом моим прибежал, – улыбнулся Кузьмич, перейдя на неофициальный тон. – Так, может, мне лучше в трусиках остаться?..
– Что? Для чего? – Ошеломленно посмотрел на него Сумной.
– Для натуры! Рекорды же в трусиках ставят. Рекордсменов даже «Правда» перед читателями в трусиках показывает. Чего же ты удивляешься?..
– Ой, шутник же вы, Георгий Кузьмич! – Пряча обиду, скривил губы в искусственную улыбку Сумной.
– Вот что, Иван, – серьезно сказал Гордый. – Если я поймаю где-нибудь Ботвинника, и прижму его к стенке, и поставлю ему мат, тогда и будешь о моем рекорде писать. На другие рекорды я уже неспособен. А сейчас пока что пиши о плавке за пять с половиной часов. О работе моей пиши. На основе передовых и так далее... Как ты сказал?
После работы зашел Макар Сидорович. Посидели, поговорили. Душевный человек этот Доронин!.. Даже в шахматы поиграть с Кузьмичом не отказался. И он неплохо играет! Проиграл, конечно, но хоть позволил Кузьмичу немного поразмыслить. Доронин пообещал, что в субботу обязательно зайдет к нему снова посидеть за шахматами.
А когда прощался, весело спросил:
– Как вы Сумному сказали?.. В трусиках вас фотографировать?.. Ха-ха-ха! Недавно я его встретил. Пожаловался он на вас, Кузьмич. Говорит, что вы его приняли не очень вежливо. Ведь он сам из рабочей среды вышел. В трусиках, значит... Ну и ну!.. В спортивной форме...
Когда Макар Сидорович ушел, Кузьмич долго ломал себе голову – что это Доронин сказал о спортивной форме? Нет ли здесь какого-то другого, потаенного смысла?.. По его глазам он видел, что Доронин чем-то недоволен. Хотя и поздравлял он его, хоть и говорил теплые слова, но что-то, видно, на душе у него было невысказанное. И чем, собственно, Доронин мог быть недоволен? Ну, везет, к примеру, Кузьмичу уже третий день с шихтой, с завалкой печи. Больше везет, чем другим. Так что с того?.. Кто бы из сталеваров этому не порадовался?
В его мозгу шевельнулась мысль: а может, это везение не совсем случайное?.. Кое-что он замечал, нельзя было не заметить. Но не хотелось об этом думать. И Кузьмич постепенно уверил себя, что только собственному опыту он обязан успехом.
После Макара Сидоровича к нему зашла Вера Миронова. Она принесла большой букет цветов, поздравила Кузьмича:
– Поздравляем вас от всей души!.. Горячий вам привет от всех женщин заводоуправления. Желаем здоровья и новых успехов.
Вера посидела немного, помогла Марковне разбирать телеграммы, попрощалась, очаровательно улыбаясь, и ушла.
Только она вышла, в дом Кузьмича, как цветущий весенний сад, вбежала группа школьников с белыми и красными цветами, в белых рубашках и в коротеньких синих трусиках. На старших горели, как жар, развевались красными концами пионерские галстуки, а на первоклассниках и второклассников галстуков не было. И Кузьмич сразу же подумал о том, как им должно быть обидно, что они еще не доросли, так медленно тянутся какие-то полгода или год...
А может, он и подумал об этом именно потому, что среди тех, на ком были галстуки, стоял и с гордой стеснительностью улыбался его внук – белоголовый Олег?..
Делегация школьников взволновала и Кузьмича, и Марковну до слез. Они смеялись, угощали детей компотом из фруктов собственного сада, насыпали им полные пригоршни черешен и ранних вишен, а сами незаметно вытирали теплые старческие слезы...
Но почему же никто из сталеваров не пришел поздравить Кузьмича? Почему не зашел Колька Круглов?.. Ну, это, возможно, из зависти. А остальные?.. Неужели и они ему завидовали? А если даже так, то разве это мешает отдать должное товарищу, который оказался впереди тебя? Разве Кузьмич, например, задумался бы пойти к кому-то из них, пожать руку, поцеловать, поздравить от души, если бы не он, а кто-то другой добился таких результатов?.. Что-то было в этом не в порядке. Он ничего не говорил Марковне, но не об этом ли именно она сейчас думает?..
– Что загрустила, Марковна? Радоваться надо, а не и сокрушаться, – обратился к ней Кузьмич, поцеловав ее в лоб.
– Да я и радуюсь, Кузьмич. Радуюсь, – влажными глазами взглянула на мужа Прасковья Марковна, тронута его нежданной лаской.
А того, что думает, не сказала. Это хорошо чувствовал Кузьмич. Он ее не первое десятилетие знает...
В это время Вера Миронова, выйдя от Кузьмича, шла к своему дому. Повернув за угол цветущей вишневыми садами улицы, она чуть не столкнулась с Солодом. Солод был одет в светлый костюм и широкий, свободный макинтош светло-серого, почти белого габардина. Даже в вечерних сумерках было заметно, что он довольно улыбался своими серыми, немного даже зеленоватыми глазами.
– Как хорошо, что я тебя встретил! – Заговорил он тихо, почти в лицо Вере. – Иди домой. Двери не закрывай. Я зайду после тебя... Есть интересное дело. Тебе оно понравится...
Они уже давно перешли на «ты» и называли друг друга на «вы» только на людях. Вера долго не расспрашивала Ивана Николаевича что к чему, потому что их могли заметить вместе, а этого не хотели ни она, ни он. Она быстро прошла по улице и скрылась за воротами собственного двора. Затем Вера открыла окошко на улицу – заходи, мол. Лизы нету...
Вскоре, опустив шторы на окнах, они сидели при свете настольной лампы на мягком диване. Вера подобрала под себя ноги, а голову положила Солоду на колени. Большой сибирский кот мурлыкал в свободном кресле, а голая бронзовая женщина на комоде счастливо улыбалась в объятиях металлически холодного змея.
– Верок! – Сказал Солод, наматывая на палец прядь ее волос, и подумал: откуда это у него взялась привычка – Верок, Лидок? – Слушай, Вера. Ты слышала что-нибудь о скандале, который устроил на улице уважаемый представитель министерства?
– Кто?.. Сотник? – Сверкнула глазами Вера.
– Он самый.
– Не слышала. Ну, расскажи!..
Когда Солод рассказал ей об инциденте на улице, объяснив, конечно, по-своему, Вера разочарованно надула губку.
– Подумаешь, как интересно!..
– Вера, – сказал Иван Николаевич, положив ладонь ей на руку, – это же может быть очень интересным событием. Событие утонуло в архивах милиции. А почему бы его оттуда не вытащить на свет божий?.. Министерство посылает человека, возлагает на него надежды, а он, видите ли, чем занимается!.. Это, наконец, наша обязанность как патриотов города...
– О! – Засмеялась Вера. – Что я слышу? Ты о патриотизме заговорил? И тебе не скучно? Браво, браво!.. Скоро ты начнешь читать прописные истины, как Ваня Сумной. Только он хоть на собрании их читает, а не молодым женщинам. С женщинами он умеет разговаривать. И между прочим, остроумный собеседник.
– А ты готова своим знакомым делать приятные услуги? – Хитро прищурившись, спросил Солод.
– А почему нет?.. Конечно, если для этого не надо мочить ноги. Я боюсь насморка, – с игривой лукавинкой в глазах ответила Вера.
– Думаю, что ноги тебе мочить не придется, а репутацию некоторым ты подмочишь... Мой совет – сделай услугу Ване Сумному. Подскажи ему тему. И тотчас же. Сегодня.
– Сумному?
– Да, Сумному. Сам бы фельетон написал, но мне как-то не очень удобно. Ему все открыто. И архивы милиции тоже.
– Вот что ты придумал! – Без дальнейших объяснений поняла Вера.
Она обвилась вокруг его шеи, замурлыкала шаловливым котенком. Вера любила необычные новости, любила раздувать их. Это приятно щекотало нервы, как и все необычное. Особенно ее порадовала возможность отплатить Сотнику за то, что он не обратил на нее внимания.
Зайдя в редакцию, она рассказала Ване о происшествии в переулке, о том, что эта история зафиксирована официально в протоколе милиции.
Тот подпрыгнул на месте от радости:
– Тебе за это пальчики целовать надо!.. Вот так улов! Но это же сенсация. Это же может получиться такой фельетон, который перепечатают все столичные газеты. Бегу, бегу, бегу... Диктую прямо машинистке. В сегодняшний номер!
От восторга он размахивал руками, как ветряная мельница. Чуть не сбил со стола настольную лампу. Волосы на голове так подскакивали, что, казалось, это отделяется от тела его голова, подскакивает вверх и снова оседает на свое место.
Вернувшись домой, Вера заметила, что дверь на Лизину половину приоткрыта. Она, конечно, не удержалась от соблазна заглянуть в Лизины комнаты. Что это?.. Лиза стояла перед зеркалом и про себя улыбалась. На ней была та розовая кружевные блузка, которую они обе любили. Лицо у Лизы было такое счастливое, каким его Вера никогда не видела.
Она зашла в комнату, спросила, отчего это сестра так радуется. Лиза смутилась, покраснела, бросилась ей на шею.
– Сестричка!.. Как я счастлива!..
Вера пристально посмотрела ей в глаза и весело засмеялась:
– Ну, все ясно!.. Кто же он?
– Коля Круглов!.. И он меня любит.
Лиза рассказала об их встрече на дороге, об овраге, о лунной ночи над Днепром, о дороге домой по степной равнине среди моря цветов, трав и хлебов. Нет, она после этого с ним не встречалась – Коля много работает, он что-то пишет. Но в субботу они поедут с ним на лодке по Днепру! Обязательно поедут. А все эти дни они виделись только на заводе и однажды по дороге домой...
Простая, искренняя, заполоненная своим счастьем Лиза не заметила недоброго огонька, блеснувшего в Вериных глазах. Откуда было знать Лизе, что Вера уже давно прицеливалась к Коле значительно внимательнее, чем к кому-либо? Ведь Вера никогда не делилась с нею своими предпочтениями и намерениями. И если раньше Круглов стоял в ее воображении в ореоле неприступности, то теперь она уже была далеко не той девчонкой, что теряется, краснеет, не может сказать слова. Солод не тронул ее души. С ним приятно, весело. Но Круглов... Колька Круглов – это совсем другое. Он был для нее не только выгодным женихом. Рано или поздно он должен принадлежать Вере. Хоть на день, хоть на час! А если Вера давала себе такую клятву, она не забывала о ней. Ничто не могло остановить ее – ни страх, ни совесть, ни людская молва. Какое ей дело до людей?..
Вера нежно, ласково простилась с сестрой, пожелала ей хороших снов и ушла к себе. Ей не хотелось, чтобы сегодня снова приходил Солод.
20
Нет, Валентина не была спокойной, как это казалось со стороны. В ней происходила большая внутренняя борьба, борьба между умом и сердцем. Ум ей говорил, что Сотник – подлый человек, если мог так легкомысленно растоптать ее лучшие чувства, если не нашел в себе мужества приехать к ней и сказать ей в глаза, что больше ее не любит, или хотя бы написать ей об этом, если полностью сознательно заставил считать себя мертвым и поклоняться его памяти. Зачем ему был нужен этот жестокий, непревзойденный по подлости обман? Десять лет носить в себе святыню, греться ее теплом, обращаться к ней в самые тяжелые минуты жизни, и вдруг узнать, что эта святыня была лицемерной...
Что же может заполнить пустоту, которую почувствовала в своей жизни Валентина? Федор? Но Федор не мог заменить того Виктора, которого она носила в сердце в течение десяти лет. Он мог жить только рядом с ним, как его друг, как часть его самого. А когда исчез Виктор, исчез в том виде, каким она его представляла, в ее душе образовалась глухая пустота, и Федор, хоть бы как она этого ни хотела, не способен был ее заполнить.
И все-таки бывший Виктор не исчез из ее души. Он исчез только из ее сознания. Она понимала, что его нет, что он оказался совсем другим и поэтому недостоин занимать место, которое ему было отведено, но с тем, бывшим Виктором, она все еще не могла попрощаться, выгнать его из своего воображения. Он еще жил в ней. Жил наперекор реальности и сознанию. Жил любимый, желанный, как живет в человеке мечта, давно уже ставшая нереальной... Валентина знала, что ничего хорошего выйти не может, но это было именно так.
Лида как-то в лаборатории спросила у нее:
– Почему ты не хочешь посоветоваться с Виктором?.. Возможно, то, что он знает, мы не знаем, а то, что мы нашли – ему не известно.
– Нет-нет. Видеть его не хочу. Тем более не хочу принимать от него помощь... Пусть другие члены комиссии. Правда, у них не такой профиль. По стали – он...
– А может, ты ему тоже поможешь? – Не успокаивалась Лида.
Валентина подняла на нее затуманенные голубые глаза.
– Но я не могу его видеть. Ты понимаешь?..
– Боюсь я за тебя, – серьезно сказала Лида. – Боюсь, что за твоей обидой кроется другое чувство. Ну, признайся – ты его действительно так ненавидишь? И чем – только умом, а может, и сердцем?..
Валентина склонилась Лиде на грудь, и теперь ее глаза были не только затуманенными – туман превратился в горячую соленую росу и покатился по ее щекам слезами.
– Лидочка! – Сдавленным голосом произнесла она. – Мы росли с тобой вместе. Мы ничего не скрывали друг от друга... Люблю. Ненавижу и... люблю. Увидела его – и все пробудилось с новой силой. Чувствую: если бы он взял меня за руку – пошла бы за ним. И ненавижу себя за это. Простить себе этого не могу. Ведь я не имею права его любить. Он так недостойно поступил себя со мной. А Федор стал отцом моего сына. Я пообещала, что он усыновит Олега, как только уедет Виктор. Может, это и неправильно, но... Не могу спокойно слышать даже этой фамилии.
Лида обласкала подругу. На ее глазах тоже появились слезы.
– Валя! Успокойся, Валя. Он действительно недостоин твоей любви. Тебе надо преодолеть себя.
– Ты счастливее меня, – сказала Валентина, немного успокоившись. – У вас с Солодом все иначе. Но почему же вы откладываете?
– Ты думаешь, нам безразлично, что происходит с тобой?.. Успеем. Мы не такие уж наивные молодые... Пусть уедет, тогда.
Валентина благодарно посмотрела на подругу, а потом неодобрительно покачала головой:
– А может, и мне возле вашего счастья теплее стало бы?..
В воскресенье, проснувшись по привычке рано, Федор застал Валентину за вышиванием. Она склонилась над тем днепровским пейзажем, который уже с неделю лежал в ящике ее туалетного столика. Федор понимал, что увлечение Валентины вышивкой и домашней работой не случайно, что оно имеет свои причины, но говорить с нею об этом не хотел.
У Валентины был неплохой художественный вкус. Она по-своему переработала размеченную на бумаге крестиками картинку. Пейзаж у нее получался не спокойный, безоблачный, а тревожный, бурный. С севера наплывала тяжелая, темная туча, прямо в днепровскую волну ударила молния, а дубы на берегу тянулись зелеными ветвями к воде, будто им не хватало влаги, потому что молния подожгла один дуб, и он окутывал их горячими языками своего пламени. Спасение только там, в воде...
Откуда это и что это значит? Эта загадочная символика напугала Федора. Он вспомнил, как бежала Валентина к заливу в тот день, когда увидела фото Виктора в журнале, как он загородил ей дорогу уже у самой воды.
Он подошел к Валентине, обнял ее, прижал к груди. Она не вырывалась, но и не обнаружила ничем своей радости, не ответила искрящейся улыбкой на его ласку, как это бывало раньше. Словно он обнимал не Валентину, а какое-то подвижное, но неживое ее подобие. Видимо, Валентине в этот момент было неприятно чье-либо прикосновение. Однако и сейчас Федор не обнаружил ничем ни своей тревоги, ни своего раздражения. С деланной, хотя и естественной на первый взгляд, нежностью в голосе сказал:
– Валя!.. Как хорошо у тебя получается!
– Правда? – Подняла к нему невеселые глаза Валентина.
– Очень хорошо. Я даже не знал, что ты так можешь. Ты же когда-то неплохо рисовала. Но это было давно...
– Давно, – со вздохом эхом откликнулась Валентина.
Принесли газету. Пока Валентина сидела в гостиной на диване за своей вышивкой, Федор, решив, что с нее не следует спускать глаз, пошел в кабинет с намерением просмотреть газету. Но, сев в кресло за столом, он отложил газету и углубился в размышления.
Какой выход из положения, что теперь складывалось?.. Ну, он еще два-три дня может не встречаться с Виктором, а потом? Что даст им эта встреча? Как Федор посмотрит ему в глаза?..
Он снова вспоминал слова Солода: «Век идеальных отношений еще не пришел. За свое счастье надо бороться...» Возможно, Солод говорит правду, и ему в таком случае не стоит угнетать себя сомнениями?
А сколько Солод проявил отзывчивости, заботы о нем! Может, это все-таки хорошо, что Иван Николаевич оказался тогда рядом, что судьба послала ему умного, энергичного советчика?.. Он всегда умеет найти такие слова, что падают, как дождь на потрескавшуюся от засухи землю.
Правда, земля после такого дождя, высыхая, еще больше трескается, рвет всякие живые корешки в себе, но хоть в ту минуту, когда падает этот дождь, ей кажется, что она станет снова плодородной... Как все это тяжело и сложно!
Федор снова взял в руки газету, с удовольствием посмотрел на портрет Гордого. Знает Георгий Кузьмич, почему к нему приходит в последнее время такое везение? Видимо, догадывается, но молчит... А что же здесь плохого?..
Вдруг Федоров взгляд упал на заголовок фельетон – «Хулиган в министерской командировке». Лихорадочно пробежал глазами первые строки. Да, это о Сотнике. Фельетон написан резко, крикливо и не очень остроумно. Автором его был И. Сумной. Так вот каким образом Солод совершил свой злой замысел!.. Какая подлость!
Федор сложил вчетверо газету. Валентина, конечно, узнает о фельетоне, но не надо, чтобы она увидела его сейчас. Надо собраться с мыслями. Надо подумать, что делать.
Пойти к редактору и доказать ему, что это – провокация, скандал этот инспирирован Солодом? Но как он это может доказать? А когда расскажет всю правду, что будет потом с ним самим? Ведь он тоже молчаливый участник этой провокации. Нет, это не годится. Тотчас же к Доронину. Федор ему расскажет не все. Он только скажет о том, что Виктор не виноват, что на него напали, что Федор это видел, но не решился вмешиваться. Или просто опоздал. Да, опоздал... Пока он подбежал, Виктора повели в милицию. Но где же это было? Надо же это обязательно знать. Ничего. Попробует. Никто не будет входить в детали, проводить расследование. Ему поверят...
Когда Федор пришел к Доронину, Макара Сидоровича не было дома. В гостиной Катя разговаривала с черноволосой белолицей женщиной, глухо картавящей. «Это, наверное, и есть жена Криничного», подумал Федор.
– Федор Павлович, – сказала Катя. – Подождите здесь. А мы, извините, тем временем закончим разговор.
И Катя открыла перед ним дверь в другую комнату – в домашний кабинет Доронина.
В кресле у стола сидел отец Доронина – белобородый старик. Руки старика лежали на коленях. Сухие, сморщенные, черные от постоянного ковыряния в земле, они напоминали дубовую кору. Старик хмурился, недовольно поглядывая на дверь, что остались чуть приоткрытой.
В кабинете было хорошо слышно, о чем говорила Катя с женой Криничного.
– Екатерина Ивановна, – говорила женщина. – Вы можете повлиять. Помочь ему уже нельзя. Особенно после... Ну знаете, после чего. Откуда я могла знать, что он спекулировал лесом? И что наживался на ворованном... Я этого не знала, его будут судить. Потому что он вор. А разве мы с Пусей виноваты? Помогите. Чтобы хоть имущество не конфисковали...
– Чем же я могу помочь?.. Макар Сидорович меня не послушает, – раздраженно ответила Катя. – Мужа из партии исключили?
– Исключили. Но вы можете. Он вас слушает. Пусть поговорит, где следует.
– Не буду я с ним говорить, – встала Катя, давая понять, что ей уже надоела эта беседа. – Не могу. Говорите сами.
– Я вас умоляю, – всхлипнула женщина. – Мой бедный Пуся! Разве он виноват? Нас выселят из дома. Дадут какую-то комнатку. Как же мы с ним будем жить в одной комнате?
И тогда отец Доронина, белобородый старик с руками, черными от земли, что въелась в кожу, яростно поднялся, рванул дверь и стал между двумя комнатами, плечом опираясь о косяк.
– Тебе с сыном мало одной комнаты? – задергался старик от негодования. – Мало?
– Папа, – ласково обратилась к нему Катя. – Не надо волноваться. Она пришла в наш дом не для того, чтобы мы на нее кричали.
– Нет, дочка. Подожди. Я все скажу, – не сдавался старик. – Людей тебе не жалко? Только себя жалко. Ложью мир пройдешь, да назад не вернешься. Вот что я тебе скажу... Вы, как тот червь. Как черви. Под корни подкапываетесь. – Он отошел от косяка, шагнул вперед. – Не плачь!.. Врешь, что ты ничего не знала. Все знала. Только молчала. – Старик показал землистый кулак. – Я сыну этой рукой зубы пересчитаю, если он пойдет за тебя хлопотать. Не посмотрю, что он большой начальник. Не так я его растил. В любви к людям растил. Даром, что сам неграмотный.
– Кому это вы собираетесь зубы пересчитать, папа? – Засмеялся Доронин, стоя в дверях, ведущих на веранду. – Мне?..
– Это, сынок, к слову пришлось, – ответил старик, немного успокоившись. – Я здесь за тебя ответ даю.
– Нехорошо, не годится так с гостями разговаривать. Да еще с женщиной. Чего вы хотите? – Обратился он к женщине.
– Ничего, – ответила она, бледная, растерянная. – Ничего. Я к Кате зашла. Извините. До свидания.
И ее как ветром вынесло из комнаты.
– Строго вы, отец, с ней поговорили. Но справедливо. А, Федор Павлович! – Заметил он в кабинете Голубенко. – Такие дела, как видите. Почти сорок лет при Советской власти прожили, а еще водятся у нас людишки... И у нас на заводе, пожалуй, они есть. Горе нам, если не увидим своевременно. – Макар Сидорович тяжело опустился в кресло. – Ну, что нового у вас? Читали уже фельетон?.. Вот так Сумной. Написано не очень хорошо, но зато смело и задиристо. Не ожидал от нашей газеты такой смелости. Все же представитель министерства...