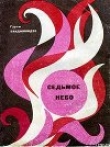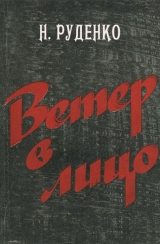
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
46
Солнце высилось над головой, дубы над заливом медленно покачивали отяжелевшими ветвями, и каждый отдельный листок выполнял свою прекрасную работу – ловил солнечные лучи, превращая их в соки жизни. Это физически ощутимо, когда входишь в темно-зеленую палатку и видишь просвеченные солнцем листья, что становятся прозрачными, нежными, словно каждый из них держит в своей зелени небольшой обломок солнца.
Они стояли втроем, – и сами были похожи на ту семью дубов, шумящих у залива: крепкий вековой дуб с корой в два вершка, с корнями, глубоко уходящими в недра, берущими не поверхностные соки, а глубинные... А рядом с ним два молодых дубка. Они достали своими вершинами до его вершины, но были еще не такие крепкие, как он, и пока что держались в земле не так твердо. Их еще иногда покачивает то ветер, который на старом дубе не всколыхнет даже ветки. Но они знают, что им теперь следует расти не столько вверх, сколько вглубь, набираться силы, твердости, чтобы их не качал не только этот едва заметный ветерок, а даже жестокая буря...
Долгий разговор, начатый еще у проходной завода. Это он привел их на берег залива, под эти дубы, потому что не хотелось расходиться по домам, не закончив его. И хотя Владимиру не терпелось прийти домой, где его ждала Густонька, но разговор захватил, не отпускал. Что же, пусть подождет. Он не так часто опаздывает.
Говорил Гордый.
– Доживу ли я до коммунизма – не знаю. А что вы доживете – это точно, полынь-трава!.. Никакого сомнения. – Потом, мечтательно улыбаясь, добавил: – Я, знаете, когда-то в рай верил. Давно это, правда, было! Очень давно. Но верил. И таким он мне сладким казался!.. Праведники сидят под деревьями, на арфах играют. Над их головами свисают какие-то неземные золотые плоды... Под ногами золотой песочек. Никаких тебе забот – сиди сиднем и радуйся тишине... А в прошлом году пожил немного в таком раю...
– Это вам приснилось, Георгий Кузьмич? – Весело спросил Коля.
– Почему приснилось?.. Все было в натуре – золотой песочек, райские плоды над головой... Мушмула там всякая, алыча, инжир... Никогда в жизни не приходилось видеть. Море плещется у ног. И тишина. Такая тишина, что слышно, как чайка трепещет крыльями. А делать нечего. Дней пять мне тот рай нравился. А потом скучно стало. Нет, думаю, Кузьмич, в праведники ты не годишься. Терпения не хватает сидеть без дела. Хотел было райскому садоводу помочь. А тут откуда ни возьмись – ангел летит. В легоньких тапочках, в белом халате. «Не положено», говорит.
– А разве там не было бильярда, например?
– В раю?.. Не обратил внимания.
– А вы бы книгу жалоб попросили, – вставил Коля, – и всем этим ангелам и архангелам всыпали по заднее число. За то, что не нашли для вас достойного развлечения.
– Э-ет!.. Не люблю жаловаться. Люблю сам порядки наводить. Я там главному апостолу сказал несколько слов...
Но я не об этом... Я говорю, что некоторые коммунизм так представляет. Море, пальмы, золотой песочек. Лежи себе на берегу, чтобы море пятки нежило. И никаких забот. Ни поругаться, ни рассердиться, ни погрустить... А мне, откровенно говоря, такого коммунизма больше, чем на месяц, не надо. Мне нужен такой коммунизм, чтобы было все: мозоли на руках, радость, печаль... Чтобы и поругаться было с кем. Мы с Марковной ругаемся по графику – ежемесячно в одну из суббот. А субботу выбираем сознательно: в воскресенье утром можно помириться... В другой день пойдешь на работу, еще до примирения, – и работа плохо клеится, и ссора затянется на несколько дней! Так вот, голубчики сизые... Кому-то надо для полного спокойствия сердца на курорт съездить, а кому просто с кем-то поругаться.
Гордый сел на широкий пень, под самым дубом, положил на колени тяжелые серые, как большие куски гранита, кулаки. Владимир и Коля разместились у его ног, на траве.
– Что же, мозоли тоже, возможно, будут... выскакивай каждое утро на турник – вот тебе и мозоли. Правда, Володька? – Коля растянулся на траве, сорвал стебелек, вставил в зубы. – И ссорится тоже не перестанут. На каждом этапе у человека своя мерка хорошего и плохого. – Он помолчал, глядя на Днепр, по которому плыл буксир, трудно ударяя о воду широкими лопастями. – Я, кажется, говорю не очень складно. Но это факт – наш век требует от человека значительно большей чистоты. А при коммунизме люди тоже будут и ссориться, и бороться... И все за то же самое – чтобы стать лучше, чище. И то, что даже нам сейчас кажется мелочью, будет большой моральной виной перед обществом. Будут новые, более высокие критерии...
– Например? – Спросил Сокол.
Круглов задумался, перебрасывая языком зеленый стебелек с одного уголка рта в другой.
– Не знаю... Будут свои конфликты. Будет и несчастная любовь. Не может не быть. Знаю только, что коммунизм не будет похож ни на курорт, ни на гигантскую человеческую оранжерею, ни на этот спокойный залив. И люди все больше и больше будут требовать от себя. И будут свои трудности. Даже свои трагедии.
– Что ж, Николай, – сказал Кузьмич. – Ради этого стоит, жить. Если даже я умру – хотелось бы, чтобы хоть один мой глаз остался живым. Мне много не надо – лишь бы посмотреть, что будет на этой земле, которую я когда-то босыми ногами топтал... Ну, может, еще язык. Чтобы сказать тому незнакомому племени: «Здесь кровь моя, люди! На этой земле. В этих травах, деревьях. В ваших жилах. И я не хочу, чтобы вы забывали об этом. Когда мне было очень трудно, я жил, люди добрые, верой в то, что вы об этом никогда не забудете!..»
47
Федор шел степной дорогой. Ветер выхватил из неглубокого ярка перекатиполе, погнал впереди. Оно катилось, высоко, пружинисто подпрыгивая, останавливалось на мгновение, как бы пытаясь зацепиться за бугорок или за выбоину, но ветер снова подхватывал его и гнал неизвестно куда.
Федор подумал – так и с людьми бывает, когда у них не хватает внутреннего сопротивления, когда они боятся пойти навстречу ветру, когда ветер жизненных событий все время подталкивает их в спину... С людьми? А разве не с ним самим?..
Небо было тяжелое, серое, землистое, как только что перепаханный подзольник. А по серому небу, медленно покачиваясь, двигался черный караван горбатых туч. Вдоль степной дороги ветер обивал пушистые головки одуванчика, разбрасывал невесомое семя, как белый лебяжий пух. Ромашки уже отцвели, и теперь на тоненьких ножках покачивались не белые кружевные цветы с желтой сердцевиной, а сама эта сердцевина, невзрачная, голая, желтоватая.
Федор шел мрачный, ссутулившийся. Шел, чтобы только идти, не стоять на одном месте. Ему почему-то вспомнилась смерть отцовского товарища – дяди Афанасия. Федор был тогда десятилетним мальчишкой. Однажды зимним вечером в цеховой кладовой вспыхнул бак с бензином. Кто-то из рабочих схватил его голыми руками и, яростно обжигаясь, выбросил в открытую дверь. В это время, напуганный необычным светом в кладовке, в дверях появился дядя Афанасий. Он был одет в заячью ушанку, в заплатанный полушубок, на ногах – высокие валенки. Бак ударился ему в грудь, выкатился на притоптанный снег, облив Афанасия с ног до головы горящим бензином. Афанасий вспыхнул, как факел. Упасть бы ему в сугроб, обкидывать себя снегом, кататься, пока бы на него не положили мокрый брезент... Так нет, – Афанасий побежал в заснеженную степь. Его не могли догнать. Снег таял на его следах, ночь расступалась перед ним. Бежал, пока не упал замертво...
А куда ты спешишь, Федор? Ты тоже напоминаешь сейчас горящий факел, только тебя сжигает изнутри, и никто, кроме тебя самого, не увидит и не почувствует губительный огонь, который ты несешь в себе. Дядька Афанасия хоть бросались спасать. Кто спасет тебя? Кто догадается, что тебя надо спасать?..
Тревожно гудят провода высоковольтной линии, железные ажурные столбы тонко вибрируют на ветру. А Федор идет, идет... Он не заметил даже, что из-за бугорка, просто на него, выскочила автомашина. Водитель изо всех сил нажал на тормоз, остановил машину перед самым Федором. С переднего сиденья встал, шагнул на дорогу высокий жилистый человек в белом парусиновом костюме, посмотрела на Федора.
– Куда это вы, товарищ Голубенко?..
Федор остановился, узнав нового начальника строительного треста Шапошникова. Пытаясь совладать с собой, мрачно ответил:
– Вышел побродить, проветриться...
И прошел мимо. Долго еще Шапошников смотрел вслед Федору, постепенно исчезающему за бугорком, словно он погружался в темную воду.
Федор шел еще с полчаса, а потом остановился, оглянулся. Небо было темное, хотя до вечера еще далеко, воздух влажный, душный. На лице, на руках загустели капли пара. Или это выступил холодный пот?.. Федор механически расстегнул воротничок сорочки, провел ладонью по влажному лицу. Ладонь сразу же взмокла.
Города отсюда не видно, только высокие, тонкие дымоходы мартеновского окуривали низкое свинцовое небо.
Где-то очень близко заворковала горлица: тур-р-р, тур-р-р... Федору показалось, что он слышит ее голос у самого уха. Прислушался. Да вот же она – на высоком, остром обелиске, поднимающемся в небо, как солдатский штык. Федор остановился, боясь напугать сизокрылую птицу, которая, погрузив клювик в собственный пушистый зобик, томно, мечтательно ворковала. Что-то было нежное, любовное в ее спокойных звуках, похожих на материнскую песню, когда мать, напевая, знает – ребенок заснул и ему снятся хорошие сны.
Федор, загипнотизированный этими звуками, сделал еще несколько шагов. Из-под ног выбежала ящерица, метнулась между серебристыми кустиками полыни, сверкнула зеленоватой спинкой. А горлица, казалось, спала и ворковали во сне.
И на мгновение Федор позавидовал тем, кто лежит под серым обелиском. Остался бы он так лежать – и не было бы того, что потом произошло, не было бы этой острой, безудержной боли в сердце, не было бы позора, которым он покрыл свою голову. Была бы вечная слава, вечная память в сердцах людей, песни жаворонков над могилой и мечтательное воркование сизой горлицы...
Но вот Федор вспомнил солдатский разговор у потухшего костра, свои зажигательные слова... Да, это он, Федор Голубенко, говорил когда-то друзьям-солдатам, что после войны все будет прекрасно – и труд, и любовь, и люди!.. Он говорил это так, будто произносил клятву. Жизнь действительно стала прекрасной, а он оказался клятвопреступником и должен понести за это заслуженное наказание. А те, кто лежит под этим обелиском, для кого воркует горлица, ни за что не простили бы ему нарушение клятвы. Почему же тогда должны прощать живые?.. Почему должны прощать Валентина, Виктор?.. Почему должен прощать заводской коллектив за невольное содействие Солоду? И особенно Козлов... Солдат Козлов!
Рассказав Валентине об эпизоде на вокзале, он так и не дождался ее ответа. Она осталась сидеть в бледной, холодной окаменелости, а он, боясь ее молчания больше, чем суровых слов осуждения, вышел из дома, пошел на завод. Несколько ночей провел в кабинете, надеясь, что Валентина очнется, начнет его искать и в первую очередь, конечно, позвонит по телефону. Но телефон молчал. Утром, как всегда, начинались звонки. Федор лихорадочно хватал трубку, но Валентина не звонила, не заходила... Сам же он не хотел и не имел права идти к ней. Зачем он пойдет, о чем будет говорить? Она все знает. Пусть решает так, как подсказывает сердце...
Полнедели прожил в надежде, в ожидании. Неужели она оставит без внимания то, что совершенный им обман был подсказан любовью?.. А сегодня, когда закончился рабочий день, он вышел из заводоуправления с тяжелой головой. Какой ты наивный, Федор! Почему это Валентина должна думать, что надо, а что не стоит принимать во внимание? Она жила с тобой потому, что сначала считала Виктора мертвым, а затем – подлым, нечестным... Сейчас Валентина знает правду... Но вот шевельнулась другая мысль: неужели только из-за этого?.. Разве она сирота, которой негде приклонить голову?.. Нет, если не простит, то только потому, что она в тебе глубоко разочаровалась.
Горлица, заметив присутствие человека, тряхнула крыльями, поднялась в небо и исчезла за одиноким дубом, что стоял в степи, задумчивый, крепкий, как сказочный витязь на распутье. И сразу же серый мраморный обелиск стал холодным, неуютным, мертвым... Федору стало жутко от гнетущего одиночества, он с радостью заметил, что по степной дороге в город бежит грузовая автомашина. Вот она вырастает в размерах, приближается... Надо остановить ее, вернуться домой. Но куда – «домой»? Где теперь твой дом?
И вдруг он вспомнил – Сотник сегодня в пять вечера должен был уехать... Уедет или нет? Ведь он уедет только в том случае, если Валентина ничего ему не сказала. А если сказала – он, безусловно, задержится на несколько дней, а потом... Даже подумать страшно, что будет потом.
Да, да, очень важно – сказала или нет? Но Федор может об этом узнать, ничего не спрашивая у Валентины. Надо сейчас же поехать на вокзал. Федор увидит Сотника, обязательно увидит, если он действительно уезжает...
Поднял руку, машина остановилась.
– Куда вам? – Спросил незнакомый шофер.
– До вокзала.
– Садитесь в кабину.
Через полчаса, глядя на большой циферблат электронных часов, висящих на углу вокзала, под самой крышей, Федор бежал по перрону, натыкаясь на встречных пассажиров. Вот и пятый вагон. Федор вздохнул, замедлил шаг, невольно приложил ладонь к груди – снова закололо в сердце. И тут он увидел в окошке вагона худое, серое, с двумя глубокими морщинами на высоком лбу лицо Виктора. Глаза у него красные от бессонницы, весь вид такой, будто его несколько месяцев трясла нещадная лихорадка.
«Не знает» – с облегчением подумал Федор, отходя от вагона, чтобы Сотник его не заметил. Но облегчение было минутным. Опять вина перед другом заговорила полным голосом, снова двинулся в груди колючий еж проснувшейся совести. Нет, так дальше жить нельзя! Надо резать по живому. Раз и навсегда. Хватит с него молчаливой, одинокой муки. Он должен, наконец, стать человеком, а не перекати...
Федор подбегает к окну вагона, кричит:
– Виктор! Я должен тебе рассказать... Ты не должен уезжать!
У него такое ощущение, как бывает только во сне: кричишь, а голоса нет.
Сотник смотрит куда-то в пространство, через голову Федора, будто не видит его и не слышит. Затем глухо говорит:
– Я все знаю. Ты опоздал, Федор... На восемь лет опоздал.
Круто поворачивается, отходит от окошка и исчезает за перегородкой купе. Федор стоит на перроне, ссутулившийся, беспомощный, не испытывая никакого облегчения от того, что он теперь вполне освободился от тайны, его угнетающей, мешающей жить. Может, только сейчас и начинается для него настоящая казнь?.. В ушах звенит, как звенело когда-то на фронте, когда его стальную каску осыпал мелкими камнями недалекий взрыв снаряда... Но почему же Виктор уезжает? Почему?.. Значит, Валентина решила... Нет, этого не может быть! Неужели Федор вместо тяжкой кары получит вдруг не ворованное, а настоящее, добровольно узаконенное счастье?..
На тоненькой и ненадежной струне, как на осенней степной паутине, в его сердце зазвучала надежда.
48
Лиза вбежала на Верину половину возбужденная, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Во всем ее облике просвечивало тревожное нетерпение. Вера, что как раз мыла пол, бросила влажную тряпку и, держа грязные руки подальше от короткого ситцевого халатика, который крепко стягивал ее в талии, молча повернулась к сестре. Она сразу поняла – случилось что-то чрезвычайное. Иначе Лиза не позволила бы себе переступить ее порог.
– Вера, мне надо...
Лиза как-то сразу вроде увяла, румянец растаял на ее щеках, решительность, с которой она начала разговор, исчезла.
– Ну, говори... Что тебе надо?
Лиза опустилась в кресло. Вера заметила в Лизиных ушах маленькие дешевые сережки. «Ага, заговорила и в ней женская природа!.. Нет, сестричка, от этого никуда не спрячешься. Может, именно от этого и все наши беды...»
– Домывай пол, – переведя дыхание, сказала Лиза. – Потом скажу...
Вера наскоро вытерла влажной тряпкой пол, тряпку выкрутил над ведром. Затем вынесла ведро в сени, помыла руки, вернулась в комнату. Привычными движениями расчесав волнистые волосы и слегка припудрив лицо, села на диване, поджав под себя ноги.
– Я слушаю.
А Лиза все еще не решалась заговорить. Затем покраснев, робко спросила:
– Где живет эта врач?..
Вера круто повернула к ней золотистую голову, бронзовые брови дрогнули.
– Какая?
– Та, что в прошлом году к тебе приходила... Ну, понимаешь... Мне надо.
Если бы Лиза сказала, что кто-то воскрес из мертвых и она это сама видела, Вера так не удивилась бы, как ее вопросу о враче. Вера смотрела на сестру озадаченно и почти испуганно. Неизвестно зачем одернула на коленях полу серого ситцевого халата, затем разогнула босые ноги, опустила их на сырой пол. Пальцы ног блеснули оранжевыми следами старого педикюра, уже, видимо, с полмесяца не возобновлявшегося.
– Как же это?.. Кто?.. Лизка!..
В ее вопросе прозвучало столько неподдельной тревоги и сожаления, что Лиза снова покраснела. Ответила сдержанно, холодновато:
– Не спрашивай ничего. Не скажу. Дай адрес, если твоя милость.
А Вера действительно была глубоко обеспокоена неприятностью, которая случилась с сестрой. Прислушавшись к звону в груди, подумала: «Странно. Переживаю, как будто это мое собственное горе. И ни капли радости, что и Лиза теперь не святая». На этот раз в ее тревоге за судьбу сестры было что-то материнское. Хоть они и ровесницы, близнецы, но Вера имела значительно больше женского опыта, чем Лиза, и поэтому чувствовала себя старше ее, а сестру еще недавно считала желторотой девчонкой. Сейчас ей было грустно и жалко, что Лиза потеряла ту девичью неприкосновенность и чистоту, к которой Вера относилась раньше с насмешливым превосходством, с холодным презрением. Как бы после этого ни сложилась ее жизнь, но что-то было не так, как надо, – меньше святости, меньше чистоты. Кто же он?.. Может, он и не откажется от нее, может, все будет хорошо?.. Но зачем тогда врач?..
Вера склонилась к Лизе, взяла ее за плечи, притянула к себе.
– Признайся.
Лиза сердито отбросила ее руки, гордо встряхнула головой:
– Нельзя сказать?.. Не надо. Найду сама.
Встала, пошла к выходу. Вера метнулась за ней, стала в дверях, раскинула руки, загородила ей дорогу.
– Подожди! Сядь... Я ничего не буду спрашивать.
Лиза села на диван, косясь на сестру. Округлые шарики сережек из дутого золота едва поблескивали из-под пушистой, легонькой спиральки, упавшей на ухо с разрыхленных волос. Она была красивой и в своей напряженной грусти.
Вера подошла к ней, села рядом.
– Я не могу дать адрес. И если бы даже дала, она тебя не примет. И потом... – Вера печально прищурилась. – Это дорого стоит. Особенно для здоровья. Зачем тебе?.. Разве он отказывается от брака? Не хочет?..
– А может, я не хочу?.. Оставь. Не надо спрашивать.
После некоторых колебаний Вера сказала:
– Ну, вот что... Пойдем вместе. Это не так просто. Мне она доверяет.
– Ты меня познакомишь и выйдешь. Хорошо?
– Ладно.
Через полчаса сестры входили в затененный угол улицы. Большие красноликие яблоки, как загоревшие на первом солнце бритые головки младенцев, приветливо выглядывали из широких проемов деревянного лестничного забора. Вера подошла к зеленой калитке, вложила руки в широкую проволочную петлю, свисающую над забором, с силой трижды дернула. За забором, у кирпичного дома под зеленой жестяной крышей, что-то глухо застучало, потом послышался пронзительный собачий лай. Куры во дворе с пугливым криком бросились врассыпную. С неприятным скрежетом волоча по привязанной между яблонями проволоке тяжелую железную цепь, к калитке широкими прыжками побежал высокий сильный пес с рыжей шерстью. Проволока глухо звякнула, цепь натянулась, пес затоптался на задних лапах, захлебываясь от дикой ярости, задыхаясь от ошейника, врезавшегося в его рыжее горло.
От всего – от зеленой калитки, от старого дома под яблонями, от допотопной проволочной колотушки и, особенно, от этого рыжего цепного пса – на Лизу повеяло чем-то чужим, незнакомым, давним-давним и очень страшным.
В голове Лизы мелькнуло: «Скорее, скорее отсюда!»
Она едва слышно произнесла:
– Пойдем домой... Я передумала.
– Как же так? – Беспокойно спросила Вера.
Лицо ее было бледно, – видно, волновалась не на шутку. Лизе стало ее жалко, она призналась:
– Я не для себя... Не волнуйся. Со мной такого не случится.
Вера аж подпрыгнула от радости:
– Правда?! Ну, разве так можно?.. Ой, Лизка!
Сжала Лизу в объятиях, радостно, искренне поцеловала ее в потный от нервного напряжения лоб. Вера была рада, что Лиза избежала той тернистой, запутанной тропы, по которой она недавно ходила сама.
Между тем Лида и ждала, и боялась прихода подруги.
Это она уговорила ее найти врача, а теперь сама ругала себя за это. Лида не знала, что ей делать, не знала, что хорошо, а что плохо... Под сердцем билась, трепетала новая жизнь, и каждый удар вызывал на ее лице то радостную улыбку, то болезненные слезы. Лицо ее побледнело, глаза остро поблескивали, маленькие смуглые кулачки сжимались до боли в пальцах. Она еще недавно радовалась тому, что кончается ее вдовья жизнь, что у нее есть муж, красивый, умный, сильный, и ей не придется быть одинокой. Она мечтала свить, наконец, свое гнездо, встречать мужа с работы, готовить ему вкусные обеды, вышивать рубашки, гладить носовые платки, костюмы, белье! Как она любила этого человека!..
А может, это и хорошо, что в ней бьется новая жизнь?
Она родит ребенка, она не будет одинокой. Она уже полюбила это неизвестное маленькое существо. Вся сила ее естественной нежности направлена теперь на того, кто так неспокойно стучит ножкой в живот. Кто – мальчик или девочка? Смуглое или русое?.. Хоть бы смуглое. Хоть бы. Чтобы походило не на него – на нее. Какая горькая ирония судьбы – ребенок от врага...
Но не надо думать об этом. Твой и только твой ребенок. Он будет носить твою фамилию. Ты ему никогда не скажешь, кем был отец. Никогда. Когда он подрастет и появится опасность, что кто-то может ему об этом сказать, ты скорее бросишь этот город, уедешь куда угодно, но не позволишь, чтобы правдой об отце отравили его сердце. Тебе трудно, Лида. Тебе станет легче, когда ты узнаешь, что он наказан. Тебе станет легче от того, что справедливая рука, заносящая над ним меч правосудия, отомстит и за твои горькие вдовьи слезы, за глубокие раны твоего сердца.
А другой голос требовал – нет, не следует оставлять!.. Разве тебе хочется всю жизнь казниться, вспоминая о том, как жестоко ты была обманута?.. Ты будешь идти по улице, ведя за руку ребенка, а за твоей спиной люди будут показывать пальцами на невинное дитя и шептать: «А знаете, чье оно? Солода!..» Нет, даже это не так страшно, как то, что ты сама этого вовек не забудешь. И разве ты первая или последняя решаешься на аборт?.. Да может, ты еще будешь счастливой, может, встретишь человека, с которым отдохнешь сердцем, и все, что ты переживаешь сейчас, станет далеким-далеким, как одинокая темная туча, отогнанная теплым южным ветерком за грань горизонта...
В окно постучали. Конечно, Лиза!.. Дрожащими руками отодвинула щеколду на двери, впустила подругу. Одними глазами спросила ее о том, о чем так неприятно говорить. Лиза, опустив глаза, ответила коротко:
– Нет, не нашла. Она уехала...
Лиза ждала от Лиды слез, нареканий, криков. Как же она удивилась и обрадовалась, когда заметила, что у нее лицо вдруг прояснилось, а потом Лида открыла дверцу шкафа, достала оттуда недошитую крохотную детскую распашонку и молча села за машинку.
Не зная, каким образом выразить свое удовлетворение, и боясь его высказывать вслух, чтобы снова не возвращаться к неприятному разговору, Лиза неожиданно сказала:
– Давай помою пол... Тебе же трудно самой.