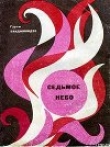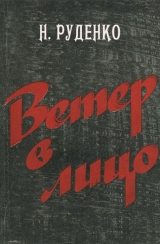
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
36
Пароход шел вниз по Днепру. Сзади остались киевские горы, колокольни Печерской лавры. Вечерело. Синие сумерки наплывали на берега. На палубе девушки завели песню.
Стоїть гора високая,
А під горою гай...
Легко очерченные контуры лесов то подступали к самым берегам, то удалялись, подпирая синий купол вечернего неба. Берега неожиданно расступались, открывались спокойные плесы больших заливов, которые так густо заросли широкими кувшинками, что, казалось, по ним можно пройти от берега до берега, не касаясь босыми подошвами темной воды. А между кувшинками белели, освещенные луной, перламутровые головки лилий.
В пятидневной командировке Валентина была с Олегом, и теперь они возвращались из Киева домой на пароходе. Она надеялась, что поездка на пароходе успокоит ее крайне расшатанные нервы.
Но ей трудно было избавиться безрадостных мыслей. Они не покидали ее нигде.
Валентина не смогла бы объяснить, почему ее неприятно поразило то, что Сотник думал об интенсификаторе даже в больнице. И не только думал, – нашел правильный ввод его в мартеновскую печь. Ведь это оказалось главным!..
В Киеве ей удалось подробно поговорить с известным академиком. Ученый внимательно ее выслушал и согласился с предложением Виктора, о котором она рассказывала ему с ревнивой точностью. Но огнеупоры!.. Где их взять?..
В том, что Сотник оказался равнодушным к ней и удивительно внимательным к ее работе, было что-то оскорбительное, унизительное. Это как будто подчеркивало, что он относится к Валентине с благоразумной доброжелательностью, не больше.
Потом подумала: «Я обвиняю Виктора. А в чем он виноват? Он знал, что я вышла замуж, и поэтому не приехал. Значит, виновата во всем я, а не он. Откуда он знал? Когда узнал?.. Да разве в этом дело!»
Валентина склонилась на перила палубы. Веяло прохладным ветерком. Палубные фонари освещали ее стройную, почти девичью фигуру. Олег мечтательно смотрел на воду, что бушевала за кормой и, освещенная пароходными фонарями, переливалась красными, голубыми блестками. Вокруг, ближе к берегам и в ночном небе, усыпанном звездами, стояла такая синева, которую способен был изобразить на полотне только Куинджи.
– Мама! Посмотри, что это?.. – Воскликнул Олег, протянув руку за перила палубы.
Под берегом, на воде, на больших заякоренных лодках, стояли три деревянных домика, возле которых медленно вращались крылатые колеса, похожие на колеса мощного парохода, только значительно больше, массивнее. Каждая мельница стояла на трех лодках: на двух аккуратный домик с жерновами, а на третьем крепилась ось продолговатого деревянного колеса с широкими лопастями. Мельницы можно было буксировать вверх и вниз по течению, устанавливать где угодно, выбирая самую мощную быстрину. Когда на землю падала первая изморозь, их разбирали и перевозили в деревню, а по весне, как только Днепр после разлива входил в берега, снова ставили на воду...
Валентина не впервые ездила Днепром, не впервые их видела.
– Это мельницы, сынок.
– А-а, знаю!.. На них муку делают.
Валентина улыбнулась. К мельницам, облитый лунным сиянием, подскакал всадник, легко соскочил с коня, снял уздечку, а лошадь пустил в высокие луговые травы. Олег завистливо следил за каждым его движением. Как ему сейчас хотелось проскакать самому на таком же быстром коне!..
Долго они стояли на палубе, вслушиваясь в шум воды за кормой.
Олег вынес серый шерстяной плащ, подал матери.
– Еще простудишься, – серьезно сказал он, как будто разговаривал не с матерью, а со старшей сестрой.
Валентина прижала его к груди, положила руку на короткие, взъерошенные волосы. На палубе, под синим-синим небом, какое бывает только над морем и над украинскими степями, пели девушки. Они, видимо, не слишком вдумывались в слова песни, потому что рано им еще прощаться с молодостью. Но пели дружно, хорошими голосами:
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона.
Девушки не думали о том, что к их песне прислушиваются не только на пароходе. Песня будила рыбаков, они выходили из палаток и шалашей, спускались к воде, черпали из Днепра пригоршнями, плескались себе на лицо, на грудь, на спины. А потом провожали глазами освещенный десятками окошек пароход, что вез по Днепру в тихой синеве августовской ночи девичьи песни.
Над самой водой у потухающего костра сидели Макар Сидорович и старый Сидор Доронин. Песок был теплый, как нагретая лежанка. Дедок дремал, положив под голову дорожную сумку. А Макар Сидорович сидел на широком пне, ковырялся сухой веточки в угасшем костре. Песня разбудила старика. Он поднял голову, прислушался.
– Поют, – мечтательно сказал он. – Как на вечеринках.
Старику вспомнилась далекая молодость, холостяцкие рождественские гулянья и молодецкое веселье в ночь на Ивана Купала. Никто не умел так смело прыгать через высокие языки пламени, как он, Сидор Доронин, сын курского крестьянина, что приехал на Украину искать счастья. Все нашел его отец – дружбу, теплую человеческую заботу, нашел для украинского села даже родники в степи и выкопал колодец. А счастья не нашел, потому что на этой богатой земле люди были такими же бедными, как и на курской. Нет, видимо, это не так – нашел и счастье. Бывший курский крепостной женился на бывшей полтавской крепостной, у них родился сын. А разве это не счастье? Пусть даже куска хлеба в доме нет, и сын – это большое счастье. Можно побежать к соседям, выпросить кусок, чтобы завязать в полотняную тряпку, тщательно пожевать и поднести к его маленькому ротику – пусть сосет, пусть набирается силы земной, потому что она, мать-земля, любит человеческую силу, любит человеческий пот.
Долгую жизнь прожил Сидор. Вырастил и он сына. Топтал босыми, окровавленными ногами кулацкие тока, чтобы заработать мальцу на сапоги. И никто не может сказать, что его Макар не имел сапог на праздник. Учил сына – праздник закончился, разувайся, сапоги вешай в доме на колышек, на самом почетном месте. Разве есть лучшее украшение для дома, чем хорошие хромовые сапоги?.. А сам, как и раньше, ходил босиком. Ничего, не большой пан. Разве ему привыкать? Только бы сыну не пришлось ходить без сапог. Может, и он когда-то вспомнит отца и справит ему на старость сапоги?
А когда подрос Макар, – отдал его к сапожнику. И каким же он был счастливым, когда сын принес ему пошитые собственными руками настоящие юфтевые сапоги!.. Это было лет сорок назад, когда Макар был почти подростком. С тех пор Сидор не ходил босиком – сын приучил его ходить обутым даже в будни. Только не изменилась у старика давняя привычка – вешать сапоги в доме, на почетном месте. Живя у Макара, он никак не мог понять, почему нельзя вешать сапоги над кроватью, над самой головой? Разве он позволит себе зайти в дом в грязных сапогах? Чистые они, чистые... Он даже обижался на Катю – не понимает она жизни. Не понимает, что у человека есть две мечты, две святыни – хлеб и сапоги. Кто же посмеет держать под кроватью хлеб? А сапоги, значит, можно...
Как только Макар Сидорович пошил ему новые сапоги, старик уже не мог усидеть в городе.
– Пойдем, Макар. Пройдемся. Проведешь меня. Может, последние ношу.
– Папа, – уговаривал его Макар Сидорович. – Да близкий ли это путь? Давайте я вас подвезу.
– Э-э, нет. Пятьдесят верст – это не дорога.
А когда сын начал настаивать, – старик обиделся:
– То счастье, что легко достается, – не счастье. Твой дед перед смертью в Киев пешком ходил. – А потом добавил, хитро прищурившись: – Да ты что, с отцом стесняешься пройтись? Спрятать хочешь в свой блестящую ящик на колесах? Чтобы люди меньше видели. Да?..
Макар Сидорович понял, что ему не переубедить старика. И вот они заночевали на берегу Днепра, как ночевали когда-то паломники, идя в Киев.
– Чего не спишь, Макар? – Спросил старик. – Песок теплый. Ложись, кости погрей.
– Не хочется спать, папа. О своем думаю.
– Меньше думай. А то как бы голову не испортил... Знал я одного очень грамотного человека. Как он той грамоте умел! Как напишет бывало, так те буквы, что хмель, вьются. Писарем в волости служил... А вот же таки испортил голову. Голым по селу ходил. Собственного черта искал. Всем хвастался, что у него есть собственный черт... Смотри, Макар.
– Ничего, папа. Я чертей не боюсь, – улыбнулся Доронин.
– Да оно как-то меньше о них слыхать теперь. И чего бы это?..
– Подохли, – ответил Макар Сидорович. – Люди стали лучше. Меньше тех, кого можно на сковородке жарить. На нашей земле, конечно.
– А может, потому, что теперь сковородкой не испугаешь? – Серьезно спросил старик. – Что для вашего брата горячая сковородка или котел со смолой? Детские игрушки. У вас не такие котлы, да и то не боитесь. А мне страшно было... Радостно и страшно. Смотрю и думаю – рай или ад? Но только не ад, а пожалуй, рай. Стоит с кочергой, его искрами со всех сторон осыпает. Как сияние на Николае-чудотворце. Святой и все. А потом тот святой как захохочет, как скажет слово... Словно казак с Хортицы. Тогда уже и на черта похож. Того и гляди, чтобы той кочергой не задел за ребро да в котел не бросил.
– Да, – смеялся Доронин. – Работа у нас горячая. И люди горячие.
– Поэтому, наверное, и чертей меньше. Жарко стало. Разбежались. А раньше спасения от них не было. Куда ни пойдешь – везде тебя черти подстерегают.
На воде у ивы что-то захлюпало. В синеватой дымке между кустами поднялась высокая фигура.
– Свят, свят, свят, – перекрестился Сидор... – Сгинь, нечистая сила!
– Что вы, дедушка? – Засмеялся рыбак, подходя к костру. – Я, может, чистейший человек в мире. День и ночь в воде кисну. Закурить нет, товарищ? – Обратился он к Макару Сидоровичу.
На рассвете старому захотелось арбуза. Арбуз лежал в сумке. Начали искать нож. Где же он запропастился? Доронин пошел к рыбакам. Но их не так-то просто найти. Кусты густые, ивы ветвистые, дуплистые. Подошел к воде, пригнулся. Увидел над водой удилище. Раздвигая руками влажные от росы лозняки, пошел вдоль воды. Солнце еще не взошло, но небо и вода уже порозовели. На самом горизонте из воды поднимались в небо розовые мечи. Облака зарделись, что девушки, увидевшие красивых парней. А может, и правда сейчас выйдут из воды двенадцать сказочных великанов? Может, они подняли над водой свои богатырские мечи, а сияние вокруг – от их золотых щитов, которые также вскоре появятся над поверхностью воды? Вон уже поблескивает округлый кончик щита. Он становится все больше, больше...
Какой же красивый, какой богатый этот мир! Жить бы и жить, не зная ни старости, ни смерти. И неудивительно, что отцу так захотелось пройтись по днепровским берегам, подышать свежим ветерком, послушать плеск волн, увидеть восход солнца.
Доронин счастлив, что имеет отца. Старого, неграмотного, но светлого, мудрого. Макар Сидорович уже начал разменивать шестой десяток, но его до сих пор не покидало ощущение молодости. Есть у него отец, человек старше его, более мудрый, опытный. Если он даже не сможет ничего посоветовать сыну, все равно сердцем разделит с ним все его заботы.
Как он любил мальчиком колени отца! Макару казалось, что, если бы перевернулся весь мир, эти колени все равно держали бы его надежно, неподвижно. Нет ничего более надежного, чем они... Нет ничего сильнее отцовых рук. Нет ничего светлее улыбки отца. Когда отец смеялся, Макару было весело, радостно. Когда отец сердился – он бессмысленным взглядом смотрел на него, ему становилось страшно. Но даже в гневе он любил отца не менее, чем тогда, когда тот клал руку ему на голову.
Мать Доронин потерял рано. Отец заменил ему и мать, и сестру, и брата, которые умерли от холеры, когда Макару было семь лет. Отец связывал Макара с чем-то далеким, но бесконечно родным. В том далеком жили и трудились порабощенные, но непокоренные крепостные – дед, прадед. Они ходили с вилами на французов, а потом жгли имения своих господ... То далекое было близким и понятным Доронину, как был близким и понятным его родной отец...
Макар Сидорович попросил у рыбака нож и, выбирая, где кусты не такие густые, поспешил назад. Когда он подходил к тому месту, где сидел отец, невольно улыбнулся. Ну, конечно, нож старик положил себе за халяву, а потом забыл! Вот он сидит, прижавшись спиной к пню, держит в руке нож, а на его коленях лежит разрезанный пополам арбуз. И такой красный, как жар. Будто его действительно просвечивает кто-то изнутри. Белая голова отца откинулась назад, белая борода поднялась над грудью, а на устах – счастливая улыбка. Глаза закрыты. Розовое лучи утреннего солнца наложили свои оттенки на бороду, на руки. Или то арбуз так светится на коленях у старика?..
Макар Сидорович подошел ближе. Глядите, заснул и так неудобно. Заговорил он ночью отца, не дал поспать. Как же его положить, чтобы не разбудить? Ничего не получится. Еще испугается, если вдруг проснется. Лучше уж разбудить...
Подложил ладонь под затылок, поднял белую, с розовыми тенями на волосах отца голову.
– Папа!.. Папа!..
Старик молчит. Видно, крепко заснул.
– Папа!..
Доронин берет его за плечи, легонько трясет.
– Проснитесь, папа...
Тело старика легко поддается его рукам. Доронин берет отца за сухую с узловатыми пальцами руку, пытается нащупать пульс. То ли он забыл, как находить пульс, то ли действительно пульса нет?.. Внезапная догадка сжала его сердце в холодных железных тисках.
– Папа!!
Поднял отца на руки. Легкий, как подросток. Легкий и неподвижный. Так вот она, смерть!..
Разрезанный надвое арбуз остался лежать у широкого ивового пня. Отец его только разрезал, даже не попробовал. Тихо шелестела над водой старая ива. Где-то недалеко, за кустами, позвякивали железными путами лошади. Прозвучало и затихло тоненькое ржание жеребят.
За поворотом реки пересвистывались рыбаки. Видимо, звали своих товарищей с противоположного берега.
Доронин с телом отца на руках вышел из чащи на открытый берег, встал у самой воды. Лучше бы он не кончал ему эти сапоги!.. А старик улыбался. К кому? К сыну, к солнцу, что уже наполовину показалось из фиолетовой воды, или к своим последним мыслям?..
Макара Сидоровича заметили рыбаки, что, снуя на вертлявых «душегубках» по Днепру, то тут, то там ставили переметы. Подплыли к берегу, сошли на песок, сняли фуражки, склонили головы.
– Своей смертью, значит, – сказал один из них, босой, в закатанных до колен штанах, с остробородым лицом.
– А куда же вам надо? В город? – Спросил другой, усатый, высокий, с веслом в руках.
– Нет, – тихо ответил Доронин. – В Грачи. Там просил похоронить. В родном селе.
– Далековато, – покачали головами рыбаки. – Против течения.
А лодок собиралось все больше и больше. Вскоре их стало столько, что трудно было сосчитать. И некому было считать. Всех взволновала необычная и такая простая, естественная смерть старика, который прожил почти целый век. А Доронину казалось, что порвались те ниточки, которые связывали его с прошлым, с детством, с землей. Не движется рука, державшая эти ниточки в крепко сжатом кулаке. И если был в эти минуты на земле самый несчастный, беспомощный человек, то это именно он, Доронин.
– Так что же, Василий?.. Может, подвезем? К вечеру управимся.
– Далековато.
– Ничего.
Рыбаки переговаривались между собой, советовались, а Доронин, опершись спиной о ствол ивы, стоял с телом отца на руках. Солнце, большое, красное, как медный щит богатыря, взошло над Днепром. А где же сам богатырь?..
Двое рыбаков, расталкивая веслами лодки, подплыли на своих маленьких остроносых корытцах к берегу. Один из них наломал ивовых ветвей, бросил на дно. Затем принес из-за кустов охапку сена, настелил сверху. Прыгнул на берег и, оставляя от босых ног пятипалые следы на влажном песке, молча подошел к Доронину. Не спрашивая разрешения у Макара Сидоровича, подложил руки под спину и под полусогнуты колени покойника, поднял его, прижал боком к животу и понес к своей лодке.
– А вы садитесь ко мне, – сказал усатый рыбак, стоящий в другой лодке.
Вскоре Доронин плыл на лодке к розовому, залитому утренним солнцем горизонту. А на другой лодке, идущей рядом лежал его старый, белобородый отец и улыбался синему утреннему небу. Несколько рыбацких лодок, как почетный эскорт, сопровождали эту траурную процессию. Этот эскорт возникал стихийно – никто из днепровских рыбаков не мог удержаться от того, чтобы не проплыть несколько сот метров за лодкой покойника.
Отставали одни, подплывали другие. Снимали шапки, кланялись. Эскорт менялся незаметно – по одной, по две лодки. Уже давно отстали те рыбаки, которые сопровождали лодку с покойником в начале. Но количество лодок не уменьшалась. Мимо проплывали пароходы, буксиры, баржи. Люди выходили на палубу, снимали шляпы и стояли неподвижно, пока лодки не исчезала среди белогривых днепровских волн.
Солнце уже поднялось высоко. А процессия все плыла, плыла, то приближаясь к зеленым берегам, то выходя на фарватер.
Доронин смотрел на людей влажными благодарными глазами. Что им сказать, как их отблагодарить?.. Ведь они никогда не видели его и больше не увидят. И он их никогда не встретит. А если и встретит, то, наверное, не узнает – десятки лодок, десятки людей переменились за дорогу.
И от теплого сочувствия незнакомых людей ему стало легче на сердце. Спасибо вам, люди. Спасибо честным рукам и сердцам вашим.
37
Когда Солод закончил бриться, в дверь постучали. Нет, это была не Лида. С Лидой он условился, чтобы она стучала трижды. Никто другой к нему не заходил. Кто же это?.. Руки задрожали, с помазка на умывальник упала мыльная пена. Он наскоро умылся, вытер лицо, подошел к двери. Открывать не решался. Постучали снова. Стук был нервный, беспорядочный. Нет, это, кажется, не те, кого он боялся. Те стучат уверенно, настойчиво, как и полагается хозяевам положения... Взяв дверь на цепочку, повернул ключ. Двери, сдерживаемые цепочкой, отклонились на несколько сантиметров. В щель заглянуло сплюснуто лицо Сороки.
– Иван Николаевич!.. Это я. Откройте.
Солод, сердито хлопнув дверью, впустил бухгалтера. Сорока снял грубый плащ, который шелестел так громко, как будто в каждой его складке трещали электрические разряды. Лицо было виноватое, растерянное.
– Что случилось?.. Я же запретил тебе заходить ко мне... Без уважительных причин.
Сорока не ответил. Прошел в комнату, сел на диване. Солод обратил внимание, что ботинки у бухгалтера зашнурованы через один глазок. Брюки на коленях топорщились. Нос фиолетовый, как у каждого пьяницы. Он почти упирался своим острым кончиком в поднятый подбородок. На голове – седой ежик.
– Причина весьма уважительная, – заговорил наконец Сорока.
– В чем дело? – Нетерпеливо воскликнул Иван Николаевич. – Не мог по телефону предупредить?
Сорока рассеянно посмотрел на телефонный аппарат, стоявший на письменном столе, потом на часы. Было девять вечера.
– Ну, рассказывай! – Приказал Солод. – Что там у тебя? Новая ревизия предвидится?
– Хуже, – процедил Сорока. – Вернулся Козлов.
Это известие потрясло Солода. Ивану Николаевичу так легко удалось избавиться от этого неприятного однополчанина, что он даже не думал о возможности его возвращения. И это странно, потому что Иван Николаевич в последнее время встречал людей, несправедливо осужденных прислужниками Берии. Они возвращались домой и были реабилитированы полностью, безоговорочно. Солод не знал, ненавидеть их или сочувствовать. Он считал, что стоит в стороне от этих событий и они его мало касаются. Но сейчас, когда он услышал о Козлове, ему стало понятно все его легкомыслие.
– Когда? – Пытаясь овладеть собой, спросил Солод.
Как и всегда в таких случаях, он сразу же прикинул, чем ему грозит возвращение Козлова. В прямом смысле – ничем. Ни одно из писем, посланных в КГБ Сорокой и Солодом, не было подписано. Но Козлов, конечно, не мог не догадаться, чья это работа. Однако догадки – это еще не доказательства.
– Сегодня был у Голубенко. Оставил заявление о восстановлении на работе. Завтра это заявление попадет к вам. Уже с резолюцией Голубенко.
Солод поднялся с кресла, одернул халат, широкими шагами заходил по комнате.
– Нет!.. Только не это. Восстановить его на работе – это значит вернуть в коллектив. Тогда труднее будет убрать. Поднимется переполох... Ни в коем случае!
– Но Голубенко не имеет права отказать, – робко заметил Сорока.
– Это еще мы увидим. Козлов должен исчезнуть... Немедленно. Провалиться сквозь землю. Затонуть. Что угодно... Тебя не учить. Ясно?..
Солод снял трубку, позвонил на завод.
– Коммутатор? Кабинет директора... Это ты, Федор? И сегодня, значит, засиделся? Подожди меня полчаса. Я тоже сейчас приеду... Работы до черта. Ладно?..
Солод снял халат, бросил на диван, едва не накрыв им Сороку. Надел костюм, макинтош и выбежал из комнаты. Прощаясь с Сорокой, сказал:
– Продумай это дело. Затем обсудим.
Когда он зашел в кабинет директора, Федор сидел за столом, просматривал какие-то бумаги. Воротник рубашки у него был расстегнут, узел галстука опущен ниже, чем обычно принято. Вытерев платком потное лицо, устало взглянул на Солода.
– Хорошо, что ты пришел. Садись. Это по твоей части. Нам надо искать другие материалы для упаковки листовой стали. Горовой звонил из больницы. Сотник обратил внимание... И правильно. Бракованный прокат нам самим нужен. Это же лом...
– Какие другие? – Неохотно спросил Солод, придвигая кресло ближе к столу. – Я не вижу других.
– Ну, например, прессованная бумага. Размеры у нас стандартные. Можно изготавливать прочные чехлы. Это будет защищать от коррозии.
– А кто же их будет производить?
– Поставим вопрос перед министерством. Я поручаю это дело тебе.
– Ну, что же, – уклончиво ответил Солод. – Выясню возможности. Свяжусь. Затем проинформирую.
Он закурил, прошелся по ковру, что покрывал почти весь пол.
– Ты очень устал, Федор Павлович. Не стоит тебе засиживаться.
– Не устал, а взволнован... Понимаешь, приходил Козлов. – Федор вышел из-за стола, сел на диван. – Он мне запомнился еще тогда, в первый раз... Запомнился своей укороченной ногой. И открытым взглядом. Я, между прочим, тогда подумал: такие, как он, были надежными друзьями на фронте. Лицо у него такое, что сразу веришь. А потом вдруг арестовывают. Враг. Это меня глубоко поразило.
– А ты думаешь, – перебил его Солод – у врага рожки на голове должны торчать? По лицу не суди...
– Да нет. Я не об этом... Ты его помнишь?
– Ну конечно. Он ко мне приходил.
– Помнишь, какая у него была шевелюра?.. А сейчас лысый. Постарел. И как тут не состариться?.. Ты шел на смерть за Родину, а тебя обвиняют в страшном – в измене. Ужасно! Только сейчас нам стала понятна вся мера мерзости этого урода Берии.
Федор подошел к окну. На шлаковой горе вспыхнуло; зарево разрослась, покрыло густым багрянцем полнеба. Выливали шлак. В свете зари еще четче вырисовывались контуры домен, высокие трубы мартенов, стоявших на равных расстояниях друг от друга, огромный корпус со стеклянной крышей – прокатный цех. Федор достал из папки листок, протянул Солоду.
– Вот его заявление. Оформляй.
Солод просмотрел заявление, положил его на стол перед Федором.
– Удивляюсь я тебе, дружище. – На лице Ивана Николаевича задрожала снисходительна улыбка. – До седин дожил, а все таким же сентиментальным и легкомысленным остался... Кому нужна эта поспешность?
Федор бессмысленно взглянул на Солода.
– Ты о чем?
– О заявлении Козлова. Уже и резолюция готова – «оформить». А со мной ты говорил?
– Я не предполагал твоего возражения... Разве ты против?
– Сядь. – Солод показал на кресло. Федор покорно сел, а Иван Николаевич продолжал: – Нельзя жить только минутными эмоциями. Разжалобил! Несчастный... Может, он действительно – жертва. Но учти – там тоже могла случиться ошибка, а ты сразу – «оформить». К народным ценностям приставляешь. Куда это годится?
Федор покраснел, порывался что-то сказать, но Солод не хотел и слушать. Он говорил о бдительности, о высокой ответственности перед государством за каждую народную копейку, за каждый гвоздь.
– Ты знаешь... – перебил его Федор. – Типичный случай перестраховки. Пойми – реабилитирован полностью!.. Нельзя издеваться над человеком. Он – солдат, инвалид войны. После войны такая моральная травма. В конце концов, он имеет право работать спокойно, как все.
– Имеет. Это ясно. Но не надо пороть горячку. Надо подумать.
– А что тут думать?.. Человек был оболган. Правда победила... Почему же ему не доверять?
Солод подошел к Голубенко, положил на плечо жилистую руку. Федор знал эту привычку Ивана – именно сейчас начнется самое главное.
– Слушай. Я всегда заботился о тебе. Может, даже для себя того бы не делал. И мне очень важно, как ты начнешь первые шаги на посту директора... Понимаешь? Дружба заключается в том, чтобы не позволить товарищу совершить ошибку. И ты должен мне довериться. Я вижу, что тобой сейчас руководит жалость к человеку, а не трезвый ум. Именно поэтому и предупреждаю... Учти это. Подумай...
Федор выпрямился, снял с плеча его руку.
– Я – не малолетний королевич, а ты – не регент. Мне не нужна эта мелочная опека.
Иван Николаевич отошел к самой двери, заложил руки за спину. В глазах появился злой, холодный блеск.
– А я вижу, что пока нужна! – Воскликнул он, нервно хрустя пальцами. – Не позволю! Какой угодно ценой... Даже...
Федор схватил Солода за борт пиджака.
– Что «даже»?.. Что ты хочешь сказать?
– Ты меня понял правильно.
– То есть?
– То есть сядь и подумай. И не горячись.
Солод взял его за плечи, как больного, посадил в кресло. И уже спокойнее добавил:
– Ну, перестань... Не ссориться же нам из-за какого-то Козлова. Кто он тебе?
– Солдат. Бывший солдат.
Голова Федора опускалась все ниже, как это всегда с ним бывало, когда он терял решительность. Солод нависал над ним, говорил на ухо:
– А я кто?.. А ты?.. Все мы солдаты. Поэтому и должны заботиться о бдительности. Знаем цену ротозейству.
Федор поднял голову, посмотрел в глаза Солоду.
– Скажи мне... Только честно. Почему тебе мешает Козлов?
– Не мешает. Пойми правильно. Просто боюсь неприятности.
– Это честно?
– Ну, что за вопрос?.. Конечно.
Федор протянул руку к столу, достал заявление.
– Как же быть? Исправлять неудобно... И потом, я же при нем подписал... заверил его.
– Подожди...
Иван Николаевич достал из письменных принадлежностей ластик, ловкими движениями стер резолюцию, написанную красным карандашом.
– Только бы и хлопот.
Федор склонился над бумагой, подумал, потом написал размашисто, с силой нажимая на карандаш – «отказать». Молча передал бумагу Солоду и, когда тот выходили из кабинета, грустно, укоризненно сказал:
– Плохо, что ты напоминаешь мне о...
– Да кто же напоминает?.. И не думал. Тебе показалось.
– Правда? – Быстрее переспросил Голубенко. – Возможно, действительно показалось. Ну, не беда. Устроится в другом месте. Объясни ему так, чтобы он ко мне не заходил. Стыдно...
Водитель догнал их у проходной. Федор шел сбоку, на некотором расстоянии от Солода. Когда фары машины осветили Ивана, Федор заметил, что от его фигуры падает двойная тень на побеленную стену заводской ограды. Тень раздваивалась, начиная с ног, расходилась острым углом, упиралась своим острием в землю. А когда свет фар упал на Федора, от него, как и от Солода, легли на стену две тени. Одна бледная, едва заметная, а другая выразительная, резко очерченная. "Что это? – Подумал Федор. – Может, так и в жизни? Человек с двойной тенью». Ему стало холодно от этой мысли. Втянув голову в плечи, сел рядом с шофером. Солод устроился на заднем сиденье.
– Домой? – Спросил шофер.
– Да, – ответил Федор, размышляя о плохом знаке, так неожиданно возникшем на заводской ограде.