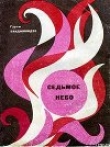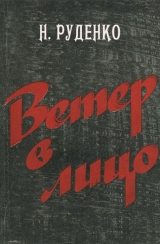
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
– Пожалуйста, – превозмогая волнение, ответила она.
Вышли из экспресс-лаборатории. Валентина долго тыкала ключом, не попадая в щель замка. Наконец открыла дверь, впустила Федора и Виктора в комнату, где они с Лидой уже много месяцев проводили опыты.
Комната была небольшая. Стена, примыкавшая к цеху, сделана из листов толстого железа и окрашена свинцовыми белилами. Остальные стены были каменные. Потолок наклонный, окно закрывалось железными ставнями. В углу стоял массивный сейф. А рядом на столе – большая, значительно больше, чем в экспресс-лаборатории, муфельная печь. Виктор заметил, что конструкция этой печи отличается от обычной.
– Я должен знать, что именно вас интересует, – не глядя на Виктора, сказала Валентина.
Ей трудно было говорить. Чувство боли и обиды в эти минуты отступили. Перед ней стоял тот самый Виктор, которого она ждала и не дождалась. Вот он, рядом. И в то же время значительно дальше, чем тогда, в дни войны, когда он присылал ей на Урал солдатские письма-треугольники с номером полевой почты. Нет, Кузьмич зря назвал ее сердце умным... Вот они, те руки, большие, сильные, с золотистыми ворсинками на пальцах, что подняли ее легко, зажигательно и понесли над ночными просторами. А где-то в недалеком селе колхозный сторож отбивал железной колотушкой удар за ударом... И долго не исчезало ощущение, что ее несут по миру эти руки. Не исчезло даже тогда, когда она считала его мертвым. А когда увидела фото в журнале, ей показалось, что эти руки раскачали ее и бросили в пропасть. Зачем он приехал? Неужели он хочет снова протянуть ей эти руки?.. Нет, он этого не сделает. А сделай он это – она бы решительно оттолкнула их. И у нее вдруг появилось желание поговорить с ним, расспросить о том, как он прожил эти десять лет. Но как это сделать?.. Пригласить его домой? Что скажет на это Федор?.. А назначать тайные свидания не в ее характере. Да еще с ним, теперь...
– Что интересует? – сдержанно спросил Виктор. – Меня лично интересует ваша работа в области интенсификации мартеновских процессов. Да и не только меня. Это сейчас всех интересует. Если вам удалось сделать хоть один шаг, то и это имеет огромное значение.
Валентина открыла сейф, достала большой альбом с чертежами, развернула его и положила на стол.
– Прошу вас.
Она поставила стулья для Виктора и для Федора, а сама стояла у окна, чтобы быть дальше... Виктор посмотрел на нее быстрым взглядом, но тут же повернул голову, начал рассматривать альбом. Федор тревожно поглядывал то на Валентину, то на Виктора, будто боялся, что между ними может установиться молчаливый, понятный только для них разговор.
Сотник долго листал большой, занимавший полстола, альбом с чертежами. Особенно его заинтересовал метод введения интенсификатора в мартеновскую печь.
Валентина следила за каждым его движением. А Виктор листал и листал чертежи. Делал он это молча, сосредоточенно, напряженно следя за тем, чтобы вдруг не вздрогнула рука, и не выдала его. Он впервые увидел их вместе. И если у него не возникло чего-то тяжелого, гнетущего там, в кабинете Федора, то здесь он чувствовал себя человеком, который после утомительной дороги по безводной пустыне подошел к чистому, прозрачному источнику, но не имеет права над ним наклониться, потому что он отравлен..
Все же ему удалось взять себя в руки, сосредоточиться на чертежах. Сказал тихо, с едва заметным дрожанием в голосе:
– Не понимаю. Вы сделали большое дело. Это ясно. А почему не получается на практике... этого не понимаю.
Валентина поправила рукой волосы, и он снова подумал о том, что она зря обрезала косы. Ему стало неловко от этой мысли – ведь он должен думать не о ее волосах, а об ее изобретении, должен помочь...
Валентину волновала и само присутствие Виктора, волновало и то, что он сказал о ее работе. Она пыталась понять, действительно ли он считает ее изобретение чем-то значительным или сказал это механически, думая о другом.
А руки с золотистыми волосинками на пальцах лежали на столе, возле чертежей. Нельзя было не смотреть на них, нельзя было о них не думать. Она отошла от окна, прижалась спиной к железному сейфу. В голубых глазах было столько тревоги, грусти, что Федор невольно подумал: «Хоть бы скорее кончался этот разговор...»
И вот Валентина собралась с силами, спросила:
– Что же вы посоветуете?..
Виктор не вернул к ней головы. Неизвестно зачем снова начал перелистывать альбом. Смотрел он в стену перед собой, как будто именно там и был написан ответ на все вопросы.
– Не знаю, что и посоветовать. Прошу сделать копию чертежей... Заеду к академику Доброхотову. Он – человек большого опыта. Доложу в министерстве. Нужны опыты с участием ученых...
Поднялся, встал у стола, все еще не отрывая взгляда от стены.
– Без участия ученых опыты проводить нет смысла.
Наконец повернулся к Валентине, заметил, что она побледнела. Чтобы успокоить ее, добавил:
– Я верю в успех. Вы можете сделать копии? Для министерства, для института...
Валентина снова покраснела и, видимо, сама заметив это, растерялась. Федор завозился на стуле.
– Могу...
Посидели, помолчали. Было ясно, что разговор надо кончать, но никто из них не решался выйти первым. Наконец Федор поднялся, посмотрел на Валентину и на Виктора.
Виктор подал руку для прощания. Валентина коснулась ее – и оторвала руку, будто ужаленная...
Виктор стоял ошеломленный: что это значило?.. Значит, она к нему не равнодушна? Радостное щемление в его душе смешивалось с тревогой и неловкостью перед Федором, что он причинил ему непоправимое зло.
Он прошел под миксером – огромным резервуаром для хранения и выравнивания химического состава жидкого чугуна, заливаемого в мартены. Не оглядываясь, пошел туда, где должны были ставить на фундамент готовую доменную печь, построенную на железных рельсовых санках.
Оборудованная по последнему слову техники, тысячетонная доменная печь стояла на десятке рельсов, ведущих к фундаменту, построенному для нее в нескольких десятках метров. Рельсы примыкали к самому фундаменту и соединялись с таким же количеством коротких рельсовых отрезков, вмонтированных в основание. Именно на них должна была стать новая домна.
А старая умрет с гордостью, без криков и жалоб – так, как умирают тысячи простых тружеников, дожив свой век. И не пожалуется, и не попросит, чтобы ее поставили на площади перед заводом, как памятник первой пятилетки. А она имеет на это полное право. Она имеет право видеть, как перед ней с уважением снимают шапки старые и молодые рабочие, как несут к ней цветы юные пионеры, как пенсионер-металлург садится около нее на скамейке, чтобы с наслаждением вспомнить дни своей молодости. Она имеет на это право, потому что справедливо считается матерью этих сильных тысячетонных красавиц – новых доменных печей, матерью мартенов, прокатных станов, десятков тысяч разумных машин, несущих почетную службу в разных концах нашей Родины.
Толстые стальные тросы вибрировали над головами рабочих. У электрических лебедок застыли лебедчики в ожидании команды.
С противоположной стороны домну поддерживали несколько тросов, чтобы она не пошатнулась, не упала. Там тоже лебедчики ждали команды... И все должно было работать в едином ритме, в четком взаимодействии, как точный часовой механизм. Стоит только лебедчикам, передвигающим домну, натянуть свои тросы больше положенного, а лебедчикам, ее поддерживающим, отпустить свои в такой же степени, – и домна упадет, развалится на их глазах.
Горечь встречи с Валентиной еще волновала Виктора, но он, как и все, не мог не поддаться гипнозу всеобщего восхищения.
Виктор видел высокую фигуру Федора то среди одной, то среди другой группы рабочих. В нем светилось сейчас столько волевой энергии, трудно было узнать того Федора, который сидел недавно напротив Виктора в кабинете директора.
– Хорошо придумал Голубенко, – сказал кто-то из рабочих за спиной Виктора. – Завод на этом выиграл тысячи тонн чугуна... Как говорится – голова варит...
Виктор оглянулся, но так и не узнал, кто это говорил. Значит, Федор сейчас осуществлял свою собственную идею?.. А ему сказал – общая.
Вот Федор подошел к домне, поднял руку. Виктор хорошо понимал, почему Федор встал именно у домны. Я, мол, настолько уверен в своем замысле и в точности вашей работы, товарищи лебедчики, что буду стоять здесь, нисколько не боясь катастрофы. К нему подошел Доронин. Он его в чем-то тихо убеждал, но Федор, видно, не соглашался. Тогда Доронин встал рядом, как комиссар рядом с командиром корабля на боевой рубке во время самой ответственной операции.
Жест Федора означал: «Внимание, приготовиться!..» Напряжение достигло высшей точки. Мышцы лебедчиков, сжимающих рычаги, вибрировали не меньше, чем натянутые стальные тросы.
Кто-то крикнул:
– Дальше от тросов!..
Рабочие отбежали от рельсового полотна. Внимание всех было приковано к Федоровой руке. За головами рабочих Виктор увидел лицо Валентины и Лиды. Они, как и все, не сводя глаз, смотрели на Федора и Доронина. «Валентина сейчас восхищается им, – подумал Виктор. – А разве можно им не восхищаться в эти минуты? Стоит, высокий, стройный, как олимпийский бог. И все ему подвластно – люди, машины, время...»
Вот Федор посмотрел на секундомер и резко опустил руку. Лебедчики нажали на рычаги. В напряженной тишине домна тихо, ровно поплыла по направлению к фундаменту.
И вот она остановилась. Перед ней лежал большой путь – несколько десятков метров. Преодолеть его не так просто. Она должна была его преодолевать медленными «короткими перебежками».
Долго «шла» молодая домна на свой почетный пост, чтобы заменить горячим трудом свою мать. Долго бегала тоненькая стрелка секундомера на циферблате Федоровых часов. А когда доменная печь наконец встала на заготовленное для нее место, сначала люди облегченно вздохнули, будто не только лебедчики, а все, кто здесь находился, помогали тысячетонной громадине в ее необычном переходе... Потом бросились к печи, ощупывали ее, радостно смеялись.
– Как будто здесь и была!
– Ни трещинки нигде нет!
– Молодцы лебедчики! Блоху подкуют.
Сталевар Никита Торгаш, который утром передал смену Коле Круглову, как и десятки других рабочих, специально не пошел домой, чтобы присутствовать при этом необычном событии. Теперь он, энергично жестикулируя, рассказывал:
– Я знал одного мужчину. Вот был спец!.. На паровом молоте работал. Я еще тогда под стол пешком ходил. Как-то великая княгиня через наш город проезжала. Хозяин пригласил ее завод осмотреть. Подводит к паровому молоту, говорит ей: «Ваше Высочество, пожалуйста, дайте мне часы». Великая княгиня удивленно посмотрела на него, но сняла часы, отдала. А часы какие! Золотые, усыпанные бриллиантами. Хозяин положил их под паровой молот. Ну, говорит, Трошкин, бей. У всех аж в глазах потемнело... А Трошкин и глазом не моргнул. Как даст пару, как разгонит молот...
– И что же, разбил? – взволнованно спросил быстроглазый парень в спецовке.
– А тебе жалко?.. Думаешь, у нее они одни были? – презрительно покосился на него Василий Великанов.
– Не в этом дело. Трошкин потом не только царские часы не пожалел, но и головы царской... – продолжал Торгаш. – Но здесь речь шла о его рабочей гордости.
– Значит, не разбил? – не унимался парень.
– Не разбил. Так на полном ходу осадил молот, что часы вынуть нельзя было. А когда вынули – они оказался целым-целехоньки.
– А то можно подумать, что это легче, – показал на домну Великанов.
– Да нет. Я же и говорю о том, – сказал Никита Торгаш.
Лебедчиков поздравляли, жали им руки, дружески хлопали ладонями по спине.
Виктор сегодня утром чувствовал боль, тупое нытье в тазобедренном суставе. Тогда же мелькнула мысль, что это, пожалуй, снова наступает обострение остеомиелита, возникшего после ранения. Но нервное напряжение отвлекло его внимание от боли. Он забыл рекомендации врачей в каждом таком случае ложиться в постель. И сейчас, когда Виктор сделал несколько шагов навстречу Федору, желая искренне, от души, пожать ему руку, он вдруг почувствовал, что нога отказывается служить. Сотник зашатался, схватился обеими руками за канат лебедки... К нему бросились рабочие. Подошел обеспокоенный Федор.
– Что с тобой? – озабоченно спросил он.
Сотник вынужденно, с мучительным усилием улыбнулся:
– Ничего особенного... Старая история. Время от времени это со мной случается...
Лицо его покрылось капельками пота. Федор взял Сотника под руку, осторожно посадил на обрезок толстой железной трубы.
– Зачем же ты ходил?.. Надо же было переждать. Да ты горишь весь!..
Валентина не подходила к Виктору. Но ее лицо побледнело, как будто ей было больно не меньше чем ему.
Через несколько минут Сотник лежал в санитарной машине, что везла его в больницу. Федор сидел рядом и монотонно бурчал на шофера:
– Ну и шофер... Ему бы только дрова возить. Ишь, как трясет... Нельзя обойти выбоины...
А Валентина стояла у проходной завода, смотрела вслед машине и никак не могла разобраться в том, что происходит в ее душе.
Она поняла, что не Федор мешал ей поговорить с Виктором, как это еще недавно казалось. Мешало нечто большее, чем ее уважение к Федору и нежелание доставить ему неприятность. Она сегодня увидела Федора таким, каким ей не приходилось видеть его раньше. Но разве Валентина виновата в том, что когда все поздравляли его с победой, она думала: это хорошо, что он сильный, – значит, ему можно все сказать откровенно... Валентина гнала от себя эти мысли, ненавидела себя за них, но они приходили снова...
Федор вернулся домой уставший, угрюмый. Надо было радоваться – его расчеты подтвердились, завод вскоре получит чугун с новой домны. Но его угнетало воспоминание о встрече Валентины и Виктора.
Валентина, расспросив о Викторе, закрылась в Федоровом кабинете. Работает?.. Да, пожалуй, нет. Где уж ей сегодня работать?
Долго сидел Федор перед открытым окном. Олег уже спал. С днепровского берега доносились звуки аккордеона, веселые молодые голоса. Тяжелые, сладковатые ароматы ночных фиалок, насаженных под окнами Валентиной, заполняли весь двор, комнату, щекотали ноздри, но не успокаивали. Шелест тополиной листвы возбуждал в его душе необъяснимую тревогу. Чем все это кончится?.. Он уже устал. Неужели Виктор, с которым она прожила девять дней, дороже для нее, чем он?.. Острая, резкая боль пронзила его сердце. Нет, он не отдаст ее Виктору! Ни за что!.. Он оторвал руки от подоконника, яростно встряхнул головой, быстрыми шагами пошел в кабинет.
Валентина тоже сидела перед открытым окном, не зажигая свет. Она даже не оглянулась. Подошел, взял ее за плечи. Вздрогнула, будто он прикоснулся к ее телу холодным железом. Да, думает о нем... Как она может, как она смеет о нем думать, когда рядом стоит тот, кто любит ее больше собственной жизни?.. Яростная и болезненная ревность завладела Федором. Пальцы судорожно сжали плечи Валентины. Она вскочила, резким движением повернула к нему голову. Федор в вечерних сумерках не видел ее глаз, но заметил, что из-под бровей сверкнул гневный огонек. Или это ему только показалось?
– Что это? – отрывисто спросила Валентина.
Федор молчал.
– Иди спать, – недовольно сказала она.
Его мышцы напряглись до такой степени, что, кажется, готовы были лопнуть. Но он не мог их расслабить. Зубы сжались до боли в челюстях. Взял ее за руку. Сам почувствовал, что сделал ей больно. Но не отпускал руки.
– Что ты делаешь?
А у него смешалось все – гнев, обида, страсть... Чего он стоит и думает?.. Ей нужна сила, мужская сила. Может, именно эта сила и гипнотизирует ее, когда она смотрит на Виктора?..
– Валя, – хрипло сказал он. – Хватит здесь сидеть.
– Пусти меня!
Голос ее звучал нервно, раздраженно.
Да, он понимает ее. Ей сейчас не хочется быть с ним рядом. И именно это разожгло и его обиду, и его ревность. Он шагнул к ней, подхватил на руки, понес. Зацепился за ножку дивана, споткнулся. Руки его еще сильнее сжали Валентину. Кровь стучала в висках, сердце билось так, что, казалось, это оно его шатало...
У дверей спальни она вырвалась из его рук, одернула халат. Она ничего не сказала. Осторожно прошла к дивану, на котором спал Олег. Болели руки, – видимо, завтра выступят синяки. Но еще больше болело где-то глубоко внутри, будто Федор несколько минут назад с разъяренной силой сдавливал ей не пальцы, не плечи – сердце... Если бы он не подходил к ней сегодня – ей бы легче было. Она сама боролась с собой и, возможно, превозмогла бы себя, приглушила в себе то, что не давало ей покоя. Но сейчас Валентина его почти ненавидела. И если бы не Олег, которого ей не хотелось будить, она бы, наверное, не осталась ночевать под одной крышей, – пошла бы к отцу. Валентина подняла край одеяла легла рядом сына. Парень проснулся.
– Мама, это ты?
– Я. Спи, сынок...
Прильнула к нему. Ей стало теплее, спокойнее. Детское тельце будто излучало тепло, которое ей сейчас было необходимо. Оно согревало и успокаивало.
25
Солод зашел в квартиру, запер за собой дверь, снял макинтош и задумчиво встал у письменного стола, – что ему надо сделать?.. В голове туманилось от грохота железа и десятков голосов, обращавшихся к нему с различными жалобами и претензиями. Где-то в общежитии не закрыли кран, вода обрушила потолок, нужен немедленный ремонт... В столовой прокатного в борще кто выловил кусок тряпки. Какому-то подручному вместо суконной робы выдали брезентовую, а это является нарушением правил безопасности, так как суконная роба не загорается, она только тлеет, а брезентовая может вспыхнуть...
Как ему все это надоело! Особенно его возмутил Никита Торгаш. Никто не обратил внимания на то, что на прошлой неделе не выдавалось мыло. Кому придет в голову задумываться над такими мелочами?.. Ведь ему грош цена. А Торгаша принесло аж до заместителя директора. Иван Николаевич посадил его в кресло, накричал по телефону на кладовщика, приказал принести это пакостное мыло к нему в кабинет и собственноручно вручить Торгашу. Между делом он расспрашивал Никиту о здоровье жены и детей, о том, не нужны ли ему запчасти к «Победе». Если нужны, то, мол, обращайтесь. Помогу. Торгаш вышел из кабинета вполне довольным. А у Солода так и тянулась рука к мраморной пепельнице, чтобы запустить ею в спину этому крохобору.
Ну, и черт с ним!.. Пусть подавится своим мылом. Сейчас Иван Николаевич дома, и никто не посмеет ему надоедать.
Провел рукой по лицу. Даже шуршит пыль под глазами. Проклятый город!.. Пока пройдешь по улице, лицо и волосы покрываются пылью. Кожу на щеках стягивает, волосы сбиваются в клочья. Хочется скорее бежать домой, нырнуть в ванну...
И тут же рассердился на себя, – слишком разнежился за последние годы. Быстро разделся, бросил полотенце на голую спину, воткнул ноги в войлочные ботинки, прошел в ванную, открыл кран... Потом достал из холодильника графинчик с коньяком, поставил на табурете возле ванны. Попробовал ногой воду, – горячая, как он любил.
Уже лежа в ванне, наполнил рюмку, выпил, пососал лимон и снова подумал: как меняются привычки с годами!.. Раньше не позволял себе нежиться, воспитывал волю. А теперь... Да, собственно, для какой цели тренировать себя? Что он хочет и к чему стремится?
Вода сначала была такой, что обжигала. Тело постепенно привыкло, пришлось добавить горячей. Когда приятное тепло заполнило все его существо, он иронично улыбнулся. Так постепенно привыкаешь ко всему. Сначала обжигает, а потом... Ведь сейчас его не обжигает даже самая неприятная мысль – мысль о том, что он до конца дней своих должен выслушивать нелепые жалобы, улыбаться тем, кого ненавидит, пожимать руки тем, кого бы и на порог к себе не пустил...
Он еще раз наполнил рюмку, выпил. Вспомнил, что надо послать вагон Прокопу Кондратьевичу. Это дело легко устраивает его бухгалтер, Сорока. Даже Солоду не известно, каким образом это ему удается. Видно, у него на железной дороге надежная рука. Надо бы эту руку тоже прибрать к рукам.
Опять вспомнил про мыло. По сути пустяковая операция. Нельзя сравнить с тем, что позволяет большое – самое крупное в области – подсобное хозяйство. А забот не оберешься. Зря он дал себя уговорить. Колобродов и Синюхин не представляют, наверное, с каким риском это связано...
Подсобное хозяйство было тем участком в работе Солода, на котором он в наибольшей мере проявил свои организаторские способности. Широкие луговые массивы обрабатывались по последнему слову техники. Мощная водокачка посылала воду из Днепра на десятки гектаров. Здесь выращивались помидоры, синие баклажаны, капуста. А дальше – несколько гектаров виноградников, яблони, вишни, абрикосы... На животноводческой ферме откармливались свиньи, сюда завозились коровы холмогорской породы.
Солод в течение многих лет добивался расширения подсобного хозяйства, вел сложные переговоры с областными учреждениями о присоединении новых угодий и оказался замечательным дипломатом «помидорного государства», как называл в шутку это хозяйство Гордей Карпович.
Горовому и Доронину нравилась энергичность Солода, он постепенно приобрел у них репутацию способного организатора, который не жалеет сил для улучшения благосостояния рабочего коллектива. И надо отдать должное – в столовых заводского ОРСа всегда были свежие овощи и фрукты. Детские сады, ясли и пионерские лагеря завода обеспечивались молоком, маслом, сметаной. И все это, безусловно, добавляло Ивану Николаевичу доверия и уважения со стороны руководства.
Однажды Доронин, стоя на винограднике, с доброжелательной улыбкой следил за Солодом, медленно прохаживающимся среди помидоров и синих баклажан. Был солнечный день. Поодаль маячили яркие косынки работниц, выбирающих огурцы для столовых. Солод задумчиво разминал на ладони горсть земли, подносил ладонь к лицу, будто принюхивался к плодородности илистого песчаника, сдобренного перегноем, его лицо было озарено какой-то мечтой... По присущей людям типа Доронина привычке видеть в других главным образом хорошее, Макар Сидорович подумал: «Любит он труд... Напрасно я видел в нем что-то неискреннее. Сейчас, видимо, мечтает о том, что завтра будет на этой земле. Это хорошо, когда человек умеет так мечтать – не теряя почвы под ногами...» Доронин, осторожно раздвигая листву виноградника, пошел в контору, чтобы не нарушить размышлений Солода.
Не раз за свою многолетнюю партийную практику ошибался Доронин. Но это была его самая серьезная ошибка. Солод думал не о том, что будет на этой земле, а что могло быть, если бы не пришли к власти большевики. Наверное, здесь была бы основана солидная экономия. И вполне возможно, что это была бы экономия некоего Ивана Загребы...
Он наблюдал, как у нас формировались и расформировывались министерства, как искались формы государственной и хозяйственной работы, и думал: «Ищите... Вам еще много надо искать. Вы, конечно, безумно мчитесь вперед на своей гигантской машине. Но у вас и недостатки есть, появляются головотяпы, которые то завалят ламповым стеклом все сельские и городские магазины, то в течение двух-трех лет нигде невозможно его купить. То резинка для одежды продается в каждом уличном киоске, никто не берет, то нельзя ее приобрести даже в ГУМе. И я знаю, почему это происходит. В министерстве, подумав об одном, забывают о другом. Итак, ищите, изобретайте, а я тем временем буду прислушиваться, и каждый раз все незаполненные вами пустоты буду использовать для себя. И возможно, придет время, когда ваша машина...»
Нет, Солод теперь не был таким уверенным, как до войны, что советская государственная машина под натиском враждебных сил рухнет под откос. Война его убедила, что она построена надежными руками. В ее работе, в непрерывном стремлении вперед проявляются мощные законы, на основе которых она построена. И по сравнению с действием этих решающих законов какая-нибудь резинка, ламповое стекло и десятки других мелочей – это лишь отдельные подробности. Они, конечно, не могут затормозить движения вперед.
И все же Солод очень радовался, когда замечал пятна на солнце.
В его поведении было немало зигзагов, которые, на первый взгляд, трудно объяснялись.
Странно, конечно, что именно он, Солод, помог разоблачить Криничного. Но если присмотреться внимательнее к этим двум людям, то станет понятным их отличие. Криничный не ставил себе отдаленных задач, Советская власть не была ему враждебной, хотя сам он постепенно превратился для нее в опасного преступника. Ему хотелось пожить «на широкую ногу», он считал, что завоевал для себя это право на войне, – пролитой кровью. И именно то, что Криничный уже сегодня позволял себе пользоваться награбленным, не откладывал это на неизвестное будущее, как делал Солод, вызвало к нему со стороны Ивана Николаевича и ненависть, и презрение, и подсознательную зависть. «Собака! – думал о нем Солод. – Хоть несколько лет поживет так, как хочется. А мне, пожалуй, и года не придется, потому что я трус. И все же он – дурак! Если не я его съем – съест кто-то другой... Не сегодня, так завтра. Такие долго на поверхности не держатся. Он смотрит не дальше собственного носа...»
Именно эти соображения заставили Солода повести к нему Доронина. И именно Доронина, он уже много раз собирался обратиться к Макару Сидоровичу за рекомендацией в партию. Откуда Доронин мог знать, что у Солода на такие вещи нюх острее, чем у любого другого. Волку ведь легче, чем охотнику, отыскать следы шакала: волк и шакал – почти одной породы.
Перед Голубенко, который исполнял обязанности директора, ему выслуживаться нет необходимости. Голубенко – в его руках. Если бы только не распутался тот клубок, который Иван Николаевич так старательно запутал!
Это все теперь висит на тоненьком, ненадежном волоске. Сотника не удалось спровадить. А жаль. Тогда бы Солод мог чувствовать себя относительно Голубенко значительно увереннее.
Иван Николаевич понимал, что ложь Федора может обнаружиться. Понимая это, он предпринимал некоторые меры, но все они были бессильны предупредить катастрофу Федора.
А что, собственно, должно произойти, если ложь Голубенко будет разоблачена? Чем это грозит Солоду? Ничем, конечно. Правда, это заставит его искать другие защитные средства, другие гарантии. Рядом с Голубенко ему жилось спокойно. Он знал, что, если случится неприятность – Федор вынужден будет его выручать. Он привык полагаться на этот свой козырь, ему лень было искать новых. Но если Голубенко провалится – ничего не сделаешь, придется...
На всякий случай Солод обеспечил себе отступление. Голубенко как-то пожаловался, что Валентина много думает о Сотнике, а к нему стала почти равнодушной.
Иван Николаевич выслушал его и сказал:
– Не одобряю твоего поведения. Я еще на вокзале советовал написать письмо. Почему ты этого не сделал?.. Это было бы мужественным и честным поступком. Ты выбрал другой путь... В конце концов, мне надоела вся эта история. Я пытался помочь. Делал это только ради нашей дружбы. Ты понимаешь, что я не имел от этого никакой пользы. А ты сам разрушил все планы. Чего же ты сейчас хочешь от меня?.. Вот тебе мой совет: немедленно во всем признайся Валентине. Это будет честно и благородно. Пусть сама решает, как ей быть дальше...
Федор смотрел на Солода виноватыми глазами. Да, действительно, Солод еще на вокзале советовал... да, действительно, он помогал совершенно бескорыстно...
А Солод понимал, что у Голубенко не хватит духу на откровенный разговор с Валентиной. Иван Николаевич думал так: если завтра ложь Федора откроется, он будет иметь полное право выступить одним из тех, кто обвинит его. А если пронесет – Федор острее почувствует, что находится в полной зависимости от Солода. Как же: Солод требовал обо всем признаться. А у Федора не хватило мужества...
Иван Николаевич вспомнил, как ему было приятно испортить Федору именины. Пусть не думает этот безвольный дурак, что можно долго прожить, радуясь ворованному счастью... Голубенко в некотором смысле похож на Криничного, хоть ворует для себя не деньги... Ворует любовь. Солод вылез из ванны, начал вытирать тело широким мохнатым полотенцем. Выпил остатки коньяка, накинул на плечи тяжелый полосатый халат, подошел к зеркалу. После купания лицо порозовело, как у юноши. Улыбнулся собственному изображению недоброй, холодной улыбкой. Затем лег на диван под розовыми нимфами. Его в последнее время все меньше волнует мастерски выписанное женское тело. Года!..
Но полежав полчаса, встал обеими ногами на диван, что аж звякнули, заскрежетали под ним пружины. Снял золоченую раму с нимфами, начал согнутым пальцем тщательно обстукивать стену. Звук был везде одинаковым. Это его успокоило. Повесив раму, снова лег на диван.
Надежны ли у него помощники?.. Наиболее надежный и сообразительный, конечно, Сорока. Такой, что каждого ревизора трижды вокруг пальца обведет. Днепр вброд перейдет и сухим выйдет... Лицо, правда, у него смешное – заостренный нос, а лоб узкий, не шире мужской пластмассовой расчески. Подбородок задран вверх, как нос поношенного башмака. Когда надо, умеет прикинуться дурачком. На самом же деле хитрый и коварный. Это он морочил голову Сотнику «проблемой» рыбьего жира, он организовал сцену «дебоша». И в том, что она не дала желаемых результатов, виноват только Голубенко. Сорока был своеобразным «начальником штаба» – он координировал «операции», связывал Солода со «своими» людьми на подсобном хозяйстве, на базе потребсоюза, на железной дороге. А если бы вдруг не стало Сороки, Солод чувствовал бы себя так, будто ему отрубили руку. Сорока был выходцем из мещанской семьи. Он, как и Криничный, не ставил себе каких-то отдаленных целей, хотел «пожить» сейчас, пока еще не совсем старый. Но делал это разумнее, чем Криничный. Умел пользоваться благами жизни так, что это не бросалось людям в глаза. Не отказывался от женщин. Выбирал таких, что любили дорогие подарки и не очень присматривались к его сплюснутому лицу. Где-то в Крыму имел собственный дом, который был записан на сестру его покойной жены.
Вторым был Сомов, директор подсобного хозяйства. Он мало что знал о деятельности Солода, потому что Иван Николаевич связывался с ним только через Сороку. Зато Солод знал все, что касается Сомова. Собственно, поэтому он и добивался его назначения на эту должность. Солод знал, что Сомов во время войны служил в немецкой полиции, а потом был командиром созданного немцами с провокационной целью «партизанского» отряда, которому была поставлена задача привлекать к себе советских патриотов и уничтожать их. Солод дал понять Сомову, что ему известно о его прошлом, – и этого было достаточно, чтобы этот человек, не расспрашивая что и к чему, выполнял любое желание Ивана Николаевича, переданное через Сороку.