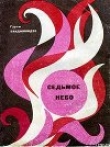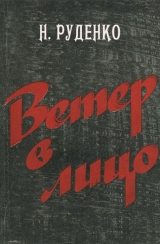
Текст книги "Ветер в лицо"
Автор книги: Николай Руденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
23
По поручению райкома комсомола Лиза Миронова и Владимир Сокол должны были обследовать бытовые условия молодых рабочих строительного треста. Лиза и Владимир встретились возле общежития сталеваров около десяти утра. Владимир сразу же обратил внимание, что лицо Лизы побледнело, осунулось. У переносицы под глазами появились едва заметные морщины. Нет, это даже не морщины, – так собирается под глазами молодая, нежная кожа, когда человек похудеет. Как бы на розовощекое, налитое соками яблоко повеяло горячим, засушливым ветром, и его тонкая прозрачная кожица слегка увяла.
Владимир находился с Лизой не в таких отношениях, чтобы свободно расспрашивать про ее личные дела. Однако он не удержался, спросил, что с ней.
Лиза сдержанно улыбнулась.
– Эх, Володя... Вороне бог послал кусочек сыра...
– А дальше?
– А дальше ты сам знаешь.
Непокрытые Лизины волосы золотилось на солнце, будто кто-то в них вплел лучи и они просвечивали его изнутри. Ее всегда улыбающиеся васильковые глаза были грустные, и это не соответствовало тому настроению, что создавалось от веселого, игривого блеска пышных волос, свободно падающих ей на плечи, на белую шелковую блузку. Конечно, нормальные люди не могут всегда смеяться – бывают минуты грусти, печали. Но Лизу Владимир не мог представить расстроенной. И теперь смотрел на нее с некоторым удивлением и сожалением.
– О вороне я знаю... Но ворона – птица несознательная и вообще с пережитками. Больная клептоманией... Ворует все, что блестит, – шутил Владимир, чтобы как-то развеселить Лизу. Но, видно, ее нелегко было развлечь, потому что она даже эти слова истолковала по-своему.
– Это правда. Вороны бывают разные... Одна проворонит, а другая украдет.
– Конечно, здесь тоже без индивидуального подхода не обойтись, – продолжал тем же тоном Владимир.
Лиза посмотрела на Владимира такими печальными глазами, что у того сразу пропало желание шутить. Некоторое время шли молча.
Сокол перестал быть застенчивым парнем, каким его знали раньше. Он научился бойко и непринужденно поддерживать беседу, мог без лишних колебаний взять девушку под руку, пригласить в кино или даже в ресторан. Ему и Лизу хотелось взять под руку, но он передумал. Однако надо же как-то вывести ее из состояния душевного оцепенения.
Поселок тянулся вдоль Днепра на несколько километров. Они прошли разрушенную больницу, старую школу, дом Голубенко. Спустились до самой воды, пошли по влажному, хорошо укатанному волнами песку. Острые каблуки Лизы оставляли глубокий след. Округлые ямки сразу же заполнялись водой, просачивающейся сквозь песок.
На противоположном берегу Днепра покачивались склонившиеся к воде ивы. Бородатый рыбак, закатив до колен штанины, оседлал наклоненный ствол сухой вербы и напряженно следил за поплавком. Отсюда он казался маленьким добрым стариком-гномиком, какие почти во всех сказках выручают из беды великанов.
– Полюбился мне этот край, – заговорил Владимир. – Куда ни взглянешь – такая красота, что глаз не оторвать. И все же скучаю по Винничине. У нас там равнина, видно вокруг на десятки километров... И поля, поля. И знаешь, Лиза... По аисту соскучился. Эта птица, говорят, приносит счастье. Все лето стоит у дымаря, как часовой. Часами стоит, не шелохнется. Село наше недалеко от бугской поймы. Почти на каждом доме – аист... К нему привыкают, как к члену семьи. А как ждут его весной! Особенно, мы, дети... – закончил он, вспомнив детство.
– Ничего себе – детки! – потрепала его черные волосы Лиза и впервые засмеялась. Владимир, обрадованный тем, что Лиза немного развеселилась, готов был признать себя хотя бы двухмесячным младенцем. Но вскоре Лиза снова нахмурилась и неохотно поддерживала разговор.
В общежитие как раз привезли столы, стулья, шкафы. Несколько свободных от работы ребят снимали мебель с машины, разносили по комнатам. Настроение у них, видно, было праздничное, приподнятое. Они оживленно перебрасывались шутками.
– А ты, гляди, все стулья готов к себе потянуть? – смеясь, упрекал товарища белоголовый широкогрудый парень в синей майке. Его бугристым мышцам мог бы позавидовать не один спортсмен. – Бери вот этот, вот этот. Только осторожно.
– Конечно! – с притворным недовольством процедил сквозь зубы высокий парень с лицом, изрытым оспой. – Чего человеку не захочется! Если мед, так и ложкой. Стульев тебе мало? Сего добра теперь хватит.
Лиза и Владимир стояли у каменного крыльца, не решаясь отрывать ребят от работы.
– Рано мы пришли, – сказал Владимир.
– Не рано, а поздно, – сказала Лиза. – А еще комсомольцы. Краснеть нам надо. Беспартийный Солод проявил больше заботы о молодежи, чем райком комсомола. Отстаем...
– Но сейчас рано. Пусть бы уже устроились. Да и некогда им с нами разговаривать. Не до нас... Рады, что можно по-человечески комнаты свои обставить. Давай, Лиза, в понедельник зайдем. А они за выходной управятся.
– Привет, привет! – послышалось за их спинами. – Комсомольский контроль?.. Ну, ну. Правильно делаете, друзья. Здесь недавно такое творилось...
Это был Ваня Сумной. Лиза и Владимир сначала не узнали – свою шевелюру он постриг, решив, наверное, что она не является главным признаком таланта. Одет он был в обычный серый костюм, в верхнем кармане которого гордо поблескивала новая авторучка.
– Вот и молодец, что постригся, – улыбнулась Лиза, пожимая его руку.
– Ну, о чем вспомнила!.. Жизнь идет вперед. Внешняя бутафория только начинающих привлекает. Ну, как тут? Устраиваются?.. Хорошо, хорошо. Бывают же на свете такие вот подлецы, как Криничный.
– А я, кажется, о нем другое читала, – язвительно заметила Лиза.
– Не путай, Лиза, праведное с грешным. Я совсем не о нем, а об этих домах писал. Помнишь, на первой странице фото сего общежитии... Фасад. А что, разве плохой дом?
– Дом замечательный, – согласилась Лиза. – А тем, как в нем люди жили, ты не поинтересовался.
Ваня ударил себя обеими руками по карманам, нащупал платок, вытер потное лицо, на котором облазила загоревшая на солнце кожа, – видно, недавно ездил в командировку в степные районы области.
– Ну, знаешь, кто не ошибается? Зато сейчас... О, я сейчас хожу окрыленный. У меня такой замысел! Ты себе не представляешь.
– Интересно. Роман? – улыбнулась Лиза.
– Не знаю... Первая книга... Получит признание – будет вторая. Собираю материал. Сверяю замысел с жизнью. Теперь можно обострять, сгущать краски.
– А я и не знала, что «обострять» начали только сейчас, – затаив насмешливую улыбку, сказала Лиза. – Я думала, что настоящие писатели всегда так делают.
– Нет, Лиза. Раньше мы искали ростки нового. Людей будущего... О них писали. Только это нас и интересовало. Мы ездили и не замечали плохого. Все казалось хорошим. Зато сейчас!..
– Значит, теперь хорошего стало меньше? Куда же оно подевалось?
Сумной заметил, что Лиза над ним посмеивается. Он недовольно отвернулся, бросил в рот сигарету, поймал ее зубами и начал нервно жевать.
– Простите, я спешу.
И, круто повернувшись, пошел по улице.
Когда Владимир и Лиза снова подошли к общежитию, на них налетела молодая красивая женщина в коротеньком белом переднике. Она была подвижная, веселая, разговорчивая, как утренний степной ветерок.
– Вы не к нам ли?.. Теперь к нам отовсюду гости. Если остановился кто-нибудь у крыльца, так и знай, – к нам идет. А я вот на минутку домой забежала. Сестренка ко мне приехала. Заходите, пожалуйста...
Женщина завела их в просторную, светлую комнату. Под стенами стояли две кровати, застеленные розовыми пикейные одеялами. Подушки были покрыты белыми тюлевыми накидками. На окнах висели легкие узорчатые гардины. Посреди комнаты стоял круглый стол под белой скатертью, в углу – диван, обтянутый черным дерматином. В комнате было уютно, чисто. На стенах красовались венки из бессмертников. А на диване сидела девушка в широкой юбке из яркого ситца, в маленьких хромовых сапожках, в живописном кептарике{2}. Девушка встала, топталась возле дивана, стыдливо опустив глаза. Она перекладывала из руки в руку вышивку, которой, наверное, занималась до прихода гостей.
– Садитесь, пожалуйста, – пригласила хозяйка, придвигая к столу стулья. – Давайте познакомимся. Я – Олеся Ковтун. А это моя сестра – Густя. Густонька, принимай гостей. Может, чаю хотите?..
– Спасибо, – сказала Лиза. – Мы ненадолго. Нас райком комсомола к вам прислал. Может, вы чем-то недовольны.
– Что вы такое говорите?.. Как же нам быть недовольными? Товарищ Доронин нам помог. Ой, как помог!.. Даже секретарь горкома к нам приезжал. И я уже работаю. Вместе с Богданчиком на работу ходим. Вот недавно ясли открылись. Там, где наш начальник жил... Я там и работаю. Кабы не товарищ Доронин... Густонька, сестричка, поставь чай. А мне надо бежать. Я только на минутку заглянула. Посоветовать ребятам, куда что ставить...
Олеся подбежала к кровати, любовно разгладила руками одеяло, хоть оно и так лежала ровно и гладко, потом снова защебетала.
– А Густонька давно собиралась навестить меня, но я все отказывала. Стыдно было признаваться, как мы живем... А теперь и самым место есть, и гостей можем принимать. Ну, извините. Я побегу...
– А может, и мы с вами в ясли? – спросил Владимир.
– А чего же? – согласилась Олеся. – В том дело не станет. Может, и ты пойдешь с нами, Густонька?.. Пойдем, посмотришь, в каком дворце мой Богданчик живет.
Ни Владимир, ни Лиза не могли сравнивать Олесю с той женщиной, какой ее видел Доронин, – раньше они ее не знали. Им казалось, что иной она быть не может, – только вот такой веселой щебетухой.
Лиза с Олесей пошли впереди. Олеся о чем-то ей рассказывала не только словами, но и руками: то они мелькали в воздухе, будто Олеся перекидывала с руки в руку невидимые шарики, то Олеся останавливалась, бралась за бока и весело хохотала. «Ну, эта, кажется, каменную бабу развеселит, не только Лизу», улыбаясь, подумал Владимир.
Стройный, черноволосый, с правильными чертами лица, одетый в серый коверкотовый костюм, он казался Густоньке человеком из другого мира. Странно, что этот «барин» зарабатывает себе на жизнь собственными руками у тех печей, где варят сталь. А как это они ее варят? Какие это печи? И каких размеров должны быть те казаны, чтобы на всех стали хватило?
Она украдкой поглядывала на Владимира, а тот шел и, видимо, думал о своем. Почему-то Густоньке стало неловко и за свою слишком яркую юбочку, и даже за любимую безрукавку, которой она всегда гордилась... Гордилась, но не здесь, а там, где в октябре загораются тысячи красных огней на полонинах{3}. Нет, это не костры. Это буки{4} одеваются осенью в багровые одежды и горят на солнце, светятся так, что золотые березки от этого света краснеют, будто стесняются перед буками, как Густонька перед этим стройным, красивым молодцом, который не хочет даже взглянуть на нее.
Но Густонька ошибалась. Он не мог не заметить юную, полнокровную красоту Густоньки, напоенную соками незнакомой горной земли, обветренную пахучими карпатским ветрами. Эта красота возбудила любопытство художника, тайно живущего в душе Владимира. Особенно ему понравилась одежда Густоньки.
– Скажите, пожалуйста, у вас всегда в таком ходят?.. Кажется, безрукавка? Я слышал о ней, но думал, что гуцулы так одевались в старину. Во времена Довбуша... А теперь только в ансамблях и в опере.
Густонька покраснела. Она посмотрела на Владимира быстрыми карими глазами, ее черные тоненькие бровки вздрогнули. Она опустила глаза и ответила:
– Нет, не всегда. В воскресенье и в праздники.
Ее безрукавка в самом деле была великолепна. На ней красовались сложные узоры не только из цветной кожи и медных пистонов – между красной и ярко-зеленой вышивкой переливались всем богатством красок маленькие круглые блестки, искрящиеся слюдяные квадратики, дополняющие собой вышивку. Будто чьи-то волшебные руки бросили девушке на грудь, на яркую вышивку по хорошо выделанной овечьей шкуре сотни мелких жемчужин и бриллиантов.
– Значит, это все-таки постоянная одежда, – задумчиво сказал Владимир, с уважением посмотрев на девушку. Сокол подумал о том, что этот кедтарик вынесен из веков неволи как символ чистой и неподкупной души русского, гордого своей национальной самобытностью, своей любовью ко всему украинскому и русскому. Русины!.. То, как они себя называли веками, говорит само за себя.
– А вы знаете, я никогда не видел такой красивой одежды. Красивее, чем наши корсетки. И до сих пор есть такие мастера?
Густонька посмотрела на Владимира с некоторой недоверчивостью.
– Это моя мама делала. Мастера есть, но... Теперь трудно сделать.
– Почему? – удивился Владимир.
– А потому, – заговорила Густонька с неожиданно резкими нотками в голосе, – что вот эти пистончики теперь нигде не производят...
– Так это же такая простая вещь, – удивился Владимир.
– Пусть так. Проще электрической пилы. А мы сего у себя делать не можем.
Владимиру стало стыдно за тех неуклюжих торговцев и поставщиков, которые по своему бюрократическому правилу всех людей готовы постричь под одну гребенку.
– Густонька! В «Правду» надо написать, – запальчиво сказал он, беря ее за руку. Девушка вздрогнула, покраснела, снова опустила глаза.
Но вот огонек молодого, смелого рвения блеснул в зрачках Густоньки. Ее уже перестало беспокоить то, что этот чернявый парень с острым, умным взглядом держит ее за руку. Она воскликнула:
– И напишу! Обязательно напишу.
Олеся с горделивой улыбкой показывала гостям свои владения и своих «подчиненных». Некоторые из них лежали в никелированных кроватях, завернутые в белые пеленки. Они сосредоточенно выполняли свой долг – сосали оставленное в небольших бутылочках материнское молоко. Другие спали или ловили маленькими пухлыми ручонками солнечные зайчики, которые падали из открытых окон. А розовые ручки словно ниткой перевязанные... Олесины «подчиненные», что были побольше, бегали во дворе с синими тележками, груженными песком. Несколько трехлетних мальчиков под присмотром няни плескались в бассейне.
Вот в постели послышался тоненький, недоволен плач. Густонька бросилась на этот голосок. Но ее крепко схватила за безрукавку, покрытую белым халатом, разгневанная Олеся.
– Стой! А руки помыла?..
– Они чистые...
– Это для елок чистые. А для детей – грязные... Ты бы посмотрела в микроскоп, сколько у нас под ногтями различных микробов. Страшно делается. Вообще, товарищи, – обратилась она к гостям, – к младенцам посторонним подходить нельзя.
Олеся показала гостям комнату, где было много детских игрушек. Здесь паслись целые стада маленьких коровок, которые нисколько не боялись ни медведей, окружавших их со всех сторон, ни даже сердитых львов с оскаленными пастями. Румяные куклы, кубики, заводные автомашины и паровозы – все это было в полном распоряжении маленьких хозяев бывшего дома Криничного.
То тут, то там стояли пышные дорогие кресла. Большинство комнат было украшено коврами. Ореховая мебель также остались на своем прежнем месте, но имела теперь другое назначение. Стеклянная горка, что раньше ломилась от серебра и хрусталя, была заполнена детскими игрушками, которые разместились в ней в самых удивительных позах. Плюшевый медведь обнимался с большой куклой, а Дед Мороз держал на своих плечах двух слонов.
– Даже самой хочется поиграть, – улыбнулась Лиза.
Владимир пристально посмотрел на нее – действительно ее настроение изменилось к лучшему, а может, она хорошо умеет владеть собой?
– Все-таки не пропало народное добро, – сказала Олеся. – Жене Криничного с сыном выделили комнату недалеко от нас. Хорошая комната. Такая, как у меня с мужем. А она недовольна. Ходит кому-то жаловаться, что очень маленькая.
– Пусть жалуется, – сказал Владимир. – Никого не разжалобит.
Когда Владимир и Лиза вышли из детских яслей, Густонька долго стояла у ворот, провожая их глазами. И как только Владимир оглянулся и заметил ее, она сразу же скрылась за забором.
Они пошли берегом в общежитие сталеваров. Солнце уже стояло высоко. На Днепре легко покачивались белые спортивные лодки, загорелые юноши и девушки неторопливо налегали на весла.
Лиза, стараясь говорить как можно спокойнее, спросила у Владимира:
– Ну, как поживает твой друг?..
«Вот оно что! – подумал Сокол. – Наверное, поссорились. Ничего мне не сказала».
– Какой друг?.. Коля? – переспросил он, будто не понимая, о ком идет речь. – А что? Жив, здоров... Поссорились?
– Надолго, – грустно ответила Лиза. – Хотя мы, правда, и не ссорились. Он тебя еще не познакомил с женой?
Владимир остановился, как вкопанный.
– С какой женой?
Лиза ответила не сразу. В ее глазах боролись между собой слезы, искали выхода, и улыбка, для которой она собирала все свои силы.
– Ну, как же... Мы же теперь с ним родственники. Он позавчера женился на моей сестре... На Вере.
Владимир заметил, как трудно было ей произносить эти слова.
А Лиза резко повернулась и, не глядя на Владимира, сказала:
– До свидания, Володя...
Затем метнулась за прибрежные дубы и скрылась за ними. Видимо, у нее не было больше сил сдерживать слезы.
Но вскоре Владимир увидел ее голову над сизыми днепровскими волнами. Лиза отталкивалась от воды сильными ударами и плыла все дальше, дальше. Когда высокая встречная волна ударяла ей в лицо, Лиза наваливалась на нее всем своим телом, подминала под себя и снова била по воде загорелыми руками. Здесь, на широком днепровском просторе, она могла дать волю чувствам. Здесь никто не увидит слез. Разве только белогрудая чайка, что проплыла над ее головой?.. Да нет, у чайки свои заботы. Вот она нырнула в волну и взлетела в воздух с серебристой, трепещущей добычей в остром клювике.
«От такой девушки отказался! От такой девушки!» – с горечью подумал о своем друге Владимир Сокол.
24
Ночью прошел дождь. Только Валентина шагнула с крыльца, ветер качнул яблоню. За ворот блузки упало несколько холодных капель. Валентина съежилась, втянула голову в плечи, а округлое лицо расплылось в улыбке. От неожиданности она так и застыла под яблоней, словно боясь выпрямиться, поднять голову.
– Чего ты там дрожишь, как казанская сирота? – послышался от калитки голос Георгия Кузьмича.
Валентина передернула плечами, вышла из-под яблони.
– Это меня яблоня поздравила с добрым утром. Просто за шею холодной водицей...
– Правильно делает, – улыбнулся Кузьмич, подходя к Валентине. – Еще не так надо. Ну, и я ей помогу...
– Это за какие грехи?
– Там видно будет. Федор дома?
– Нет, уже на работе.
– Ну и нам пора. Я тоже заступаю утром.
Кузьмич редко заходил за дочерью, идя на работу.
И вообще он был достаточно сдержан в проявлении своих чувств к ней. Люди его характера не умеют говорить нежные слова. А если прорывается иногда нежность, то и она бывает несколько грубоватой. Они как бы боятся, что их могут обвинить в неискренности, и поэтому сдерживают себя. Кроме того, Кузьмич, видимо, считал, что он для дочери недостаточно подходящая компания – ей значительно веселее пройтись до завода со своей ровесницей и подругой Лидой. У них свои интересы, свои секреты. Что же это сегодня с ним случилось?
Знакомая тропинка через луга была почти сухая – черная супесь забрала воду в глубину. Зато кусты краснотала, ивовые ветки и высокая темно-зеленых трава, на деревянистом стебле держащая целую крону из тоненьких веточек и микроскопического волокнистого листья, щедро одарили Гордого и Валентину прохладными дождевыми каплями. Валентина очень любила эту траву. Она не знала, как ее называют ботаники, а сама с детства привыкла называть «заячьим холодком». Точнее назвать ее нельзя – в мелкой, густой листве зайцу легко найти укрытие, приют и пищу.
Солнце скрывалось в низких облаках. Там, где оно стояло, в небе слегка светилась лучистая беловатая туманность.
Валентина и Гордый шли молча. Но вот Кузьмич наклонился, поднял какую-то палку и пошел дальше, опираясь на нее. Что это? Неужели у него появилась потребность в дополнительной точке опоры?.. Резким, сильным движением откинул палку. Она повисла на осокоре, сбив с его листья целый рой летучих капель. Затем повернулся к дочери, сказал:
– Знаешь, о чем я думаю? Молодость помню. Давно это было... Будто в глубокий колодец смотришь. А там, в глубине, в узком просвете, чья-то фигура. Пошевелишься ты – и она шевелится. А крикнешь – она тебе ответит эхом. Вроде ты, но и не ты... Далекий, маленький.
Валентина с некоторым удивлением посмотрела на отца. Откуда это у него сегодня такая щедрость на чувства?..
А Гордый продолжал:
– Так и детство. Все это с тобой было. А иногда кажется, что приснилось.
То, о чем начал рассказывать Кузьмич, было для Валентины давно известно, но все это возникало в случайных разговорах отдельными мазками в разное время. Сейчас же перед ней возникла целая картина, и ее можно было рассмотреть во всех подробностях.
Вот тринадцатилетний курносый деревенский парень подходит к заводским воротам. Подходит нерешительно, робко. За спиной висит сумка с луковицей и куском черствого хлеба. Ноги черные, потрескавшиеся, пальцы сбиты. На левую пятку не ступает – нарыв. Полотняные штаны, латанные и перелатанные, а неизвестно какой масти рубашка подпоясана веревкой.
– Чего тебе? – глянуло на него из окошка проходной бородатое заспанное лицо.
– На завод хочу, – нерешительно отвечает мальчик. – Мать старые, болеют, а отец умерли...
– А ноги чего такие?
– Не отмываются. Мыл с мылом... воробьиным. Трава такая. Не отмываются.
– Когда отмоешь, тогда придешь, – отвечает заспанное лицо, закрывая окошко проходной.
Целый день у лужи натирает парень «воробьиным мылом» свои потрескавшиеся ноги. Немного отмыл. «Цыпки», конечно, не отмоешь. Но теперь ноги хоть не черные, а серые. Вот только кровь выступала. Надо унять, затем сполоснуть...
На другой день опять приходит к проходной.
– Дяденька, я уже отмыл.
– Что отмыл? – удивленно спрашивает бородатая голова.
– Ноги.
– Какие ноги?
– Да свои. Вы же говорили...
Бородатое лицо широко зевает и, не открывая глаз, говорит:
– Да вон отсюда ко всем чертям. Бродит здесь всякая босячня.
И все же парень попадает на завод. Сначала в прокатный цех, к нагревательным печам. Пол у печей вымощен железными плитами. И такие они горячие, проклятые! Стоять босыми ногами нельзя – все время танцевать приходилось.
– Это что за кордебалет? – кричал старший сварщик такого огромного роста и такой силы, что переворачивал ломиком двадцатипудовые слитки, что мячики. – Присматривайся и учись. Может, люди будут.
Но не вышли из Кузьмича «люди» у нагревательных печей. Не по его силе была эта работа. Приходилось вдвоем с другим парнем, который был постарше, перевозить тачками и перебрасывать в печь за смену целый вагон угля. Тогда нагревательные печи не на газе, как сейчас, а на угле работали. А стальные слитки, перед тем, как они должны идти на прокат, надо нагреть до тысячи градусов. Это тебе не фунт изюма... Слитки подавались в печь не сталкивателем с рольганга, как сейчас, – тачками подвозились, ломиками сваливались. А в печи их тоже надо было ломиками переворачивать, чтобы равномерно нагревались. Ну, попробуй двадцать два пуда перевернуть ломом через топку! Какую это силу нужно иметь?..
– Кантуй, кантуй, парень, – кричит старший сварщик-нагревальщик.
Но где уж его кантовать тринадцатилетнему мальчишке? Сует ломиком, а слиток и не шевелится. Тогда подходит сам сварщик, берет ломик, начинает кантовать.
А однажды парень так угорел у печи, что его отливали водой.
– Знаешь, парень, что я тебе скажу... Пока ты станешь сварщиком, я сам ноги вытяну. Помощи от тебя – ноль градусов... Здесь сила нужна. А у тебя ее, как у воробья. Поищи себе другую работу.
Нет, парень не обиделся на сварщика. Это же благодаря его помощи он остался на заводе. Сварщик сам пошел в мартеновский, попросил, чтобы Гордого приняли подручным. С тех пор Георгий Кузьмич не отходил от мартена.
Что за печь была, когда он впервые подошел к ней! Руду и известняк лопатами забрасывали. Пятьдесят тонн надо было лопатами перебросать. Бросаешь, бросаешь, пока печень не оборвешь. А сталевар, чернобородый черт, кричит:
– Охота!.. Шевелись.
Это он Гордого так называл, потому что тот ко всему приглядывался ко всему охочий был. Парень спины не разгибает, а чернобородый сидит, самогон цедит и луком заедает...
А то еще мастера вспоминает. О, этого пузатого Кузьмич никогда не забудет! Ходил в жилетке, серебряная цепочка от часов на живот свисала. Даже фамилию его Кузьмич помнит – Дятлов.
Пробу стали расковывали в плюшку, подносили ему. А он ее ломает и рассматривает что-то на изломе.
– Что вы там видите, господин мастер? – спросил у него парень.
– На, Охота, понюхай, чем пахнет!..
И ткнул острым стальным куском в лицо. Так парень и залился кровью...
– Много будешь знать – рано состаришься.
С тех пор немало воды утекло. Но до сих пор у Кузьмича видно кривой рубец над правой бровью...
– Так на наших головах науку записывали, – закончил свой рассказ Кузьмич, из-под густо бровей поглядывая на Валентину.
Валентина шла рядом, слушала отца и даже не задумывалась над тем, что рассказ Кузьмича имеет какую-то цель. И вот Кузьмич кашлянул и, сделав большую паузу, между прочим добавил:
– А тебе министерство аж с Урала человека на помощь прислало... И ты отказываешься. Мол, мое личное дело... Не по службе. Хочу – показываю людям, хочу – нет... хочу – принимаю их помощь, хочу – не принимаю. Нам, дочка, так никто не помогал. Боялись, чтобы мы хлеб у них не отбили...
Только теперь Валентина поняла, для чего Кузьмич рассказывал ей о своей тяжелой молодость.
– Папа, не могу я. Вы же знаете...
Она подумала – Виктор сейчас на других заводах. Уже недели три. Может, решил не беспокоить ее?.. И вдруг почувствовала, что это принесло бы ей еще больше боли.
– Не горячись... Я, может, сам такой, что в затылок бы его вытолкал. И все же министерство прислало. Значит, он что-то понимает. Тебя никто не может принуждать... А ты все-таки подумай.
Валентина довольно хорошо знала Кузьмича, чтобы не понять, что этот совет никак не соответствует его резкому, прямолинейному характеру. Видимо, на этот разговор его надоумил Федор и, видимо, не желая сам об этом говорить с ней, приложил немало усилий, чтобы уговорить старика выполнить его просьбу.
Валентина не ошибалась. Действительно, Федор недавно не на шутку удивил Гордого своей необычной просьбой.
– Вам удобнее поговорить об этом. Она вас послушает, – уговаривал он Георгия Кузьмича, зайдя к нему вечером. – Работа над изобретением зашла в тупик. Возможно, Сотник сможет посоветовать что-то полезное.
– Разве на Сотнике свет клином сошелся? – удивлялся и возмущался Кузьмич. – Подумаешь, какой ученый! Знаем таких. Присвоит и за свое выдаст. Такое тоже бывает.
– А мы где будем?.. Да и не способен Виктор на это. Я читал его статью о магнитогорцах. Она меня убедила, что Сотник именно тот человек, который сможет серьезно помочь.
Гордый сначала не соглашался, ворчал, даже обругал Федора.
– Не понимаю я тебя. Когда считал, что он на фронте погиб, – требовал, чтобы Олега на твою фамилию записали. Теперь ясно, что Сотник – хлыщ... А у тебя где и самолюбие делось.
Но под влиянием Федора старик поверил, что Сотник сможет помочь Валентине в ее работе над интенсификатором. И если Кузьмич согласился выполнить просьбу Федора, то только в интересах дела, в интересах Валентины. Здоровье у нее не очень крепкое, а работает много, по ночам сидит. Хотя бы уж скорее кончала и поехала на курорт. Ишь, как похудела за последние недели!..
Валентина, скрывая улыбку, невольно просившуюся на ее губы, глянула на Кузьмича, сказала:
– Хорошо, папа. Я подумаю.
В кабинете директора завода происходил разговор между Федором Голубенко и Виктором Сотником.
Все оказалось значительно проще, чем они ожидали. В объятия, конечно, не бросились. Но и острой неприязни друг к другу не почувствовали. Перед Виктором сидел совсем не тот Федор, которым он знал его в юности, и даже не тот, каким встретил его когда-то на вокзале. И дело не только в преждевременной старости, – седина Федора могла бы даже украсить его лицо, если бы на всем его облике не лежала тень удручающей скрытой грусти. Впалые щеки, мешочки под глазами, глубокие морщины на лбу, – все это делало его значительно старше, чем он на самом деле был. «Вот как идут годы! А мы и не замечаем... Ждем нового года, радуемся ему. Но только после долгой разлуки видишь, как постарели бывшие друзья. Это же, видимо, и он сейчас заметил, как я изменился за эти годы», думал Виктор Сотник, сидя напротив Федора в глубоком кресле.
Но он ошибался. Несчастье значительно меньше подтачивало его молодость, чем ворованное счастье – молодость Федора.
А Голубенко думал о странных противоречиях в собственных чувствах. Он виноват перед Виктором. Это так. Когда не смотрел в его лицо, – мучительно чувствовал свою вину. Сейчас же увидел его, молодого, сильного, волевого, – и чувство вины исчезло...
– Спасибо, что выручил меня из той передряги. Какая-то дикая история, – сказал Виктор.
– Не стоит об этом и говорить.
Гнетущее молчание. Первым его нарушил опять-таки Виктор. Ему сейчас трудно сосредоточиться на производственных вопросах, но другой темы для разговора он не находил.
– Когда должны новую домну на фундамент ставить?..
– Все работы закончены. Сегодня. Мне обязательно надо быть там.
Федор хотел спросить, почему Сотник не заходил на завод несколько недель, но вспомнил разговор в обкоме о его работе на других заводах... Да и бестактным был бы этот вопрос. Не сидеть же ему в приемной в течение месяца, ожидая, пока Голубенко решится принять! А Виктор хромает... Ранение не прошло бесследно.
Сотник поднял голову.
– Если ты не возражаешь, я бы тоже хотел посмотреть. Чья идея?..
– Можно сказать, коллективная. Жаль было разрушать старую, пока новая не выстроена. Как-никак, а она нам верой и правдой служила. Старушка, конечно...
Виктор нетерпеливо поднялся. И для него, и для Федора было понятно, что разговора у них не получится.
– Очень интересно. Как говорят, век живи – век учись... Ну, что же, Федор... Может, пойдем?
Федор крутил в пальцах карандаш, что-то сосредоточенно думая. Затем тоже поднялся, прошелся по кабинету.
– Хорошо... Пойдем.
Они зашли в лабораторию, когда Валентина и Лида их меньше всего ждали. Не только Валентина – даже Лида покраснела и растерянно встала из-за стилоскопа.
– Валентина, проведи, пожалуйста, в твою лабораторию, – спокойным голосом сказал Федор.
Валентина инстинктивными движениями поправила волосы, одернула халат. Белый фарфоровый челнок, куда насыпается металлическая стружка для анализа, задрожал в ее руке. Она не знала, зачем его взяла и куда его теперь поставить.