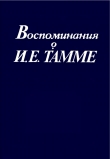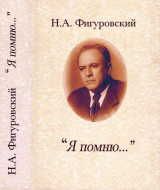
Текст книги "Я помню... (Автобиографические записки и воспоминания)"
Автор книги: Николай Фигуровский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 47 страниц)
Интернат
После рождественских каникул, в самом начале 1917 г. я переселился из семинарского общежития в так называемый «интернат» для детей служащих Психиатрической колонии. Еще в 1916 г. родители трех десятков детей-учащихся в Костроме учредили этот интернат, получив какую-то материальную поддержку от Губернского земства, а главное – некоторое сравнительно устойчивое снабжение продовольственными продуктами.
Я был принят в интернат и поселен как один из «взрослых» (я был рослый парень) в дальней и несколько менее удобной по сравнению с другими комнате, имевшей выход в большой парк со старыми деревьями и заросшими дорожками. Дом, где размещался интернат, был на одной из окраинных улиц Костромы против училища слепых (названия не помню). Столовая интерната отличалась от семинарской столовой, напоминавшей монастырскую трапезную. В ней был «советский порядок», мы обедали вместе с девочками, что, по мнению родителей, должно было «облагораживать» наши нравы. В комнате вместе со мной жили Борис Мешков – гимназист 5 класса и Эдгар Озол (беженец) – латыш, который учился в 6 классе реального училища.
Мы довольно быстро подружились, несмотря на совершенно различные интересы в учебе, на совершенно различное воспитание и привычки. Впервые мне приходилось жить с людьми, которые не носили привычных фамилий Преображенский, Воскресенский, Аристов и т. д. Эдгар Озол до известной степени был для нас «иностранцем». Я впервые увидел, что кроме моих интересов – изучения Библии и греческого языка, у людей могут быть совершенно иные интересы, более серьезные и обширные, сравнительно с семинарскими. Мешков более всего занимался математикой, решал задачи, которые для меня были недоступны по своей сложности. Озол же увлекался другими делами, в частности – биологией, о чем я до тех пор совершенно не слыхивал.
По вечерам мы затевали разговоры и дискуссии. Вначале каждый говорил о своем. Дискуссии вскоре превратились в споры о всем – о жизни, литературе, о биологии и физиологии. В этих спорах становилось для меня понятным, что религиозная идеология, к которой я совершенно привык и считал ее единственно возможной для людей, отнюдь не является единственной. Оказывается, можно жить и без веры в Бога и в библейские истории. Оказывается, был какой-то Чарльз Дарвин, создавший эволюционную теорию, о чем я никогда не слыхал.
Признаться, когда в долгих спорах, продолжавшихся до поздней ночи, меня припирали к стенке с моими религиозными доводами и аргументами, ночью я не раз плакал, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Споры мы вели изо дня в день, я знакомился с многими, совершенно неожиданными для меня сведениями, стал читать книги, имевшиеся под руками, в частности учебники гимназические и реального училища. По инициативе Э.Озола вскоре мы принялись даже за вивисекции. В субботу мы отправлялись в Никольское, а в воскресенья вместе шлялись по колонии. По сугробам мы пробирались к реке Сендеге и в незамерзших местах обнаруживали в воде лягушек, складывали их в мешок и замораживали. К вечеру с такой добычей мы возвращались в интернат. Скальпель было нетрудно достать, и мы, оттаяв очередную лягушку и усыпив ее эфиром, резали, конечно, довольно «зверски», но все же научились различать внутренние органы.
Производили мы и другие «опыты». Помню, однажды мы ввели с помощью медицинского шприца порцию эфира интернатскому коту. Он, вырвавшись из наших рук, некоторое время беспокойно ходил по комнате, слегка пошатываясь. Затем он стал бегать и прыгать так высоко, что невольно становилось страшно. Прыгал он выше чем на метр вверх и при этом странно мяукал. Через полчаса, в течение которого нам не удалось его поймать, он как будто успокоился и смотрел на нас дикими глазами. Затем он заснул таким мертвецким сном, что не обращал внимания ни на какие наши приставания. Спал он около суток.
Интернатом управляла надзирательница, которая обычно ходила по всем помещениям с глупым озабоченным выражением на лице. Она постоянно подозревала, что мы занимаемся лишь хулиганскими выходками и больше ничем другим. Но мы, в особенности обитатели нашей комнаты, вели себя в общем серьезно и отваживались (когда она нас уже сильно подозревала) на невинные словесные шутки, которые, однако, ее взвинчивали, и она сразу же бежала к телефону звонить в Никольское к родителям. Ребята (не мы) скоро, однако, прекратили эти звонки. Доведя ее «до звонка», ребята незаметно отвинчивали ручку от телефонного аппарата (в то время были индукторные телефоны), так что позвонить было невозможно, отвечать же на чужие звонки вполне возможно. Не имея возможности позвонить, надзирательница выходила из себя часа на два и после, когда ручка аппарата оказывалась на месте, она все же звонила и жаловалась оптом на всех.
Наша троица в задней комнате почти не общалась (за исключением общих трапез) с другими детьми, которые были моложе нас. Кстати, кормили нас удовлетворительно.
Утром мы вставали в положенное время, умывались, завтракали и шли на занятия в свои учебные заведения. Так как семинарских помещений, в значительной степени отвоеванных солдатами, уже не хватало для занятий, мы на некоторые уроки ходили довольно далеко в Епархиальное училище, размещавшееся на пригорке и хорошо видимое. При этом, конечно, принимались меры, чтобы мы не общались с епархиалками, хотя у многих семинаристов в Епархиальном училище были сестры и родственницы. Поэтому мы, собственно, и не видели епархиалок, которые были в соседних классах.
Вспоминается лишь один случай, когда все Епархиальное училище привели к нам в семинарскую церковь. Умер учитель семинарии и Епархиального училища – Ильинский, и в семинарской церкви состоялось общее отпевание. Слева в церкви стояли все семинаристы тесными рядами, справа – епархиалки. Многие песнопения пели все общим хором почти в 1000 человек. Хотя спевок не было, пели очень стройно всю обедню и отпевание. Это было настолько величественно и красиво, что я до сих пор вспоминаю этот случай. Больше мне не приходилось слышать пение такого замечательного хора.
После уроков мы возвращались в интернат, обедали и обычно втроем шли на прогулку, чаще всего в сад при доме, иногда же гуляли по ближайшим улицам, занятые разговорами. За нашей «троицей» уже не наблюдали, мы считались достаточно взрослыми.
Положение в семинарии в 1916/17 учебном году ухудшилось. Дисциплина резко упала. Старшеклассники, иногда вместе с приезжавшими после окончания военных училищ и школ прапорщиков бывшими семинаристами, чаще ходили на Щемиловку – пить «кумушку» и, возвращаясь в общежитие, устраивали небольшие дебоши. Разговоры о «конституции» становились все настойчивее, а еще за год до этого само слово «конституция» многим было непонятно. В такой обстановке мы пережили и Февральскую революцию.
Февральская революция
В начале 1917 г. мы занимались в семинарии все же почти обычным порядком, если не считать, конечно, изменений, вносившихся войной и разрухой. Шел Великий пост. Каждую среду и пятницу перед занятиями мы шли в семинарскую церковь на «преждеосвященную» обедню. Слухи о событиях в Петербурге (Петрограде) до нас доходили, но пока не вызывали в семинарской среде «брожение умов». Газет в семинарии не полагалось. Мы только мельком слышали таинственные разговоры старшеклассников о «конституции» и прочем.
14 февраля, помнится, была среда. Утром вся семинария собралась в церкви. Пели преждеосвященную обедню. Я был на хорах, окнами выходивших на Волгу. Семинарист – знаменитый бас, стоял посредине церкви и мощным голосом выводил «Да исправится молитва моя». Все шло обычно. И вдруг через окно мы увидели, как с противоположного берега Волги на лед спускается большая толпа, впереди которой развевается большое красное знамя. Мы все от неожиданности забыли, что надо петь, и напряженно глядели на Волгу.
Хорошо, что регент, сам удивленный зрелищем, быстрее замахал камертоном и мы «отхватили» остаток обедни, к удивлению стоявших внизу и ничего не знавших семинаристов. Обедня закончилась приблизительно тогда, когда толпа с красным знаменем приблизилась к нашему берегу Волги. Сразу узнали о всем все семинаристы и заволновались.
В конце обедни в церковь вдруг явился сам ректор Чекан и прошел в алтарь. Когда кончилась обедня и семинаристы уже стали расходиться, он вышел на амвон и сказал нам речь: «Любезные воспитанники, помните 1905 год, помните, сколько тогда погибло народу, сколько людей оказалось в тюрьмах… Несколько семинаристов попали тогда по глупости… Не ходите на улицу..!» Он говорил не более 5 минут в этом роде. Но вместо успокоения речь ректора вызвала крайнее любопытство и произвела совершенно противоположное действие на семинаристов. В рядах раздался громкий шепот: «Революция!».
Сразу же по выходе из церкви, стихийно в коридорах стали собираться толпы семинаристов, громко обсуждавших события. Знатоки передавали, что в Петрограде произошла революция и т. д. Все стихийно бросились к раздевалкам, в попытке одеться и выйти на улицу, чтобы своими глазами посмотреть, что делается. Но сторожа в раздевалках, очевидно, получили «инструкции» и не давали нам одеться. Появился инспектор с помощниками и несколькими преподавателями на помощь сторожам.
Множество ребят сгрудилось возле окон классов и занятных комнат второго этажа, выходивших к Волге. Демонстрации рабочих завода металлических изделий «Пло» уже не было видно. Но вот показалась огромная колонна солдат в строю, проходивших мимо здания семинарии. Через форточки ребята стали переговариваться с солдатами, крича: «Идите к нам, сюда!» Но тут же мы увидели, как сторож Василий вышел из боковой двери (слева от нас) – единственного выхода из семинарии (стесненной солдатами) к калитке, закрыл ее и повесил огромный семинарский замок. Выход из семинарии был закрыт.
Раздались звонки, зовущие на уроки. Но никто не шел от окон. Вдруг все стихийно снова бросились к раздевалкам в надежде взять их приступом (шкафы с шинелями). Но инспектор и преподаватели, взявшись за руки, преградили нам путь. Тогда через форточки ребята закричали солдатам: «Нас не пускают… давайте, помогайте..!» Несколько солдат перелезли через высокую ограду. За ними бросились другие солдаты. Некоторые из них сразу же взялись за замок на калитке и взломали его. Дверь в помещение семинарии также оказалась закрытой. Тогда солдаты начали бить по ней прикладами. Ее пришлось открыть, и через несколько минут большая толпа солдат оказалась в помещениях семинарии. Появился сам ректор. Преодолевая шум, он взывал к семинаристам: «Любезные воспитанники, не ходите на улицу… убьют».
Какой-то солдат подошел к ректору и, взяв винтовку под мышку, сложил руки горстью и попросил благословения. Получив его, он сказал: «Батюшка, отпустите их…» Но ректор снова начал: «Любезные воспитанники…» В это время к нему подошел другой солдат и, взяв винтовку «на изготовку», он громко рявкнул: «Если не отпустишь ребят, выпущу кишки!..», или что-то в этом роде. Все мы за всю семинарскую жизнь получили впервые удовольствие, увидев человека, который ни во что не ставил нашего ректора. Солдат, между тем, продолжил угрожающую речь, прибавив что-то вроде «старого черта». Ректор, видимо, перепугался и махнул рукой. Все мы бросились к шкафам раздевалки и через какие-нибудь пять минут уже строились колонной на улице. Кое-кто затянул песни. Не дожидаясь остальных семинаристов, которые продолжали выбегать из калитки, мы тронулись к Молочной горе. Возбуждение было необычайное. Но песни, которые запевали в толпе, были совершенно неподходящие. И, наконец, нашелся один, начавший «Смело, товарищи, в ногу…». И оказалось, что эта совершенно запрещенная песня знакома многим. Мы направились к памятнику Сусанину.
Теперь в Костроме стоит другой памятник Сусанину, на мой взгляд, вовсе неудачный. Наш костромской мужик, не надевавший, отправляясь в пеший поход, даже в мороз ничего другого, кроме овчинного полушубка, изображен в теперешнем памятнике в роскошном тулупе. На старом памятнике фигура Сусанина была более достоверной, хотя смысл памятника был другой – преклонение царю.
У памятника собралась огромная толпа, состоявшая из солдат, рабочих с красными знаменами, горожан и семинаристов, перемешавшихся и галдевших. Многие бродили по площади, чего-то ожидая.
Я уже не помню, были ли в тот вечер речи. Слишком много пришлось слышать речей на почти каждодневных митингах в 1917 г. В памяти остались лишь толпы с красными флагами, маршировавшие по улицам и площадям.
Побродив в толпах часа три и не увидев ожидавшегося вмешательства полиции, мы разошлись по домам, обсуждая еще не вполне понятные события дня. Дома, в интернате, из газет мы узнали о революции в Питере, об отречении царя и т. д. Разговоры в интернате о революции не внесли полной ясности в дело.
На другой день по инерции все мы отправились на занятия. Не без удивления мы узнали на первом же уроке словесности, что наш Конокотин изменил свои взгляды на литературу. Отбросив схоластику, он вдруг с воодушевлением заговорил о Л.Толстом, о его главнейших произведениях, о языке писателя. Мы на сей раз слушали с интересом. Ведь еще вчера Толстой считался запрещенным у нас писателем.
Впрочем, в общем занятия как-то не клеились. На уроках присутствовали далеко не все ученики. На переменах мы горячо обсуждали происходящие события, формирование «временного правительства», предположения о созыве учредительного собрания и прочее… В семинарии происходили неожиданные перемены. Уже через две-три недели после революции мы узнали, что ректора Чекана устраняют от руководства семинарией, как черносотенца. Куда-то исчез и инспектор Иустинов. Некоторые преподаватели из молодых вели себя необычно активно. Шли разговоры об изменении программ обучения. Занятия в семинарии продолжались кое-как. Многие, а вслед за ними и я, перестали посещать уроки, особенно священного писания. Мы много бродили по городу, примыкали к митингующим, слушали речи. Мои друзья по комнате еще ходили на уроки, но и они вскоре сдались. Приходя иногда в семинарию, мы наблюдали, как казеннокоштные семинаристы от нечего делать пытались ломать семинарскую мебель так просто, от избытка сил.
Положение в Костроме весной 1917 г. усложнилось. Длиннейшие очереди стояли за продуктами, особенно за сахаром. Даже в интернате наступили перебои в питании. Часто я, сильно проголодавшийся, шел в Ипатьевскую слободу к тетке Авдотье, и она безропотно кормила меня крахмальными лепешками, сделанными без масла. Наконец и интернат наш распался, и я уехал в Никольское к отцу.
Многие семинаристы еще ранее разъехались по домам.
Лето и осень 1917 года
В Никольском было также невесело. Снабжение больных и служащих ухудшилось. Скоро у нас чувство голода сделалось постоянным и привычным. Главной нашей заботой было найти чего-нибудь поесть. Скоро пошли в ход голуби, которых мы, мальчишки, скоро переловили. Дома ни отец, ни мать, несмотря на голод, долго не отваживались попробовать голубятины. Отец считал «грехом» убивать птиц, олицетворявших, по его представлениям, «духа святаго». Вскоре пошла в ход конина. Отец и мать долго крепились, отказываясь от такого мяса. Только через пару месяцев они присоединились к нам и стали есть конину.
В связи с войной и нехваткой грамотных людей, отца уговорили занять должность заведующего продовольственным складом колонии. Самого продовольствия в складе в то время почти не было, хранился лишь неприкосновенный запас. Большая часть склада была заполнена разного рода хозяйственным барахлом – разного рода оборудованием для пекарни и кухонь, которое теперь оказалось почти ненужным. Дело, за которое взялся отец, совершенно не соответствовало ни его характеру, ни сложившимся наклонностям. Он постоянно находился в страхе, все ли цело на складе, не обманули ли его пекари и повара, получая продукты. Он, произведя дневные выдачи по требованиям, полдня ежедневно считал – все ли на месте. Через полгода он не вынес и отказался от должности.
Приехав в Никольское в марте, я вместе с друзьями был озабочен стремлением как-либо поддержать семью. Мы нашли наконец работу – нанялись сбрасывать с крыш зданий снег. Платили нам немного, но все же это был заработок. На этой работе я научился курить. Мои товарищи Василий Прохоров и Иван Кириллов уже курили. Каждый час во время работы они делали перерыв для перекура, я же сидел и смотрел на них. Вскоре я, однако, соблазнился и вместе с ними стал вертеть козьи ножки и затягиваться махоркой. Сначала я побаивался, что о курении узнает отец, но вскоре, как-то само собой, мы стали курить вместе, деля скудные табачные запасы.
С наступлением весны мы получили работу в лесу на заготовках дров. Мы также работали втроем, выставляя в день 6–8 полусаженков дров. К сожалению, мы не умели как следует точить пилы, как настоящие пильщики. Да и кормежка была совершенно неважная, не соответствующая тяжелой работе и нашей молодости. Но мы тянулись. Поздней весной наша работа закончилась, и мы перешли на случайные заработки. Я плел корзины из ивовых прутьев и продавал их бабам в близлежащих деревнях. Вернее – выменивал на картошку. Это было некоторым подспорьем для бюджета семьи. Кроме того, мы затрачивали немало времени на ловлю голубей и грачей и, наконец, приучили отца и мать есть такие новые для них кушанья.
С наступлением лета в колонии началась эпидемия дизентерии и голодного тифа. Среди больных начался настоящий мор. Дизентерией болели и служащие. В нашей семье заболели все, кроме, пожалуй, меня, не брезговавшего грачиным супом. Брат Алексей перенес дизентерию и, едва выздоровев, заболел брюшным тифом. Заболела и умерла сестра Машенька. Труднее всего болел младший брат Павел. Болели отец и мать. Месяца два в нашей квартире был настоящий лазарет. Мне приходилось довольно туго. Самое страшное, что эти заболевания трагически отразились на всех много лет спустя.
Брат Алексей, перенесший два тяжелых заболевания, наконец, с трудом поправился. Он потерял способность даже расти и на остальную жизнь остался низкорослым. Он был очень способным и, несмотря на невзгоды и на то, что он был сыном попа и соответственно даже преследовался, он сделался видным работником торговли и работал в кооперации в Иванове. Но уже в 1925 г. последствия перенесенных болезней дали о себе знать. Он заболел раком и умер в Иванове в 1926 г. Мы с отцом похоронили его.
Брат Павел болел еще более тяжело. Одно время казалось, что уже никаких надежд вылечить его нет, но его выручила соседка – врач Марья Алексеевна. Она решила использовать последнее средство. Из своих запасов она принесла немного портвейна и влила его насильно Павлу. Помню, он заснул и, проснувшись, начал медленно поправляться. У него вылезли все волосы на голове, а потом он вновь стал учиться ходить. Несмотря на это, он через несколько лет «выровнялся» и казался здоровым парнем, много лет помогавшим отцу по хозяйству уже в Пречистой. Он далее приехал ко мне в Нижний Новгород, поступил учиться к квалифицированному стеклодуву по лабораторным приборам и стал крупным мастером-стеклодувом. В связи с этим он несколько увлекся водочкой. Он выучил своему мастерству много учеников, которые его любили. Но в пятидесятых годах он заболел раком – следствие перенесенных болезней, и умер.
Болела и сестра Татьяна и родители. Они буквально преодолели болезнь напряжением воли. В такое тяжелое время, почти без питания, они нашли силы, чтобы заботиться о семье, несмотря на болезнь. Теперь трудно представить себе, как было пережито это тяжелое время. Только во второй половине лета стало несколько легче. Появилась огородная зелень. Изредка удавалось достать крынку молока. Хлеба было очень мало. Вместо него приходилось употреблять «дуранду», то есть жмых, оставшийся после выжимки масла на маслобойках. Хорошо еще, если жмых был льняным. Не хватало соли. Я продолжал плести корзины из нечищеных ивовых прутьев для картошки и менял их на молодую картошку. Работа эта не тяжелая, но требовавшая много времени. Приходилось далеко ходить за прутьями. В августе-сентябре пришлось работать у мужиков – копать картошку. А попоздней мы с сестрой Татьяной ходили в уже опустошенные поля собирать оставшиеся после копки клубни. Таким путем удавалось иногда кое-чего набрать.
Голод продолжался и следующей зимой. Семья наша как-то втянулась в беспроглядную нужду, хотя делались попытки использовать все возможности для добычи пищи. Зимой 1918 г. большую часть времени я провел дома и занимался подшивкой валенок. Нужда была такой, что однажды с сестрой мы ходили в ближайшие деревни «сбирать». Сестра вместе с братом Алексеем ходили сбирать неоднократно. Тяжелое это занятие. Но что было делать? Мы были счастливы, если удавалось собрать несколько кусков хлеба и картошек.