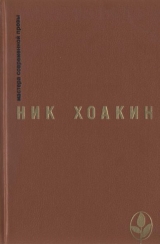
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА-ФИЛИППИНЦА
ЭЛЕГИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ
Как еще, если не из обычая и церемонии,
Рождается целомудрие и красота?
Йейтс
NICK JOAQUIN
A Portrait of the Artist as Filipino
An elegy in three scenes Manila, 1952
Перевод И. Подберезского

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кандида Марасиган, дочь Лоренсо, старая дева.
Паула Марасиган, дочь Лоренсо, старая дева.
Пепанг, их замужняя старшая сестра.
Маноло, их старший брат.
Битой Камачо, друг семьи.
Тони Хавиер, квартирант в доме Марасиганов.
Пит, редактор журнала «Санди Мэгэзин».
Эдди, журналист.
Кора, фотокорреспондент.
Сюзен, актриса варьете.
Виолетта, актриса варьете.
Дон Перико, сенатор.
Донья Лоленг, его жена.
Пэтси, их дочь.
друзья доньи Лоленг
Эльза Монтес.
Чарли Даканай.
друзья Марасиганов
Дон Альваро
Донья Упенг, жена дона Альваро
Дон Пепе
Дон Мигель
Донья Ирене, жена дона Мигеля
Дон Аристео
Охранник.
Детектив.
Первый полицейский.
Второй полицейский.
Действие первое. Зал в доме Марасиганов в Интрамуросе Начало октября 1941 года, после полудня.
Действие второе. Там же. Неделю спустя, позднее утро.
Действие третье. Там же. Два дня спустя. Второе воскресенье октября, полдень.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕЗанавес поднимается. За ним второй занавес, изображающий руины Интрамуроса в лунном свете. Края сцены в тени. Битой Камачо стоит слева. Начинает говорить, оставаясь невидимым – голос из мрака.
Битой. Интрамурос! Старая Манила. Настоящая Манила. Благородный и навеки преданный короне Город…
Для первых конкистадоров она была новым Тиром и Сидоном, для первых миссионеров – новым Римом. Сюда, под защиту этих стен, стекалось богатство Востока: шелк Китая, пряности Явы, золото, слоновая кость и драгоценные камни Индии. Под этими стенами собирались воины Иисуса, чтобы подчинить Восток кресту. По этим старым улицам некогда шествовала великолепная толпа: вице-короли и архиепископы, мистики и торговцы, языческие колдуны и христианские мученики, монахини, куртизанки и элегантные маркизы, английские пираты, китайские мандарины, португальские дезертиры, голландские шпионы, мусульманские султаны и янки – капитаны клиперов. В течение трех веков этот средневековый город был Вавилоном в делах торговли и Новым Иерусалимом в своей непоколебимой вере… А теперь смотрите, вот все, что от него осталось. Бурьян, битые кирпичи, покореженное железо. Здесь кусок стены, часть лестницы – а там, дальше, покалеченный готический фасад церкви Санто Доминго… Quomodo desolata es, Civitas Dei! [139]139
Как опустел ты, Град Божий! (лат.)
[Закрыть]
Вокруг Битоя постепенно светлеет.
Я стою в лунном свете и гляжу на пустынную улицу. Недавно люди умирали здесь ужасной смертью – от меча и огня, и крики их тонули в громе выстрелов. Теперь – только тишина. Тишина, лунный свет и повсюду густая, высокая трава…
Это знаменитая Калье Реаль, Королевская улица – главная улица нашей страны, главная улица нашей истории. Нет на Филиппинах города, который не имеет, или не имел бы, своей Калье Реаль. Так вот, эта – матерь всем им. По ней вице-короли торжественно въезжали в город. По этой улице в парадном шествии с развевающимися знаменами несли королевскую печать всякий раз, когда прибывали послания, написанные рукой короля. По этой улице шествовали грандиозные ежегодные процессии. На этой улице стояли дома знати – величественные старинные строения под красной черепицей с чугунными балконами, с фонтанами, бившими в патио.
Когда я был маленьким, некоторые из этих старинных домов еще стояли – но как они уже тогда обветшали! Уже не великолепные, уже не обиталища сильных мира сего, они, брошенные и забытые, истлевали, погруженные в мечты о минувшей славе, с годами становясь все темнее, покрываясь копотью, разрушаясь, и конце концов превратились в трущобы, где сдавалось внаем жилье, – там чуть ли не дюжина семей ютилась в каждой из прежних великолепных комнат, кучи отбросов громоздились в патио, а между осевшими балконами болтались веревки для белья…
Интрамурос умирал, Интрамурос погибал еще до войны. Вернулись джунгли – современные джунгли, джунгли-трущобы. Они были столь же беспощадны, столь же неудержимы, как и настоящие, – они уничтожали историю людей, пожирали их памятники. Благородный и навеки преданный короне Город превратился в трущобные джунгли. Таким он остался в памяти почти всех нас – величественный город наших отцов!
Но был на этой улице дом, который не поглотили трущобы, который сопротивлялся джунглям до самого конца. Он упрямо боролся за то, чтобы сохранить себя, сохранить свое лицо. И понадобилась мировая война, чтобы уничтожить этот дом и тех трех человек, что боролись за него. Они погибли со своим домом, со своим городом – и это, быть может, к лучшему. Они бы ни за что не пережили гибели старой Манилы…
Дом стоял на углу Калье Реаль. Часть стены, груда битого кирпича – все, что осталось от него, от дома дона Лоренсо Марасигана. Здесь стоял этот дом на протяжении жизни многих поколений. Да, снаружи его тоже можно было принять за сдаваемую внаем трущобу. Выглядел он точно так же, как и другие старые здания на этой улице: потемневшая от мха крыша, осевшие балконы, неокрашенные стены в трещинах… Но стоило пройти за ограду, толкнув старинную массивную калитку, и вы видели перед собой тщательно подметенную дорожку, чистый уютный патио… Ни мусора, ни веревок для белья. Поднявшись по вощеной лестнице в сверкающий зал, вы попадали в другой мир – мир, «где все привычно и размеренно»…
Внутри сцены загорается свет. Через прозрачный занавес виден зал в доме Марасиганов.
И дело не только в морских раковинах вдоль лестницы, в барочной мебели, в старых портретах на стенах, в семейных альбомах на полках. Сама атмосфера дома говорила об иной эпохе – эпохе ламп и газовых рожков, эпохе арф, бакенбард и элегантных карет, эпохе утонченных манер и мелодрамы, эпохе религии и революции.
Поднимается второй занавес.
Его больше нет – нет дома дона Лоренсо Великолепного. Ничего не осталось, только часть стены и груда битого кирпича. Но вот каким он был до своей гибели. И я уверен, точно так же он выглядел и сто лет назад. Он оставался прежним, не меняясь. Я помню его с раннего детства – он всегда был таким. Я рос, вокруг меня рос и быстро менялся город, все преображалось, ни в чем не было постоянства. И лишь одно казалось мне незыблемым – этот дом. Это было единственное место, куда я мог прийти и застать все в неизменном виде. Старше – да. Старше, темнее и молчаливее. И все же – прежним, каким я его запомнил маленьким мальчиком, когда отец приводил меня сюда по пятницам вечером.
Зал уже полностью освещен. Это большая комната, тщательно убранная, с натертыми полами, – но все в ней, и прежде всего мебель, говорит о годах запустения. Краска на стенах потемнела и местами сошла. Оконные стекла в трещинах. Дверные проемы покосились. Барочная элегантность потускнела. В задней стене две застекленные двери, выходящие на осевшие балконы, что нависли над улицей. В центре, между дверями, большая софа в обычном сопровождении: два кресла-качалки, круглый стол и два прямых кресла. Сейчас стол и кресла стоят перед правым балконом, дверь закрыта. Стол накрыт для мериенды. Через открытую дверь левого балкона в комнату падают косые лучи послеполуденного солнца и видны неопрятные дома напротив. Слева в глубине сцены перила лестницы, поднимающейся снизу, от задника. В середине левой стены закрытая дверь. У задней стены возле лестницы – старомодная вешалка с подставкой для зонтов и зеркалом.
Справа в глубине сцены этажерка для безделушек, заполненная морскими раковинами, статуэтками, семейными альбомами, журналами и книгами. В центре правой стены дверной проем, обрамленный занавесями. Возле него пианино. На креслах вышитые подушки, у балконных дверей и у двери справа – подставки для горшков с цветами. На стенах – над софой, пианино и этажеркой – увеличенные семейные фотографии в вычурных рамах. С потолка свисает люстра. Картина «Портрет художника-филиппинца» висит в центре воображаемой «четвертой стены» между сценой и зрительным залом. «Слева» и «справа» везде определяются по отношению к зрителям.
(Входит в комнату.) Ябыл здесь, как сейчас помню, в начале октября сорок первого года, всего за два месяца до начала войны. Тысяча девятьсот сорок первый! Помните этот год? Для народов Европы это был год Гитлера, а здесь – год конги, буги-вуги, учебных затемнений, год, когда в моду вошли платья с вырезом на животе. О конечно, мы были уверены, что война скоро доберется и до нас, но точно так же мы были уверены, что она не продлится долго и ничего, ну совсем ничего, с нами не случится. Когда мы говорили: «Не давать спуску!» или «Жизнь идет своим чередом», голоса наши звучали весело и мужественно, в сердцах не было тревоги. И поскольку мы чувствовали себя в полной безопасности, поскольку мы были так уверены в себе, мы намеренно старались чуть-чуть припугнуть самих себя. Помните мрачные слухи, которые мы же и распространяли? Мы наслаждались дрожью, когда их пересказывали, и с таким же наслаждением, дрожа, выслушивали их. Это была игра. Просто игра, чтобы пощекотать нервы. Мы были искушенными детьми, которые играют в насилие и убийство, наполовину желая, чтобы все это оказалось правдой. (Становится у лестницы, словно только что поднялся.)В тот октябрьский день я пришел сюда, и голова моя гудела от слухов. На улицах люди останавливали друг друга, чтобы обсудить события, о которых кричали заголовки газет. В ресторанах, парикмахерских «вели» войну в Европе «военные эксперты». И во всех домах, на всех улицах радиоприемники захлебывались новостями. Я был возбужден. И не только возбужден, но и чрезвычайно доволен. Ведь это доказывало, что я тоже вовлечен в поток событий, что и я озабочен – по-настоящему, благородно озабочен судьбой человечества. Итак, я поднялся по лестнице, встал здесь, у перил, и оглядел комнату, словно не видел ее с самого детства. И вдруг весь этот гам, все эти люди, заголовки, репродукторы умолкли. Я стоял здесь, а весь мир погрузился в тишину. Это было удивительно – но также и очень неприятно. Молчание комнаты казалось оскорблением, вроде пощечины. И мне вдруг стало стыдно за то благородное возбуждение, которым я так гордился. А потом меня охватило чувство глубокой обиды. Я вознегодовал на эту комнату. Я ненавидел старые кресла за то, что они стояли здесь так спокойно. Мне захотелось тут же спуститься вниз, оставить этот дом выбежать снова на улицу – к орущему радио, крикливым людям и заголовкам. Но я не двинулся с места. Я не мог. Тишина лишила меня сил. А через некоторое время негодование мое улеглось, я начал посмеиваться над собой. Впервые за долгое-долгое время слышал собственные мысли. Я ощутил, что чувствую, дышу, живу, помню. Я снова стал отдельным человеком, индивидуальностью с собственной, личной жизнью – моей жизнью. Эта старая комната снова помолодела, я вновь узнавал ее. Тишина нашептывала воспоминания… Там, за окнами, мир весело спешил навстречу гибели. А здесь жизнь текла своим чередом, ничто не менялось, все было на своем месте, все было таким же, как вчера, как в прошлом году, как сто лет назад…
Пауза.
Битой, улыбаясь, оглядывает комнату. Справа появляется Кандида Марасиган с чашкой шоколада на подносе. Увидев Битоя, останавливается в дверях и вопросительно смотрит на него. Кандиде сорок два года, она одета по моде двадцатых годов. Длинные с проседью волосы завиты и сложены в старомодный узел. Держится прямо и твердо, худощава. Ее вряд ли можно назвать красивой, но в кругу друзей она излучает девическое обаяние и невинность. С незнакомыми людьми – из-за застенчивости – склонна принимать вид неприступной старой девы. Сейчас она чрезвычайно неодобрительно смотрит на молодого человека у лестницы.
Битой. Хэлло, Кандида! (Улыбаясь, ждет, но ее лицо сохраняет строгое выражение, и он сам делает несколько шагов к ней.)Кандида, вы, конечно же, помните меня? (Идет к ней.)
Кандида (узнав его, улыбается и тоже идет ему навстречу).Ну конечно, конечно! Битой, сын старого Камачо! И тебе должно быть стыдно, Битой Камачо, очень стыдно: ты забываешь старых друзей!
Встречаются в середине сцены.
Битой. Я никогда не забываю старых друзей, Кандида.
Кандида. Тогда почему же ты… (Делает резкий жест и расплескивает шоколад.)
Битой подается назад.
(Смеется.)О, извини, Битой.
Битой. Позвольте мне взять поднос. (Берет поднос и ставит на стол.)
Кандида не отрывает от него взгляда.
(Улыбаясь, поворачивается, демонстрируя себя.)Ну как?
Кандида (подходит к нему).Такой худой? И уже столько морщин на лице? Тебе ведь не больше двадцати.
Битой. Двадцать пять.
Кандида. Двадцать пять! Подумать только! (Отходит в глубину сцены.)Когда я видела тебя последний раз, ты был маленьким мальчиком в коротких штанишках и матроске…
Битой. А когда я видел вас в последний раз, Кандида…
Кандида (быстро поворачивается и говорит с чувством).Нет! Не надо!
Битой (удивленно).А?
Кандида (смеется).О Битой, когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты поймешь – это больно!
Битой. Что больно?
Кандида. Когда тебе говорят, как ты изменилась.
Битой. Вы не изменились, Кандида.
Кандида. О нет, нет! Когда ты видел меня последний раз, Битой, (говорит как кокетливая красавица) ябыла молодой леди, неприступной молодой леди с перстнями на пальцах, с лентой в волосах, а в глазах моих сияли звезды! О, я была преисполнена тщеславия – и жизненных сил! И я была уверена, что вот-вот появится некто, прекрасный незнакомец, и увезет меня! Я ждала, ты понимаешь, я ждала своего принца Астурийского.
Битой. А его все еще нет, вашего принца Астурийского?
Кандида. Увы, он так и не появился! И никто из старых друзей уже не заглядывает сюда…
Битой. Даже вечерами по пятницам?
Кандида. Даже вечерами по пятницам. Нет больше тертулий [140]140
Дружеская встреча, вечеринка (исп.).
[Закрыть]по пятницам, Битой. Мы отказались от них. Старики умирают, а молодым – таким, как ты, Битой, – им неинтересно. (Поворачивается к двери справа и повышает голос.)Паула! Паула!
За сценой слышен голос Паулы: «Иду!»
(Подходит к Битою и берет его руки в свои.)Битой, как мило, что ты вспомнил о нас. Я просто счастлива. Ты пробудил во мне память о тех счастливых днях.
Битой. Я понимаю. И вы пробудили ее во мне – память о вечерах по пятницам, которые мы с отцом проводили здесь.
Кандида (выпускает его руки).Ты помнишь? Но ведь ты был совсем ребенком.
Битой. Я помню, помню! О, эти тертулии – я отлично помню их! По субботам собирались в доме Инсонов в Бинондо, по понедельникам – в аптеке доктора Морета в Киапо, по средам – в книжной лавке дона Аристео на улице Карриедо, а по пятницам… Послушайте, Кандида, по пятницам даже сейчас я иногда просыпаюсь и думаю: сегодня пятница, тертулия в доме Марасиганов в Интрамуросе, мы пойдем туда с папой… (Смолкает.)
В дверях – Паула Марасиган с тарелкой бисквитов. Ей сорок, в волосах седина, и на ней тоже смешное старомодное платье. Ростом она меньше Кандиды, но изящнее и застенчивее. Как и Кандиду, ее можно было бы принять за унылую старую деву, но, когда она улыбается, в ней, ко всеобщему удивлению, раскрывается веселая девушка, все еще молодая, все еще чарующая, несмотря на седые волосы.
Кандида. Ну, Паула, узнаешь, кто пришел навестить нас после стольких лет?
Паула (спешит к столу и ставит тарелку).Да это же Битой, Битой Камачо! (Подходит к Битою и протягивает обе руки.)Пресвятая дева, как он вырос! И это наш малыш, Кандида?
Битой. В коротких штанишках и матроске?
Кандида. Он с нежностью вспоминает наши тертулии по пятницам.
Паула. О, в те времена ты вечно всем мешал. Битой! Мне то и дело приходилось вытирать тебе нос или провожать в маленькую комнатку. И почему твой папа всегда брал тебя с собой?
Битой. Я так ревел, если он пытался оставить меня дома!
Паула (откидывает голову назад).Ах, эти вечера по пятницам в давние времена! Сколько мы говорили! (Легко скользит по комнате, словно во время тертулии, обращаясь к воображаемым гостям и обмахиваясь несуществующим веером.)Еще бренди, дон Пепе? Еще немного бренди, дон Исидро? Донья Упенг, пройдите сюда, к окну, здесь прохладнее! Как, дон Альваро, вы не читали последнее стихотворение Дарио? Как где? Конечно, в последнем номере «Бланко и негро»! Донья Ирене, мы говорим о божественном Рубене! Вы читали его последнюю вещь?
О дон Пепе, дон Пепе, вам не кажется, что это стихотворение – просто чудо? Глядите-ка, а вот и дон Аристео. Наконец-то! Приветствуем вас в нашем доме, благородный воин! Кандида, посади его куда-нибудь!
Кандида (подхватывает игру).Сюда, дон Аристео, пожалуйте сюда! Могу ли я спросить, дорогой дон, почему вы не были у нас прошлую пятницу? Паула, бренди для дона Аристео!
Паула (протягивает воображаемый бокал).Сегодня я запрещаю вам говорить о политике! Неужели мы навеки обречены слушать только об этом доне К. [142]142
Дон К. – первый президент автономных Филиппин Мануэль Кесон.
[Закрыть]?
Кандида. Слушайте, слушайте все! Дон Альваро рассказывает, где именно был этот дон К. во время революции! [143]143
Имеется в виду антииспанская и национально-освободительная революция 1896–1898 гг.
[Закрыть]
Паула. О да, донья Ирене, мы были на всех спектаклях, но считаем, что эта труппа слабее, чем прошлогодняя.
Кандида. А в следующем месяце приезжает итальянская опера! Горе нам, девицам! Мужчины опять будут толпиться за кулисами!
Паула. Еще бренди, дон Мигель? Еще немного бренди, дон Пепе? Донья Ирене, не хотите ли сесть за пианино? О, продолжайте, продолжайте, дон Альваро! Так вы говорите, генерал Агинальдо действительно готовил армию для последнего наступления?
Битой (голосом десятилетнего мальчика).Тетя Паула, тетя Паула, я хочу в маленькую комнатку!
Паула. Тише, тише, что за манеры! И посмотри – твой нос!
Кандида. И сколько раз мы просили тебя не называть нас тетями!
Паула. Ты должен называть нас Паула и Кандида.
Кандида. Просто Паула и Кандида – понятно?
Паула. Бог мой, мы же еще не старые девы!
Кандида. Нет, мы еще не старые девы! Мы молоды, мы прекрасны, мы очаровательны! О, послушайте, донья Упенг, вчера мы были на балу и танцевали, танцевали, танцевали до утра. (Танцуя, кружится по комнате.)
Паула. Папа говорит, что мы были прекраснее всех!
Кандида. О да, донья Ирене, папа сопровождал нас – и он был первым джентльменом!
Битой (все еще голосом десятилетнего мальчика, возбужденно показывая на дверь).Вот он идет! Он идет!
Кандида (резко поворачивается).А, наконец-то, папа! (Повышает голос.)Дон Мигель, а вот и папа! Вот и папа, донья Упенг!
Паула (тоже в радостном возбуждении).А вот и папа, дон Альваро! Донья Ирене, вот и папа!
Сестры показывают в центр сцены, когда говорят «Вот и папа!».
Кандида. Тише! Пожалуйста, тише! Папа хочет что-то сказать!
Стоят рядом, глядя в зал, руки сложены на груди, фигуры напряжены, словно они внимают отцу. Потом бьют в ладоши и кричат в радостном воодушевлении: «О папа, папа!»
Остаются в той же позе. Перед ними висит Портрет, и, когда они замечают его, выражение восторга сходит с их лиц, обе склоняются, бессильно уронив руки. Игра кончена, кончилось колдовство. Они стоят молча, угрюмо глядя вверх, – две жалкие старые девы в жалком старом доме.
Битой наблюдает за ними из глубины сцены. Потом, поняв, куда они смотрят, тоже поднимает глаза и впервые видит Портрет. Не отрывая от него взгляда, подходит к сестрам и становится позади, между ними.
Битой. Это он?
Кандида (с чувством).Да.
Битой. Когда ваш отец написал его?
Паула. С год назад.
Битой (молча вглядывается).Странная, очень странная картина.
Кандида. Ты знаешь, как он называет его?
Битой. Да.
Кандида. Retrato del artista сото Filipino.
Битой. Да, я знаю. «Портрет художника-филиппинца». Но почему, почему? Ландшафт не филиппинский… Что ваш отец хотел этим сказать? (Протягивает руку к портрету.)Юноша несет на спине старика… а за ними горящий город…
Паула. Старик – это отец.
Битой. Да, я узнаю лицо.
Кандида. И юноша – тоже наш отец, когда был молодым.
Битой (возбужденно).Ну конечно, конечно!
Паула. А горящий город…
Битой. А горящий город – Троя.
Паула. Так ты все знаешь.
Битой (улыбается).Да, знаю. Эней выносит своего отца, Анхиза, из Трои. А ваш отец изобразил себя и как Энея, и как Анхиза.
Кандида. Он нарисовал себя таким, какой он сейчас и каким был в прошлом.
Битой. Эффект, знаете, довольно устрашающий…
Кандида. А, и ты почувствовал?
Битой. У меня будто в глазах двоится.
Кандида. А мне иногда кажется, будто та фигура наверху – какое-то чудовище, человек о двух головах.
Битой. Да. «Это странное чудовище, художник…» Но как удачно ему удалось схватить эту ясную и чистую классическую простоту! Как текут линии, какие яркие цвета, какой простор, какая спокойная атмосфера! Прямо чувствуешь, как сияет солнце, как дует морской ветер! Глубина, свет, чистота, красота, изящество – и вдруг на переднем плане эти пугающие лица, загадочно улыбающиеся, словно отражения в зеркале… А позади, в отдалении – горящая Троя… Мой бог, да это великолепно! Это шедевр. (Умолкает. На его вдохновенное лицо набегает тревога.)Но почему ваш отец назвал его «Портрет художника-филиппинца»?
Паула. Что ж, в конце концов, это ведь его портрет.
Кандида. Собственно, даже двойной портрет.
Паула. А он ведь художник, и он – филиппинец.
Битой. Все так, но тогда к чему изображать себя Энеем? И почему на фоне Троянской войны?
Паула (пожимает плечами).Мы не знаем.
Кандида. Он нам не сказал.
Битой. А вы знаете, один заезжий француз написал восторженную статью об этой картине.
Кандида. О да, он был очень мил, этот француз. Сказал, что давний поклонник отца. И хорошо знал его работы – видел их в Мадриде и Барселоне. И он решил… (Умолкает.)
Битой вытаскивает блокнот и записывает ее слова. Кандида и Паула обмениваются взглядами.
Битой (выжидающе смотрит).Да? Он решил… что он решил?
Кандида (сухо продолжает).Он решил, что если когда-нибудь окажется на Филиппинах, то обязательно разыщет отца. И он приехал сюда, повидался с отцом, видел эту новую картину, а потом написал статью. Как я уже говорила, он очень милый человек, но теперь мы жалеем, что он вообще приезжал.
Битой (отрываясь от блокнота).Простите?
Кандида. Скажи-ка, Битой, ты газетный репортер?
Битой (после минутного колебания).Да. Да, я репортер.
Кандида (улыбается).Так вот почему ты решил навестить нас впервые за столько лет! (Все еще улыбаясь, отходит от него.)
Битой непонимающе смотрит ей вслед. Она подходит к столу и сбивает шоколад.
Битой поворачивается к Пауле.
Битой. Паула, в чем дело? Что я такого сделал?
Паула. О, ничего, Битой. Только теперь, если люди приходят сюда, то не к нам. Они приходят посмотреть на эту картину.
Битой. Ну и что? Вы должны радоваться, должны гордиться! Все думали, что ваш отец давно умер. И вот сейчас, после стольких лет молчания и мрака, о нем опять заговорили. Вся страна с волнением узнает, что Лоренсо Марасиган, один из величайших художников Филиппин, друг и соратник Хуана Луны [144]144
Луна, Хуан (1857–1899) – знаменитый филиппинский художник.
[Закрыть], не только жив, но и создал в столь почтенном возрасте еще один шедевр.
Паула (мягко).Отец написал эту картину только для нас – для Кандиды и для меня. Он подарил ее нам, и уже целый год она мирно висит здесь. А потом появляется этот француз, строчит о ней. И с тех пор мы потеряли покой. Не проходит и дня без посетителей: или репортер из газеты, или фотокорреспондент из журнала, или студенты из университета. А нам, (кладет руку ему на плечо)нам это не нравится, Битой. (Поворачивается и идет к столу; готовит полдник для отца.)
Битой остается на прежнем месте и смотрит на Портрет. Затем прячет блокнот и тоже идет к столу.
Битой. Простите меня, Кандида. Простите, Паула.
Паула ставит еду на поднос, Кандида сбивает шоколад.
Что ж… Думаю, мне пора.
Кандида (не глядя на него).Нет, останься на мериенду. Паула, принеси еще одну чашку.
Паула идет к двери.
Битой. Пожалуйста, не беспокойтесь, Паула. Мне действительно надо идти.
Паула (останавливается).Ну Битой!
Битой. Меня ждут.
Кандида (наливает шоколад в чашку).Садись, Битой, и хватит глупостей.
Битой. Меня ждут неподалеку, Кандида, и через минуту эти люди будут здесь.
Кандида (смотрит на него).Тоже из газет?
Битой. Да.
Кандида. Твои друзья?
Битой. Мы работаем на одну и ту же компанию.
Кандида. Понятно. И поскольку ты друг дома, тебя послали вперед расчистить путь – так?
Битой. Совершенно верно.
Кандида (смеется).Да ты негодяй, Битой Камачо!
Битой. Я сейчас спущусь и скажу, чтобы они не приходили. Кандида. Почему? (Пожимает плечами.)Пусть приходят. Паула. В конце концов, надо же нам привыкать.
Битой. Но я не хочу, чтобы они приходили.
Паула. А ты ведь считаешь, что мы должны быть в восторге от визитеров.
Битой. Нет.
Паула. Тогда чего же ты хочешь?
Битой (помолчав, опять голосом маленького мальчика).О тетя Паула, тетя Паула, я хочу в маленькую комнатку!
Все смеются.
(Выпрямляется и, уперев руку в бедро, начинает расхаживать по комнате, покручивая воображаемые усы. Теперь его хриплый голос пародирует джентльмена старой школы.)Карамба! Эти нынешние молодые люди – они просто ужасны, разве не так? Hombre,когда я был молод, еще до революции… Сеньорита, будьте столь любезны, еще немного вашего превосходного шоколада.
Кандида (протягивает ему чашку шоколада). Спревеликим удовольствием, дон Бенито!
Паула (обмахивается несуществующим веером).Пожалуйста, ну пожалуйста, дон Бенито, расскажите о ваших студенческих годах в Париже!
Битой (поднимает глаза к потолку).О Париж! Париж старого доброго времени!
Кандида. Донья Ирене, скорее сюда! Донья Упенг, спешите к нам! Дон Бенито расскажет нам о любовных интрижках с парижскими кокотками!
Паула. Они вызывают трепет? Они страстны? Они бесстыжи? О молчите, молчите! Как кружится голова, как бьется сердце! Я упаду в обморок, сейчас упаду! (Прикладывает одну руку к бровям, другую к сердцу и, вальсируя, покидает комнату.)
Кандида и Битой хохочут. Кандида снова начинает сбивать шоколад.
Битой (подходит к столу).Я действительно очень извиняюсь, Кандида.
Кандида. Да садись же, Битой, выпей шоколаду.
Битой (садится).А вам действительно многие досаждают?
Кандида. Ну, ты сам можешь представить: репортеры, фотографы, просто люди, желающие поговорить с отцом, – и они бывают так оскорблены, когда отец отказывается принять их. (Смотрит на Портрет.)А знаешь что, Битой? Эта картина как-то странно действует на людей.
Битой. Что вы хотите сказать?
Кандида. Она злит их.
Битой (тоже смотрит на Портрет).Да, пожалуй, она довольно загадочна.
Кандида. Мы объясняем. Мы всем объясняем. Мы говорим: это Эней, а это его отец Анхиз. А на нас смотрят непонимающе – кто такой Эней? Он филиппинец? (Смеется.)Вчера к нам приходили из какой-то общественной организации и были просто шокированы, услышав, что картина висит у нас уже целый год и никто ничего об этом не знал, пока не появился этот француз. Они просто взъелись на нас с Паулой за то, что мы никому ничего не сказали. Один из них, маленький такой человечек с большими глазами, упер палец мне в лицо и заявил весьма грозно: «Мисс Марасиган, я потребую, чтобы правительство немедленно конфисковало эту картину! Вы и ваша сестра недостойны владеть ею!»
Битой (тоже смеется).Теперь я начинаю понимать, что пришлось претерпеть вам с Паулой.
Входит Паула с чашкой.
Кандида. Дело вовсе не в Пауле и не во мне. Мы хотим уберечь отца. (Передает поднос Пауле.)Вот, Паула. И скажи отцу, что сын его старого друга Камачо пришел навестить его.
Паула уходит с подносом.
Битой. А как он – ваш отец (поднимает глаза к Портрету),дон Лоренсо Великолепный, себя чувствует?
Кандида (наливает себе шоколад).Совсем неплохо. Битой.
Битой. Он настолько слаб, что не выходит из комнаты?
Кандида. О нет.
Битой. Тогда в чем же дело?
Кандида (уклончиво).Несчастный случай.
Битой. Когда?
Кандида. С год назад.
Битой. Когда писал эту картину?
Кандида. Вскоре после того, как кончил ее.
Битой. И что случилось?
Кандида. Мы точно не знаем. Нас тогда не было, а произошло это ночью. Он… он упал с балкона своей комнаты во двор.
Битой (встает).Боже мой! Что-нибудь сломал?
Кандида. Слава богу, нет.
Битой. А как он сейчас?
Кандида. Он может ходить, но предпочитает оставаться в постели. И знаешь, Битой, за весь год он ни разу не вышел из комнаты. (Неожиданно прижимает кулаки ко лбу.)Это мы во всем виноваты!
Битой. Но почему? Это же был несчастный случай. Кандида (после паузы).Да… Да, это был несчастный случай. (Наливает шоколад для Паулы.)
Битой молча смотрит на нее. Паула появляется в дверях.
Паула. Битой, идем! Папа в восторге! Он просит тебя к себе немедленно!
Битой (идет к двери).Спасибо, Паула.
Кандида. Битой…
Он останавливается и смотрит на нее.
Будь очень осторожен, ладно? И помни: ты не репортер, ты друг. И пришел не затем, чтобы взять интервью или сделать снимок. Ты пришел только для того, чтобы навестить его.
Битой. Хорошо, Кандида.
Паула и Битой уходят. Кандида садится и начинает есть. На столе утренняя почта. Она вскрывает и просматривает ее. Паула возвращается.
Паула (садится и пьет шоколад).Папа действительно в восторге. Он даже поднялся с постели пожать руку Битою. Когда я уходила, они очень оживленно разговаривали. Отцу действительно лучше, Кандида! Ты не думаешь?
Кандида не отвечает. Облокотившись о стол, она смотрит на письмо, положив голову на ладонь.
(Наклоняется рассмотреть письмо.)Опять счета, Кандида?
Кандида (поднимает и один за другим роняет на стол вскрытые конверты).За воду. За газ. От врача. А это (размахивает письмом)за свет. Слушай. (Читает.)«Вновь предупреждаем вас, что, если счета не будут немедленно оплачены, мы будем вынуждены прекратить обслуживание». И это уже третье предупреждение.
Паула. Ты сказала Маноло?
Кандида. Я звонила ему, я звонила Пепанг, и они сказали: о да конечно, сейчас же высылаем деньги. Но это они говорят уже целый месяц, а денег все нет.
Паула (с горечью).О дорогие брат и сестра!
Кандида. Наши дорогие брат и сестра полны решимости вынудить нас отказаться от этого дома.
Паула. Ничего у них не выйдет. Мы с тобой останемся здесь. Здесь мы родились, здесь мы и умрем!
Кандида. Даже если они по-прежнему не будут присылать денег? Если откажутся помогать нам? Все эти счета…
Паула (задумчиво).Должен же быть какой-то выход. Кандида (наклоняется к Пауле).Послушай, у меня есть идея…
Паула (не обращает внимания).Но что мы можем поделать? Мы всего лишь две никчемные старые девы…
Кандида (встает и оглядывается).Где эта газета?
Паула. Ночами я лежу без сна и все думаю, где добыть денег, денег, денег!
Кандида (нашла газету и, стоя у стола, просматривает ее).А, вот. Слушай-ка, Паула. Здесь сказано…
На улице останавливается машина. Сестры прислушиваются, потом переглядываются. Кандида вздыхает, сворачивает газету и садится. Паула наливает себе еще шоколаду. Шаги на лестнице. Сестры берут чашки и пьют шоколад. Входит Тони Хавиер, с книгами и пиджаком в руке. Смотрит на сестер, снимает шляпу и говорит: «Добрый день, милые леди!» Отворяет дверь слева и швыряет внутрь пиджак, шляпу и книги. Снова закрывает дверь, затем, доверительно улыбаясь, проходит в зал. Ему около двадцати семи лет, вид очень мужественный, сардонический. На нем яркие рубашка и галстук, но он не вульгарен – и знает это.








