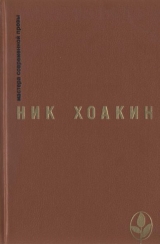
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
– Ну что, ты нашла Биликена? – спросил ее на веранде отец.
– Конни, боже мой, – воскликнула, обернувшись, мать, – что с тобой случилось?
Конни била нервная дрожь, но внешне она была спокойна.
– Там такой густой кустарник, – сказала она, – мне пришлось продираться.
– Ты исцарапала себе лицо и порвала платье.
– Извини, мама.
– Где-то здесь должен быть кран. Иди и умойся. Да, кстати, ты нашла Биликена?
Конни, уже бежавшая к крану, остановилась и оглянулась на родителей, которые стояли на веранде.
– Нет, – сказала она, – Биликена там нет.
И это было правдой – Биликена ее детства там не было. Не было веселого Биликена, который правил карнавалами и праздничными шествиями, не было и того доброго Биликена, что жил в саду во время войны. Сад, где она играла в детстве, превратился в джунгли, а Биликен – в зловещую и мрачную фигуру. А может быть, он всегда был таким? Она попыталась вспомнить, каким же он был раньше, но только что увиденный образ заслонил все: она видела устрашающую, отвратительную фигуру, непристойно откинувшуюся назад, раздвинув ляжки и выставив вперед огромный изуродованный живот. Как только могла она когда-то думать, что этот монстр добр? Как она могла любить его? «Все в этом мире не такое, как в детстве», – успокоила она себя, но тут же попыталась украдкой представить себя маленькой девочкой. Та одинокая длинноволосая девочка, что полдничала вместе с Биликеном под акациями, неужели она не видела, каков Биликен на самом деле? И может быть, те тайные встречи с Биликеном были не так уж невинны?
– Что ж, придется распрощаться с прошлым, – сказала мать, когда они шли назад к машине.
– Надеюсь, что и прошлое распрощалось с нами и не вернется, – сказал отец.
– Не будь таким суеверным, Маноло.
– Я оставлю здесь все, как есть.
– О мой дорогой!
– Я не хочу здесь ничего менять.
– Что ж, твое право – это твоя собственность.
– А ты можешь предложить что-либо получше?
– Я уже говорила тебе – есть люди, которые собираются построить здесь фабрику.
– Они получат этот участок, – сказал отец, – и они смогут строить здесь все, что им угодно, но только после моей смерти.
Оглянувшись назад, Конни увидела безобразные обгорелые балки, отбрасывавшие длинные тени. Теперь там все сгниет, а что уцелеет, растащат на дрова соседи; кустарник разрастется еще гуще и выше, и все превратится в джунгли, в темноту чернее ночной.
А потом, в тот ужасный день, Мачо спросил ее:
– Что случилось с вашим старым домом?
– Ничего. Там никто не живет.
– Почему?
– Там одни развалины да кустарник.
– Печально.
– Мы ездили туда – папа, мама и я – после того, как оттуда ушли американцы. Это было вскоре после войны.
– И что?
– Ничего. Мы просто посмотрели на то, что там осталось, и нам стало грустно. О Мачо, это было ужасно. Ты помнишь сад? Ну так вот, теперь там самые настоящие джунгли. По крайней мере так было, когда мы туда приехали. Я в них чуть не заблудилась.
– Вам надо было взять меня с собой.
– Но тебя тогда еще не было в Маниле.
– Ну а сейчас, когда мы вернулись – (они только что возвратились из-за границы после медового месяца), – ты не думаешь, что нам стоит съездить туда и посмотреть? Может быть, твой старик захочет подарить нам эту землю.
– Мама тогда спросила меня, хотела ли бы я жить там, когда выйду замуж.
– И что ты ответила?
– О, тогда я была просто глупой девчонкой.
– Ты отказалась?
– Когда я увидела развалины, у меня по коже пошли мурашки.
– Понимаю. Я чувствовал себя точно так же, когда после войны вернулся в свой старый дом. Поэтому я и убрался оттуда.
– Но теперь, Мачо, мне все равно, где жить, лишь бы мы были вместе.
– О, как это мило с твоей стороны! За завтраком ты всегда само очарование.
– Обедать будешь дома?
– Полагаю, да.
– Мама просила меня быть осмотрительной и не отпугнуть тебя моей стряпней.
– Она заезжала? Когда?
– Нет, ее здесь не было. Я ей звонила.
– Вот как!
– А что?
– Я пытался дозвониться до нее бог знает сколько раз.
– Зачем?
– Дорогая, в конце концов, должен же я регулярно докладывать ей, каковы твои успехи в роли жены.
– И каковы же они?
– А разве ты сама не догадываешься?
– Так ты не хочешь мне сказать?
– Почему, конечно, я могу сказать, но нельзя ли еще кофе?
– Ах, дорогой, боюсь, уже не осталось.
Мачо уехал, а она пошла к нему в комнату посмотреть, сколько у него рубашек и каких – она собиралась подарить ему несколько рубашек ко дню рождения, – и нашла письма.
Когда в полдень он вернулся, она сидела в гостиной.
– Мне все же удалось поговорить с твоей мамой.
– Да?
– Да. И я доложил ей о твоем поведении.
Он ждал, но вопроса не последовало. Тогда он спросил:
– Тебе не интересно, что я ей сказал?
– Да, пожалуй, не интересно.
– Ты не заболела?
Она не ответила.
– Ты устала. Давай тогда пообедаем.
– Обеда нет.
– Нет?
– Я думала, может, мы пообедаем где-нибудь в ресторане.
– В ресторане? Сейчас?
Неожиданно она вскочила на ноги и с отчаянной бесшабашностью крикнула:
– Да! Поедем куда-нибудь, будем есть, пить и танцевать, давай?
– Я – за. Но ты уверена, что ты хорошо себя чувствуешь?
– Конечно! – воскликнула она, поцеловала его в щеку и бросилась в спальню.
– Я буду готова через минуту! – крикнула она на бегу.
Но когда он вошел в спальню, она неподвижно сидела на кровати в одной комбинации.
– Конни, в чемдело?
– Мне надо вернуться.
– Куда?
– Не знаю.
– Дорогая, прошу тебя, перестань вести себя так, будто ты сошла с ума.
– Ладно. Я сейчас оденусь.
– И давай никуда не поедем. Откроем банку с бобами.
– С бобами? – Ее вдруг затрясло от смеха. – Но я вовсе не хочу бобов! Я хочу куда-нибудь поехать, я должна куда-нибудь поехать! Ну, пожалуйста, Мачо, доставь мне такое удовольствие – поедем куда-нибудь, будем есть, пить и…
– Хорошо, хорошо! Только успокойся!
Он подозрительно посмотрел на нее.
– Конни, ответь мне… может быть, я – как бы это сказать – скоро стану отцом?
Это вызвало у нее такой приступ смеха, что она повалилась на кровать.
А потом неделю спустя произошло то странное событие. Это случилось на другой день после того, как она побывала у матери, на другой день после того, как она встретила Пако. Было утро, и она, задумавшись, сидела в спальне. И вдруг утро превратилось в ночь, а она оказалась в старом саду, прямо перед Биликеном. Она не знала, как попала туда. Уже потом она нашла свой автомобиль у ворот, но не могла припомнить, чтобы она ехала туда, и вообще не могла вспомнить ни одного события с самого утра. Несколько часов просто выпали из ее памяти. Казалось, она только что сидела в спальне, и ее мучили тяжелые мысли, как вдруг оказалась рядом с Биликеном – и все стало хорошо. Она улыбалась, на душе ее было спокойно, она понимала Биликена. Они снова были единым целым.
– Подожди меня здесь, Биликен, я приеду за тобой, – сказала она и вдруг, взглянув наверх, увидела изрешеченное небо и закричала от страха.
Ветер сдул улыбку с ее лица, унес прочь счастье и безмятежность: она увидела асфальт под колесами машины и огни Счастливой Долины, уплывавшие куда-то в сторону. Снова вернулись боль, скорбь, осознание происходящего и горькое изумление. «Ягуар» мчался вперед сам по себе, и яркие огни монастыря стремительно приближались.
– О нет, нет, ни за что!
Она резко нажала на тормоз, машина подскочила и замерла.
– Я не должна, не должна! – простонала она и уронила голову на руль.
Потом мотор вновь взревел, машина развернулась и понеслась обратно, вниз, тотчас погрузившись в густой туман, который и раньше молча преследовал ее, карабкаясь вверх по скале, незаметно крался за ней все время и вот теперь поймал ее, схватил длинными жесткими пальцами и лизал ей лицо влажными языками, тыкался мокрыми носами в шею, лип к ней, а она старалась вырваться из жестких пальцев, не могла уклониться от влажных языков, не могла выбраться на открытый воздух до тех пор, пока не оказалась в аэропорту, где беспокойные лучи прожекторов пытались пробить туман; она попала в поток свежего воздуха, который отгонял прочь туман, черной паутиной висевший на огромном самолете; высвободившись из объятий тумана, она бросила машину и побежала по летному полю к воздушному кораблю, придерживая шляпку и меха, которые хотел сдуть с нее ветер винтов, и бегом поднялась по трапу в теплое чрево самолета.
Она опустилась в кресло возле окна, пристегнула ремни и в изнеможении откинулась назад. Самолет задрожал. Она взглянула в окно и увидела, как яркие лучи прожекторов раскачиваются и перекрещиваются в темноте. Когда она посмотрела в окно снова, лучи прожекторов уже куда-то пропали; придвинувшись к иллюминатору вплотную, она увидела их далеко внизу, они теперь походили на крохотных светлячков, пляшущих под огромным куполом тумана. Она. отстегнула ремни. Откинувшись назад и закрыв глаза, она услышала, как по проходу идет стюардесса и, наклоняясь к креслам, что-то шепчет пассажирам.
Ветер за окном тоже что-то нашептывал, он шептал ей прямо в ухо. «Спокойно, спокойно, – шептал он, – спокойно, все в полном порядке». Она зевнула, потянулась и почувствовала, как напряжение отпускает ее, как тело становится легкой, почти невесомой оболочкой, внутри которой веет ласковый ветер. Она вцепилась в ручки кресла, будто боялась, что сейчас полетит. Но шепот мягкого ветра нес с собой такой покой, что она расслабила пальцы и почувствовала, как парит в прохладном пространстве, среди звезд. Она теперь была воздухом, покинувшим землю и освободившимся от всего земного, воздухом, возносившимся вверх, туда, где было его истинное прибежище. Сонно открыв глаза, она увидела перед собой ширь неба – неподвижную, бесконечную и черную, но чернота эта была такой прозрачной, такой чистой, что просматривалась насквозь. То была родная стихия, вечное небо; и вздох, вырвавшийся из ее груди, был приветствием вечному началу, породившему дыхание.
«Отче наш, иже еси на небеси…» – выдохнула она, плывя в пустоте и паря во тьме, как вдруг поняла, – и ее пальцы снова впились в подлокотник, – что соседнее кресло кем-то занято.
Повернув голову, она увидела его, улыбавшегося в сумраке затененного салона самолета. Вот так же застенчиво он улыбался всю жизнь, и эта смутная, робкая улыбка вновь напомнила ей все, что она перенесла в тот день, когда он пришел ее осматривать.
– Папа…
Он накрыл ее руку своей.
– Привет, Кончита.
Смутная улыбка приблизилась к ее лицу.
– Ты хорошо вздремнула?
– Я спала?
– Да, и проспала отличный ужин. Но ничего, сейчас я позову стюардессу.
– Нет, не надо. Я не хочу есть.
Она посмотрела на его руку, лежавшую поверх ее руки.
– Ты возвращаешься назад, Кончита?
Она взглянула ему в лицо:
– Назад?
– Я хочу сказать: назад к Биликену?
Она не сдержала улыбки:
– Да, папа.
– А где он?
– В храме, в китайском квартале.
– Бедняга!
Она высвободила руку.
– А разве это не лучше, чем забытым торчать среди руин?
– Конечно, лучше, девочка.
– Я арендую для него нишу в храме.
– Очень разумная мысль.
– Его подлатали и снова покрасили.
– И сейчас он там, ждет тебя.
– У меня больше никого нет.
– Да, пожалуй, все мы не оправдали твоих надежд, да?
Губы ее задрожали, она отвернулась.
– Кончита, Кончита, девочка моя, не принимай это так близко к сердцу.
Она резко повернулась к нему, и глаза ее сверкнули:
– Почему, папа? Потому что тебе страшно?
– Да, страшно за тебя.
– Нет, ты боишься за себя.
– Ты думаешь – из-за выборов?
– Разве ты не боишься, что я могу повести себя… опрометчиво?
– Мне кажется, ты и так уже ведешь себя очень опрометчиво.
– И поэтому ты сейчас хочешь забрать меня домой, чтобы я перестала мутить воду.
– Я прошу тебя, как дочь, – войди в мое положение.
– Я понимаю, папа, я прекрасно понимаю. Тебе безразлично, где мы и что мы делаем, лишь бы все было тихо, лишь бы не было скандала. Ты готов закрыть глаза на что угодно – лишь бы мы не забывали, что нынешний год – год выборов.
– Нет, девочка, как раз в этом ты ошибаешься. Да, я готов закрыть глаза на что угодно, но не потому, что нынешний год – год выборов, а потому, что я уже слишком стар, чтобы волноваться. Мне важно теперь только одно: сохранить за собой достигнутое.
– Другими словами, тебя не волнует, пострадают ли из-за нас твои достоинство и честь, но мы не смеем лишать тебя твоей власти, твоего положения в обществе.
– Достоинство, честь – я от них давно уже отказался, как и от лошадей. Честь и достоинство, как и лошади, не могли доставить меня к цели с нужной быстротой. А кроме того, честь и достоинство тянули меня совсем не в ту сторону. Мы с тобой, кажется, тоже направляемся в разные стороны. Куда ты стремишься, Кончита? Почему ты вечно сбегаешь?
– Разве ты не знаешь? Я ищу своего отца.
– Но ведь ты не найдешь его в этом твоем китайском храме.
– Где же тогда? В штаб-квартире твоей партии?
Он нахмурился и отвернулся.
– Почему ты так хочешь его найти? – спросил он, помолчав.
Она посмотрела на свои сложенные на коленях руки.
– Потому что я должна знать, кто я. И разве я могу узнать это, если не знаю, откуда я? Когда я была маленькой, когда мы еще жили в старом доме, тогда я знала, вернее, думала, что знала. Там иногда я слышала чей-то голос, передо мной мелькало чье-то лицо. В доме жил еще кто-то – везде были следы его присутствия. Я нашла саблю и старый пистолет, а потом я увидела старую военную форму – она висела возле флага, я обнаружила старые книги и газеты. И тогда я начала создавать в уме образ своего отца. О, он был героем. Но потом я выросла и начала понимать, что говорят люди, что пишут газеты. И теперь я не знаю, кто мой отец: тот ли, из старых газет, или этот – из новых. Но я знаю, что я должна найти его.
Он недовольно усмехнулся.
– Ты не найдешь то, что ищешь, Кончита. Тебе лучше вернуться к своему Биликену и играть с ним в куклы.
У нее расширились глаза.
– Ты там был?
– Да, Кончита. Я знаю, что ты сделала из него – нелепого монстра, постыдное посмешище…
– Но что заставило тебя побывать там?
– Разве ты сама не хотела этого? Разве ты не хотела, чтобы я поехал туда и там увидел, каким ты представляешь себе меня?
– Я вовсе не хотела издеваться над тобой, папа.
– Может быть, ты не издеваешься надо мной и когда сообщаешь всем встречным, что ты тоже монстр? Если это не издевка, то что же?
– Как бы я могла жить в мире зла, если бы не считала и себя злой? И как бы я могла позволить жить другим?
– Но разве мы злы? Нет, не думаю. Когда ты вырастешь…
– Когда я вырасту, когда я вырасту! Мне это говорят всякий раз, когда я что-то для себя открываю. Неужели я должна слышать это всю жизнь? И почему я никогда не чувствую себя достаточно взрослой, чтобы не удивляться тому, что я узнаю?
– Это потому, что ты все принимаешь слишком близко к сердцу и реагируешь чрезмерно бурно, ты…
– Чрезмерно бурно! Папа, ты что… сумасшедший? Или, может быть, это я сошла с ума? Неужели ты потерял способность чувствовать?
– Я потерял способность впадать в ярость.
– И я тоже должна научиться этому?
– Да – научиться принимать вещи такими, какие они есть…
– …и не горячиться по этому поводу.
– Да, и не горячиться.
– Так это и есть «быть взрослой»?
– Послушай, девочка, нельзя всю жизнь тратить на поиски старых сабель и флагов. Тебе нужны герои, а когда ты их не находишь, ты вместо них видишь демонов. Но мы не герои и не демоны. Мы просто люди. И тебе надо научиться принимать нас такими, какие мы есть.
Самолет ревел все громче, и им обоим приходилось повышать голос.
– Но это же еще хуже! – воскликнула она.
– Что? – не расслышал он и наклонился к ней.
– Я говорю – это же еще хуже: принимать вас такими, какими вы кажетесь.
– Потому что тогда выяснится, что мы попросту порочны? – прокричал он.
– Нет, даже не это… Потому что выяснится, что вы просто смешны, просто заурядны…
– Да, я знаю. Твоя мать окажется просто старой глупой бабой, которая все еще гоняется за молодыми людьми, а я – старым ослом, которого она дурачит.
– И ты хочешь, чтобы я воспринимала тебя именно так?
– Может быть, я и в самом деле ничего другого собой не представляю.
– Но в старом доме был еще кто-то!
– Разве ты до сих пор не поняла, что этот «кто-то» всего-навсего Биликен? – крикнул он. – Разве ты не поняла, что он лишь папье-маше, дряхлый шут, идол, списанный за негодностью?
– Что? Я не слышу тебя!
Оглянувшись, она увидела, что люди вскочили с мест и что-то кричат, но из-за рева самолета она не слышала, что именно. В проходе появилась отчаянно жестикулирующая стюардесса. Неожиданно самолет опрокинулся набок, стюардесса пошатнулась, ее швырнуло вперед, огни погасли.
– Кончита!
– Я здесь, внизу, папа.
– Дай мне руку.
Ее оторвало от пола. Самолет нырнул вниз, потом рванулся вверх, потом опять нырнул и опять взмыл – пол колыхался, словно превратился в жидкость.
– Ты не ударилась?
Она отрицательно покачала головой и прижалась к его груди. Он попытался нащупать ремни ее кресла.
– О папа, не отпускай меня! – вскрикнула она, почувствовав, что ее тянет куда-то прочь. Он схватил ее под мышки и приподнял.
– Тебе надо идти, девочка.
– Куда?
– Иди, сядь на свое место. И пристегни ремни.
Ее руки обвили его шею.
– Нет, папа, нет! Позволь мне остаться здесь! Не отпускай меня!
– Так надо, Кончита.
– Но ведь ты сам сказал, что я должна научиться принимать тебя таким, какой ты есть…
– А теперь я говорю тебе, что ты не должна.
– Но… но я не могу, я не имею на это права…
– Наверное, это мы не имели права лишать тебя иллюзий.
– Ах, какое это имеет сейчас значение?
– Огромное. Если твой путь ведет тебя к гибели, иди ей навстречу, но при этом бунтуй. В отличие от меня не теряй способности впадать в ярость. Принимай все близко к сердцу, горячись и огорчайся и не соглашайся признавать нас такими, какие мы есть, – не надо. Даже сейчас! Бунтуй против нас, бунтуй – даже сейчас!
Он оторвал ее руки от себя и вновь попытался приподнять ее.
– О папа, не издевайся надо мной! Я хочу заключить с тобой мир.
– Я не издеваюсь над тобой, Кончита, и ты не должна заключать с нами мир.
Как только он отпустил ее, самолет содрогнулся и рассыпался на множество частей; сверкающие обломки кружились вокруг, а ее нес в пространстве поток воздуха, плотного, холодного и прозрачного, как лед; ветер пронзительно выл, обрушиваясь на нее с такой силой, что она чувствовала, как ее плоть отрывается от костей; барабанные перепонки лопнули со звоном, как крохотные кристаллики, острая боль заставила ее поднять глаза, и она увидела над собой искаженное лицо отца, увидела, как его тело вытягивается, будто резиновая тесьма, становится все тоньше и тоньше, а на лице застывает страшная гримаса и тонкие пальцы конвульсивно сжимаются в предвкушении смерти, ниспосланной воздухом.
Подъем кончился, и теперь перед ней лежала дорога, такая же прямая и ровная, как лучи фар, а небо наверху расчищалось. Справа возвышалась высокая – выше уличных фонарей – стена скалы, слева был обрыв, переходивший в террасы рисовых полей, терявшихся во тьме. Впереди виднелся утес, на котором стоял похожий на улей монастырь, излучавший свет и загораживавший небо, и его яркие окна становились все шире по мере того, как она приближалась.
Дорога тускло блестела в пустой ночи, плоская и широкая, как теннисный корт.
У подножия прилепившегося сбоку утеса стоял столб с двумя фонарями – он отмечал развилку, откуда одна дорога продолжала виться вокруг скалы, а другая шла прямо на утес.
Под светом этих фонарей она свернет на вторую дорогу, проедет сквозь тьму короткого узкого каньона и окажется на вершине утеса, а весь Гонконг засияет у ее ног ожерельем разноцветных огней. Сбавив скорость, она посмотрит вниз на верхушки деревьев, выглядывающие из-за края утеса. «Ягуар» остановится у монастырских ворот, она выйдет из машины и ударит в висевший на воротах колокол; отворится маленькая калитка, и служка проведет ее в комнату для посетителей. Она сбросит меха на кресло, сумочку положит на стол, достанет сигарету, прикурит и, обернувшись на звук шагов, увидит рядом с собой монаха в белой сутане – старого священника с лучистыми глазами.
– Итак, вы пришли?
– Где падре Тони?
– Вы хотели меня видеть?
– Я просила о встрече с падре Тони.
– Сядьте, дитя мое.
– Пожалуйста, скажите мне, где падре Тони?
– И погасите сигарету.
Не отрывая взгляда от монаха, она попятится назад, наткнется на кресло и упадет в него, утонет в нем; сигарета выпадет у нее из пальцев. Скрестив руки под наплечником, странный монах подойдет к противоположному краю стола. Может быть, это и есть тот «священник постарше», о котором говорил падре Тони? Под его пронзительным взглядом в ней оживут детские страхи тех ночей, когда по улицам бродили три ведьмы.
– Итак, вы здесь.
– Да, падре.
– Готовы ли вы исповедаться в своем грехе?
– В грехе?
– Да, в том очень тяжком грехе, что вы совершили.
– Я говорила людям неправду, но я не знала, что это неправда. Я не лгала намеренно. Я просто сама не знала, что делала.
– В прежние времена, дитя мое, ведьм сжигали именно за подобные дела.
– Ведьм?
– Они, как и вы, отвергали власть и авторитеты. Они, как и вы, поклонялись только своему кумиру.
– Но я ничего не отвергала, падре! Ничего и никого!
– Вы отвергли своего отца, и свою мать, и своего мужа – людей, которым закон дал власть над вами.
– Но это не я отвергла их – они отвергли меня.
– И вместо них вы сотворили себе кумира, монстра, которому вы поклонялись.
– Но ведь они все погрязли в пороке, падре!
– Они просто люди, дитя мое. И если на этом основании мы отвергнем всю мирскую власть, нам придется отвергнуть вообще все: брак, правительство, общество, семью, государство, церковь. Нам придется упразднить весь мир. Это вы предлагаете?
Она в отчаянии оглядит длинную комнату, черные и белые плитки на полу, голые стены и высокие окна, сквозь которые, как звезды, поблескивают огни Гонконга, и, не найдя спасения, вновь переведет взгляд на странного монаха, белой глыбой возвышающегося перед ней и сверлящего ее жесткими, ясными глазами; она поникнет в кресле, бессильная в своих жемчугах, перчатках и красном платье, и руки ее беспомощно повиснут.
– Я не предлагаю ничего упразднять, падре. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.
– С вашим идолом?
– Нет, его мне тоже пришлось отвергнуть.
– А вдруг вы обнаружите, что онвас не отверг?
– Что вы хотите этим сказать, падре?
– Ваша любовь могла пробудить в нем страсть.
– О падре, бедный Биликен всего лишь папье-маше!
– Уже нет. Вы вдохнули в него жизнь.
– И потом он там, далеко.
– Он настигнет вас где угодно.
– Неужели мне суждено вечно убегать от чего-то?
– Да – до тех пор, пока вы не примете мир сей таким, какой он есть.
– Но зачем мне его принимать? Выведь отреклись от него?
– Когда я вступил в орден, я отрекся от мирской суеты, но не от самого мира и надеюсь, что со временем смогу относиться к нему отстраненно, без страха и ненависти. Каким бы грешным ни был этот мир, и именно потому, что он грешен, только в нем люди могут обрести спасение. Но вы, дитя мое, отказались от надежды на спасение в этом мире. Вы отреклись от него, как то делали ведьмы.
– А разве это так уж плохо, падре? О, поверьте мне, я вовсе не плохая!
– Я думаю, ведьмы тоже не были плохими. Полагаю, что они были хорошими, благородными и почтенными женщинами – более того, столь добродетельными, что все остальные выглядели в сравнении с ними безнадежными грешниками. В этом, кстати, и заключалась разница между ними и святыми: святые считали себя безнадежными грешниками, а ведьмы верили, что мир настолько погряз в скверне, что остается лишь уничтожить его. Они понимали – и правильно понимали, – что все человеческие установления, вся мирская власть, вся человеческая любовь – все это преходяще, а потому в отвращении пытались отречься от человечества. Они начинали с того, что алкали неба, а кончали тем, что попадали в объятия дьявола, и так бывает всегда, когда хочешь достигнуть бога в обход и помимо человечества. Отвращение к миру сему, дитя мое, слишком часто порождает не святость, а одержимость злом.
– Не всем дано преодолеть отвращение к этому миру, падре.
– Вы имеете в виду себя?
– Но я вовсе не считаю, что я лучше любого другого человека.
– Тогда как же вы осмеливаетесь отвергать других людей только потому, что они – люди?
– Может быть, я еще недостаточно взрослая и не привыкла к тому, что людям приходится творить в этом мире.
– И вам, в сущности, не хочется привыкать к нам, людям, так?
– Но нужно ли мне это, падре? Разве так уж необходимо когда-нибудь захотеть привыкнуть к тому, что сейчас для меня невыносимо?
Она подастся вперед и вопросительно заглянет ему в глаза, но увидит в них только тревогу и невыразимую скорбь.
– О падре! Что происходит? Что плохого я делаю?
– Вы пытаетесь ввести в смущение тех из нас, кто научился принимать мир сей.
– Разве это моя вина, что я не могу научиться этому так же быстро, как другие?
– Вы сеете смущение в умах и разрушаете в людях веру.
– О, я что-то не много видела ее в других.
– Но по меньшей мере мы всегда знали, что верить – хорошо, по меньшей мере мы знали, что реально, а что нет. Люди, подобные вам, – пятая колонна дьявола, они подрывают нашу уверенность в правоте. Вы сеете страх и недоверие, и в конце концов мы начинаем сомневаться в наших собственных чувствах, в конце концов мы начинаем верить в мир, где у людей два пупка, в мир, где каждый день – субботний вечер и карнавал.
– Но ведь все думают, что я сумасшедшая. Зачем принимать меня всерьез?
– Потому что очень трудно поддерживать мир в движении, постоянно возникает искушение отказаться от усилий. Потому что есть время сеять и время жать, есть время строить и время восстанавливать постройку, за падением неизбежно следует взлет. И каждый день все надо начинать сначала. В нашем мире всегда – понедельник и утро.
– Но разве этот мир стоит подобных усилий? Зачем людям так надрываться ради того, чтобы продолжать страдать? Почему нельзя, чтобы всегда был субботний вечер и карнавал?
– Самый бессердечный преступник не так опасен, как вы.
– Но почемувсегда должен быть понедельник?
– Вы незаметно подкрадываетесь к нам и нашептываете: Пойдемте в нашу вечную субботу, пойдемте на наш карнавал… К чему столько усилий, расслабьтесь, пусть все остановится…
– А разве вы сами не считаете, что это было бы для людей лучше всего?
– О, они были правы, когда сжигали таких, как вы, в былые времена!
– Но за что? Я все еще не понимаю, какое преступление я совершила, что плохого я сделала.
– Тогда почему же вы чувствуете себя виноватой?
– О падре, вот этого я как раз и не могу объяснить!
– Ведьмы былых времен тоже не могли.
– Но ведь нельзя же сжечь человека только за то, что он выдумывает глупости, за то, что он хранит дурацкую игрушку?
– Они тоже начинали вполне невинно: глупая мелкая ложь, глупая маленькая кукла. Но потом ложь заменяет истину, у куклы вырастают когти и она становится властелином. Ваш Биликен подчинил вас себе.
– Но ведь я бросила его, падре! Я отвергла его!
– И он уже начал использовать вас в своих целях.
– Если бы я поступала неправильно, я бы знала об этом!
– Но вы не знаете. И онине знали. Напротив, они думали, что они благородны и добры; они просто хотели освободить человечество от страданий. Люди никогда не могли быть хорошими и лишь мучили себя, пытаясь стать таковыми. Лишь страдание рождалось из попыток навести в этом мире порядок. И отсюда вывод: к чему столько усилий, расслабьтесь, пусть все остановится! Они тоже верили, что так будет лучше для людей, они искренне считали, что ими движет любовь к человечеству, и не знали, что стали слугами дьявола, а когда узнали, было уже поздно. О нет, это начинается не с полетов на помеле и не с шабашей на горе. Это начинается с отвращения, это начинается с жалости, это начинается с глупой лжи и глупой куклы, как в вашем случае.
– Нет, падре, нет!
– А затем это превращается во все растущее чувство вины, во все растущее раздражение.
– Пожалуйста, прекратите!
– А кончается полным подчинением дьяволу.
– Если вы думаете, что вам удалось запугать меня…
– Берегитесь, дитя мое, берегитесь. Ваш Биликен подчинил вас себе.
– Нет, я не кончу на костре, я не дойду до шабашей!
– Исповедайтесь, дитя мое! Исповедайтесь и обретите свободу!
– Нет, мне пора идти.
И она встанет, набросит на себя меха, возьмет сумочку и, повернувшись, чтобы бежать, увидит, что странный монах обошел вокруг стола и стоит рядом, загораживая ей дорогу.
– Итак, вы отказываетесь признать свой грех?
– Я отказываюсь признать это грехом.
– И все же вы утверждаете, что сами не знали, что творили.
– Я делала это потому, что я несчастна.
– Но скоро вы будете делать это с удовольствием, дитя мое, и очень охотно.
– Что именно?
– Продолжать обманывать своими выдумками, сеять страх и смущение, подрывать нашу веру в этот мир…
– В таком случае права я, а не мир.
– И вы считаете себя вправе утверждать, что у вас два пупка?
– Я вправе пугать вас, подрывать вашу убогую веру, вашу мнимую самоуверенность, я вправе с помощью моей лжи. открыть вам глаза на всю вашуложь!
– Сейчас в вас говорит Биликен.
– И он прав, он настоящий, он добрый!
– Мы называем его другим именем.
– Позвольте мне уйти!
– Берегитесь, дитя мое. Вы в большой опасности.
– Нет!
– Вы уже одержимы им.
– Нет! Нет!
– Покайтесь, дитя мое, покайтесь!
Его глаза жгли ее, они надвигались на нее, словно оторвавшись от его лица, неотвратимо приближались, становились все больше и ярче, постепенно преображаясь в две огромные луны, топившие ее в слепящем свете, и требовали: «Покайся! Покайся! Покайся!»
– Нет, нет и нет! – воскликнула она и увидела, как глаза превращаются в два фонаря на столбе возле развилки, откуда одна дорога кругами поднималась на вершину скалы, а другая – шла к подножию утеса. Прямо перед ней высилась вершина утеса – монастырь теперь не был виден – и стоял столб с двумя фонарями. Табличка на скале гласила: «Утес Святого Креста». Справа она увидела темную пасть узкого каньона – оттуда ей в лицо дышал холодный ветер.
– Нет, нет и нет! – воскликнула она еще раз и судорожно вцепилась в руль.
«Ягуар» взревел, рванулся вперед, проскочил мимо столба, помчался наверх по голой дороге, вившейся вокруг скалы, к чуть светлевшему небу, к сиянию, видневшемуся за последним поворотом.
Ужас переполнял все ее существо, машина обогнула вершину скалы, и она отчетливо ощутила соленый запах моря, пространство с ревом уносилось назад, словно сдуваемое ветром, навстречу несся шум прибоя; отдаленный свет приближался, и она почувствовала его на своем лице, когда вырвалась из темноты, и дорога, до этого стеной стоявшая между ней и светом, вдруг исчезла, словно растворилась в сиянии, в величии откровения; и вот он, источник света – полная луна, огромная и чистая, висевшая прямо за краем скалы и ждавшая ее, заняв всю ширину дороги; она все неслась, ослепленная, завороженная и загипнотизированная этим светом, в самый центр диска, в блистающий холодный покой, уже заполнивший ее настолько, что она еле слышала рев моря и лишь смутно догадывалась, что в долинах внизу началось движение, что ночь проснулась, мир ожил и приветствует жизнь: до нее долетали снизу веселый гомон, свистки, взрывы фейерверка, звуки гонга, невнятный гул человеческих голосов – хор обитателей того мира, что там, далеко внизу, тоже был очарован и загипнотизирован холодным светом и салютовал взошедшей луне шумом и огнями, запускал в небо столько пламенных, искрящихся радуг, что ей почудилось, будто земля занялась пожаром; она видела, как всплески пламени раскалывают темноту, и продолжала нестись к обрыву, к огромной полной луне, которая, казалось, висела уже прямо перед ее лицом, но тем не менее по-прежнему придвигалась все ближе и ближе – ее сотряс удар, толчок бросил ее вперед, машина перескочила через бордюр, и она ощутила чудесное состояние невесомости, потому что теперь неслась по воздуху, готовая вонзиться в луну; она уже вся была в ее свете, и сияющая кривизна была совсем рядом; ее окружало холодное сияние, и она вытянула руки, чтобы коснуться его, но почувствовала, что проваливается, почувствовала, что «ягуар» летит вниз, и увидела мчавшуюся навстречу черную воду моря; машина со скрежетом ударилась о камни и опять подпрыгнула, подняв ее наверх и снова предлагая ее в дар луне, – и тут раздался взрыв, вспыхнуло жаркое пламя, яркий свет и огонь разлились кругом, огонь охватил ее; в одежде, сотканной из огня, в огненном венце, окруженная огненным ореолом, она поднялась на крыльях огня, на колеснице огня и, преображенная, понеслась ввысь; она была приветствующей полную луну ракетой, россыпью фейерверка, шутихами, с веселым треском взрывавшимися в воздухе: она была огнем, благословенным огнем, очищающим первоэлементом, элементом света; она ярко пылала, радостно пылала между луною и морем.








