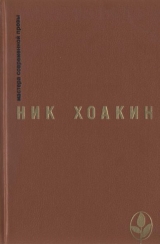
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 45 страниц)
Романом «Пещера и тени» автор подтвердил свою репутацию романиста, хотя критика и спорила: этот второй роман – он выдающийся или просто добротный? Но Хоакин известен на Филиппинах не только как романист и журналист, он также и один из крупнейших драматургов. Советскому читателю предлагается самая известная его пьеса – «Портрет художника-филиппинца», – созданная в 1952 году. Здесь нет спора между испанским и исконным началами: мир пьесы – это испанизированный мир, гибнущий под натиском духа наживы. Причем соперничество этих двух начал раскалывает семью, что для филиппинцев, с их ориентацией на родовой коллектив, представляется величайшей трагедией. Кандида и Паула Марасиган, младшие дочери художника (а также его престарелые друзья, удивительно похожие на испанских грандов, а не на филиппинцев), живут в отмирающем мире благородства, порядочности, красоты, а их старшие брат и сестра – в мире торжествующего делячества. И все герои пьесы разделены по этому признаку, причем только двое из второго мира – журналист Битой Камачо и сенатор дон Перико – понимают, чт о они теряют, отрекшись от мира благородства, а дон Перико даже кается в предательстве. Для остальных он просто смешон и нелеп. И хранительницы его – смешные и нелепые старые девы, которым, несмотря на донкихотское благородство, явно не отстоять его, как не отстоять и ветхим старикам, приходящим к ним на помощь. Мир благородных донов и рафинированных сеньор обречен, обречен самим ходом истории, и это понимает автор пьесы. Хотя, утверждает он, чтобы покончить с этим уходящим миром, понадобилась мировая война, но и до войны налицо были все признаки умирания. Неподдельная грусть, тоска по уходящему пронизывает всю пьесу.
Носители американизированного нового не прочь подтрунить над собой, особенно разбитные журналисты – в зависимости от моды они выступают то как поборники «высочайшего искусства», то как борцы за дело пролетариата, не отправившиеся, однако, на поля гражданской войны в Испании, но с удовольствием посещавшие конгрессы писателей в Нью-Йорке.
А главный герой пьесы так и не появляется на сцене, хотя все время речь идет о нем (ему же посвящено и заглавие пьесы, перекликающееся с названием романа Джойса «Портрет художника в молодости»). Дон Лоренсо Марасиган не прощает дочерям минутной слабости: они возжелали материального благополучия, которое одно ценится в грядущем – уже пришедшем – мире, мире погони за успехом. Он дарит им картину и тем ставит перед ними почти загадку сфинкса. На холсте изображен он сам в молодости, выносящий себя же, но уже старика, из горящей Трои. Так что же это значит? Что молодость спасает старость? Что никто не спасет художника – только он сам? А горящая Троя – это рушащийся мир благородства и чести? Однозначных ответов на эти вопросы нет. Да и самой картины нет в пьесе, она – на воображаемой стене, отделяющей сцену от зрительного зала.
* * *
Биографические данные о Хоакине на редкость скудны для писателя его популярности: он неохотно говорит о себе, избегает давать интервью. Все, что известно о его жизни, может уложиться в несколько строк. Родился в 1917 году в Маниле. Его отец участвовал в революции, не смирился с приходом новых захватчиков – отсюда проникновенное описание Хоакином мира угасавших участников борьбы.
Формальное образование Хоакина ограничивается средней школой. Писать начал в 1937 году, первые произведения привлекли внимание читателей, но все же не выдвинули его в ряды ведущих писателей. Во время войны он выступал как поэт, эссеист, рассказчик и переводчик на английский язык произведений национального героя Филиппин Хосе Рисаля, писавшего на испанском языке. После войны доминиканский орден предоставил ему стипендию в колледже св. Альберта в Гонконге, где он учился два года – отсюда «католический реквизит» многих его произведений. Но скоро он понял, что карьера священника его не привлекает, и променял сутану на перо.
Вернувшись в Манилу, Хоакин начал сотрудничать во многих периодических изданиях страны и в конце концов прочно обосновался в журнале «Филиппинз фри пресс». Почти каждую неделю на страницах журнала появлялись его статьи, по мнению многих самые передовые и самые глубокие по анализу. Статьи были подписаны псевдонимом Кихано де Манила, представляющим анаграмму его фамилии (Кихано – Хоакин) и в то же время полным глубокого смысла, особенно для испаноязычного мира: Алонсо Кихано Добрый – одно из имен Дон Кихота.
В 1952 году он издал свои рассказы и стихотворения отдельным сборником под названием «Проза и поэзия», включив туда и пьесу «Портрет художника-филиппинца». Критика сразу же оценила эту книгу как самое значительное явление в англоязычной литературе Филиппин за пятьдесят лет. Хоакин становится ведущим писателем и продолжает много работать, публикуя новые рассказы, эссе, пьесы, но основное внимание уделяя журналистике. За ним закрепляется слава первого писателя Филиппин. Он становится лауреатом практически всех существующих в стране литературных премий, а в 1976 году ему присваивают высшее для филиппинских деятелей культуры звание – народного художника. Его широко издают за рубежом, прежде всего в англоязычных странах. Филиппины и филиппинцы многого ждут от находящегося в расцвете творческих сил Никомедеса Маркеса Хоакина.
И. Подберезский
ЖЕНЩИНА, ПОТЕРЯВШАЯ СЕБЯ
РОМАН
NICK JOAQUIN
The Woman who had two Navels Manila, 1961
Перевод И. Подберезского© Перевод на русский язык «Прогресс», 1979

ПАКО
Когда она сказала, что у нее два пупка, он сразу поверил – так она была серьезна и такое отчаяние звучало в ее голосе, а кроме того, какой смысл возводить на себя подобную напраслину, спрашивал он себя, пока она допытывалась, не может ли он помочь ей, не может ли он придумать «что-нибудь хирургическое», какую-нибудь операцию.
– Но я всего лишь ветеринар и занимаюсь лошадьми, – сказал он извиняющимся тоном, на что она ответила: что ж, если он умеет лечить лошадей… и опять настойчиво повторила, что это крайне необходимо, что вся ее жизнь зависит от этого…
Он спросил, сколько ей лет, и отметил, что, отвечая на этот вопрос, она впервые с тех пор, как вошла в кабинет, старалась не смотреть на него, и он специально надел очки, чтобы разглядеть ее получше: его интересовало, не сбросит ли она несколько лет, но она уверенно заявила, что ей тридцать, а на ее лицо, вполне соответствовавшее стандартным представлениям о красоте, налагали отпечаток лишь переживания последних часов, но никак не лет.
– А разве возраст имеет какое-нибудь значение? – испуганно спросила она.
– Вы замужем?.. – продолжал он, не ответив на ее вопрос.
Она кивнула и сняла перчатку с левой руки – кольцо на безымянном пальце почти сливалось с золотистой кожей.
– …И дети есть?
– Нет. – В ее голосе снова зазвучала настороженность. – Но я недавно замужем, – быстро сказала она и добавила с вызовом. – Собственно говоря, я вышла замуж сегодня утром.
Он смутился, и смущение отразилось на его лице, но она, не обратив на это внимания, принялась рассказывать о своей жизни.
– Когда я была маленькой, я думала, что у всех людей два пупка… Ну, конечно, выулыбаетесь, вам ни разу в жизни не приходилось попадать в положение, когда надо что-то таить от других. Вы, несомненно, были послушным мальчиком – ведь верно, доктор? – и вас любили, оберегали… Это сразу видно. Вы всегда жили в мире, в котором у людей столько пупков, сколько положено. Я тоже жила в этом мире, но очень недолго, только в раннем детстве, и уже в пять лет стала Евой, вкусившей плод от древа познания. Вот тогда-то я все и выяснила.
Однажды жарким днем я гуляла по нашему саду со своей куклой и мы подошли к пруду, где плавали золотые рыбки. Я решила, что Минни – так звали мою куклу – хочет искупаться. Мы сели возле пруда, и тут я обнаружила, что у Минни всего один пупок. Мне стало так жаль ее, что я расплакалась. Я принялась качать маленькое голое тельце, всячески утешала Минни и пообещала никогда не выбрасывать ее, что я обычно делала с другими куклами. Но затем я задумалась. Вокруг темнело, надвигался дождь. Кого, собственно, мне жаль: ее или себя? Может быть, это как раз у меня не все в порядке? Я тихо сидела у пруда, по щекам текли слезы и капли дождя. Я тщательно обследовала Минни и обнаружила, что у нее еще кое-чего не хватает; поначалу это немного утешило меня, но я уже стала недоверчивой и сомневалась во всем. Никто не должен был знать, какие подозрения зародились у меня в голове. Бедняжку Минни пришлось принести в жертву – я никак не могла надеть на нее снятое платье. Не обращая внимания на грозу, я быстро отыскала бечевку и камень, привязала к нему Минни, поцеловала ее в последний раз и бросила в пруд. Потом я бросила туда же и свой браслет. Промокшая до нитки, я прибежала домой и сказала взрослым, что на меня напал грабитель и отобрал браслет и куклу. Конечно, они не поверили мне: у нас в доме всегда полно вооруженной охраны – отодвинь кресло, и за ним – детектив, – но притворились, что верят. Со мной ничего не случилось, не считая того, что в ту же ночь мне приснилось, будто Минни пожирают золотые рыбки, а я рядом, в пруду, смотрю на все это и мне нисколечко не жаль. Вот тогда-то я и стала Евой, вкусившей запретный плод. Я тщательно следила за тем, чтобы никто не увидел мою наготу, особенно когда играла с другими детьми. Скоро я точно установила, сколько у них пупков, они же так ничего обо мне и не узнали.
– А ваша семья?
Она единственный ребенок, сообщила она.
– Мама, конечно, знает. Насчет отца сказать не могу. Когда мама или служанки мыли меня, они напускали на себя такой безразличный вид, что мне часто хотелось рассмеяться и ткнуть себе пальцем в живот. Я знала, что они знают, что я знаю, но мы все вместе притворялись, будто никто не знает ничего. Эта ситуация была мне только на руку – я делала что хотела, и меня никогда не наказывали. Ведь если у вас ребенок урод, то, вполне возможно, вы сами не без изъяна. Теперь вы понимаете, какое у меня было детство? Если только оно вообще было.
А когда я подросла… Вы, наверное, знаете, что для девушки даже пустяковый прыщик может быть источником величайших терзаний, так что постарайтесь понять, через что мне пришлось пройти. Потом, правда, я успокоилась: какой смысл лить слезы, если все равно ничего не изменишь? Только однажды я очень перепугалась – в моду вошли платья с вырезом на животе. Вы только вообразите – голый живот, с которого поглядывает пара этаких свиных глазок… Но я сказалась больной и не выезжала до тех пор, пока мода не прошла. Несколько раз я влюблялась, несколько раз мне делали предложение, но я неизменно отвечала отказом. Мне было страшно даже подумать, что произойдет, когда муж увидит мое уродство… Ведь кто угодно придет от такого в ужас – а я бы этого не вынесла. Ну и потом, муж всегда мог сказать, что я его обманула. Так я все откладывала и откладывала свое замужество, пока мне не стукнуло тридцать, и тут я впала в отчаяние.
Я представляла себе, как постепенно старею и мне приходится накладывать на лицо все больше косметики, я уже видела себя пожилой и одинокой светской дамой, занятой кипучей деятельностью в клубах и различных благотворительных учреждениях и время от времени заводящей короткие интрижки со все более молодыми людьми, которые тайком сопровождают ее в заграничных поездках с «деловыми и развлекательными целями». Уф! Может быть, такая вольная жизнь и не плоха, только не всем она по вкусу. И тогда я окрутила самого подходящего, на мой взгляд, молодого человека и вышла за него замуж. Сегодня утром.
Судя по ее описанию, свадьба была грандиозной. Она заверила, что об этом будут писать все газеты – «и не в разделе светской хроники, а на первойполосе».
– Ваши родители – люди с положением? – спросил он.
– Папа – один из влиятельнейших членов кабинета, мама – признанная красавица, а у мужа три или четыре поколения предков – «сахарные бароны» [7]7
Так на Филиппинах называют владельцев плантаций сахарного тростника. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть]. Но дело не в этом. Я хочу сказать, не поэтому о свадьбе сообщат на первой полосе… Я легко могу себе представить этот репортаж: «НЕВЕСТА ГОДА СЛИШКОМ ПОСПЕШНО ПОКИДАЕТ ТОРЖЕСТВО». И дальше: «Поднимаясь по лестнице, невеста в очаровательном парижском туалете вдруг со смехом швырнула букет в лицо жениху, к огромному удивлению высшего света Манилы, собравшегося на церемонию бракосочетания».
– Неужели вы сделали это? – смущенно спросил он.
Она рассмеялась.
– Нет, конечно, нет. После венчания вся эта шумная толпа собралась в нашем доме на свадебный завтрак. За столом муж посмотрел на меня, а я – на него, и он спросил, не лучше ли нам удрать к нему и начать упаковываться – мы собирались провести медовый месяц в Америке. Я ночей не спала, с ужасом ожидая этого момента. Я панически боялась, что, когда он увидит мое уродство, все будет кончено. Мне вспомнилась маленькая девочка, горько плакавшая у пруда… голая кукла по имени Минни, неожиданно потемневшее небо… Но я храбро улыбнулась мужу и согласилась, только попросила подождать, потому что мне надо было переодеться. Я поднялась наверх и действительно переоделась, а потом тихонько выбралась черным ходом на улицу, взяла такси и поехала в аэропорт, где села на первый же самолет. И вот я здесь.
Здесь– это в Гонконге в середине зимы.
«Но почему именно здесь?» – подумал Пепе Монсон, смущенно отводя глаза от ее лица и с удивлением рассматривая собственный кабинет, словно впервые видел его. Давно знакомые предметы в зыбкой дымке проплывали перед его взором: потертый ковер на полу, придвинутый к стене диван возле двери, два скрещенных филиппинских флага под портретом генерала Агинальдо [8]8
Агинальдо и Фами, Эмилио (1869–1964) – лидер антииспанской национально-освободительной революции на Филиппинах в 1896–1898 гг.
[Закрыть], распятие на книжной полке между бронзовыми подсвечниками, рогатые головы буйволов-тамарао над закрытыми окнами…
За окнами мерно колыхался густой туман, крики уличных торговцев, долетая до четвертого этажа, превращались в еле слышный шепот. Пепе Монсон был благодарен пасмурному дню и за туман, и за тишину, но предпочел бы привычный вид за окном: бухта со снующими джонками и паромами, белые ряды домов, встающих прямо из моря, скала острова, круто поднимающаяся сразу за ними и усеянная игрушечными домиками, которые повисали ожерельями вокруг отдельных пиков или скапливались уютными группками на пологих склонах. Но сейчас туман скрывал все, в кабинете горел свет и было холодно, а перед столом Пепе сидела закутанная в черный мех молодая женщина в надвинутой на глаза шляпке, бросавшей тень на лицо, и жемчуга на ее шее тускло поблескивали всякий раз, как она наклонялась вперед.
– Но почему вы пришли именно ко мне? – спросил он. – Вам кто-нибудь говорил обо мне?
– Да. Кикай Валеро. Она сказала, что вы сделали просто чудо с ее лошадью. И я решила обратиться к вам. Кроме того, вы мой соотечественник. Вы ведь филиппинец?
– Мой отец – филиппинец, и мать была с Филиппин. Так что, думаю, я тоже филиппинец, хотя я родился здесь и ни разу не был на Филиппинах.
– И вас никогда не тянуло туда?
– О, еще как. Я хотел учиться там, но отец не разрешил. И мне пришлось поехать в Англию, а затем в Аргентину – там отличная практика для ветеринара.
Она скользнула глазами по его кабинету. Он понял, что она ищет, и улыбнулся. Поймав его взгляд, она вспыхнула.
– На Филиппинах, – торопливо пояснила она, – в вашем кабинете на видном месте висел бы диплом об образовании, полученном за границей.
– Может быть, когда я переберусь туда, мой кабинет будет выглядеть иначе, чем сейчас.
– А почему ваш отец возражает?
– Он участвовал в революции против испанцев, потом в движении сопротивления против американцев, и, когда повстанцы потерпели поражение, он обосновался здесь и поклялся, что ни он, ни его сыновья не ступят на филиппинскую землю до тех пор, пока страна снова не станет свободной.
– Но ведь теперь Филиппины независимы.
– Да, и он побывал там в прошлом году. Но пробыл очень недолго. Теперь мы пытаемся уговорить его съездить еще раз.
– Но почему он не остался? Ему стало страшно?
Спрашивая его, она чуть подалась вперед, и жемчужное ожерелье снова тускло блеснуло.
Он ушел в свои мысли, и черты ее лица расплылись перед его невидящим взглядом. Погрустнев, он думал об отце, который, укутанный в плед, сидел в кресле в соседней комнате, поставив ноги на скамеечку, и смотрел прямо перед собой потерявшими надежду, пустыми глазами.
Молодая женщина напротив него тоже смотрела прямо перед собой и всем своим видом так напоминала его отца, что он чуть отодвинулся, хотя между ними был стол. Его даже обеспокоило ее участие в судьбе отца, и он вдруг отчетливо осознал, насколько неправдоподобным было ее появление здесь и все то, что она рассказала, – знакомые предметы опять поплыли перед глазами, и он перестал узнавать свой кабинет. Она не должна была сидеть вот тут перед ним, женщина в черных мехах и черной шляпке, в серых перчатках и с жемчужным ожерельем, женщина с двумя пупками. Но она была здесь и отсутствующим взглядом смотрела на него, забыв о своем вопросе и уже не ожидая ответа, а когда кабинет вновь обрел привычный вид и Пепе собрался с духом, чтобы ответить ей, она вдруг вздрогнула и словно пришла в себя.
Смахнув слезы, она достала из сумочки сигаретницу и как бы невзначай сообщила, что ее мать тоже в Гонконге.
– Она здесь живет?
– Нет, приехала по делам.
– Но ей вовсе нет тридцати, ей только восемнадцать, и замужем она не с сегодняшнего утра, а уже почти год. И я абсолютноуверена, что у нее один пупок, – сказала сеньора де Видаль и, с трудом подавив невольную улыбку, попросила его продолжать.
Пепе Монсон смущенно откашлялся.
Сеньора явилась к Пепе тоже в мехах. На ней был белый меховой жакет и шарф в горошек, а в ушах покачивались золотые монеты. Она была миниатюрнее и изящнее дочери – можно было подумать, она сошла со страницы журнала мод, – и, несмотря на необычность ситуации, не испытывала ни малейшего смущения, хотя и была несколько раздражена. Она отказалась сесть и стояла У окна, глядя на паромы и джонки (было уже далеко за полдень, и туман рассеялся), и слушала рассказ Пепе о визите ее дочери. По мере того как он рассказывал, вся эта история начала ему самому казаться абсурдом, да и сеньора, несмотря на раздражение, по-видимому, тоже восприняла это именно так. Временами она не могла сдержать улыбки и поглядывала на него уголком глаз. Несомненно, решил он, в душе она потешается над ним, так легко поверившим розыгрышу, и, вероятно, думает, что ее дочь настолько его очаровала, что он совсем потерял голову. На самом же деле она улыбалась потому, что этот очень положительный и тем не менее вызывающий легкую жалость молодой человек напомнил ей о детстве. Его серьезный взгляд из-под очков возвращал ее к тем временам, когда она была маленькой девочкой в школьной форме со смешными косичками…
Он же видел в ее улыбке только насмешку и потому злился. Быстро почувствовав это, сеньора вновь стала светской дамой с безупречными манерами. Она выразила сожаление, что ему пришлось впустую потратить время, и добавила, что позаботится о том, чтобы соответствующая компенсация…
– Скажите, – холодно перебил он, – вы всегда позволяете своей дочери вести себя подобным образом и морочить людям голову глупыми выдумками?
– Я ей ничего не позволяю и ничего не запрещаю. Это не мое дело, а дело ее мужа…
Она остановилась, сообразив, что говорит излишне резко.
Последовавшая пауза вдруг ясно дала им понять, что оба они по-детски стараются сорвать друг на друге злость, вызванную поведением ее дочери. Осознав это, они одновременно рассмеялись, а потом улыбнулись друг другу. Он подошел к ней и стал рядом у окна. Она начала жаловаться ему, как старому знакомому:
– Мачо уже засыпал меня телеграммами – Мачо – это ее муж, Мачо Эскобар, – и уверяет, что между ними ровным счетом ничего не произошло. Конни просто взяла и сбежала. Он предполагал, что она здесь, со мной, но я сама ничего не знала до тех пор, пока не встретила Кикай Валеро, и Кикай рассказала, что Конни была у нее и спрашивала номер вашего телефона. Она хоть говорила вам, где остановилась?
– По ее словам, она примчалась ко мне прямо из аэропорта. Мы договорились встретиться ближе к вечеру – я должен был устроить ей консультацию у одного моего приятеля.
– Тогда не будете ли вы так любезны сказать ей…
– Но теперь я, конечно же, не намерен встречаться с ней.
– Я понимаю.
– Простите.
Воцарилось молчание. Затем, повернувшись к нему и глядя снизу вверх, она вдруг резко сменила тему разговора, заявив, что знает его отца.
Он постарался показать, что приятно удивлен.
– Да, да, – продолжала она, – наши семьи были дружны. И ваш отец работал врачом в той самой школе, где я училась. Я помню, все старшеклассницы были без ума от него и просто молились, чтобы у них поднялась температура и можно было бы попасть к нему на прием. Он был настоящий джентльмен и так красив… Семья вашего отца жила в Бинондо – это один из самых старых районов Манилы, настоящий лабиринт узких улочек, – в доме, который знали все, потому что знаменитые люди того времени любили там собираться. Они вели умные беседы, танцевали, ссорились и замышляли революции. Мама несколько раз возила меня туда. Я была тогда маленькой девочкой с торчащими косичками и страшно стеснялась…
Золотые монеты в ее ушах подрагивали, она смотрела прямо на него, но видела совсем другое: вереницы карет, подъезжавших по булыжной мостовой к парадному подъезду большого дома, над которым ярко горел шар фонаря… Выйдя из кареты, она подняла глаза и посмотрела на окна второго этажа. За портьерами сверкали люстры. На крыше, выложенной белой и черной черепицей, сидели голуби. «Побыстрее, доченька!» – поторопила ее мать, уже стоявшая под фонарем, а отец протянул руку и сказал: «Прыгай!» Поднимаясь с родителями по большой лестнице, она вертела головой по сторонам – лестница была украшена огромными морскими раковинами… В этом доме принимали церемонно, но сердечно. Даже тогда дом уже был старым, очень старым, а в последнюю войну он был разрушен, как и весь милый ее сердцу лабиринт узких улочек Бинондо.
– Его уже нет, дома вашего отца…
Он кивнул: его семья знала об этом. Гостья начинала ему нравиться, и поэтому он заметил:
– Дом ждал нашего возвращения.
Сказав это, он вновь почувствовал, как тонкая худая рука отца гладит его по голове, вновь увидел перед собой тот песчаный пляж и услышал раскатистый отцовский голос: «Дом наших отцов ждет нас».
Когда еще была жива мать и они жили на Стэнливэй, вчетвером, всей семьей, они часто ходили купаться в бухту Дип-Уотер. Он и его младший брат Тони разгуливали в одних плавках, а отец всегда оставался в брюках и пижамной куртке. Мама, прикрывшись от солнца соломенной шляпой, сидела на песке и вязала. Она почти никогда не купалась, но с удовольствием проводила время на пляже, потому что вид моря неизменно наводил отца на разговор о родине, а это ненадолго размягчало его, обычно нахмуренного и задумчивого. У берега стояло множество джонок, пляж посещали в основном небогатые семьи – английские, китайские, португальские… Несмотря на отличный белый песок, бухта Дип-Уотер не считалась модным пляжем, потому что из-за сильных течений купаться там было небезопасно, но и он, и Тони, и отец были превосходными пловцами и часто плавали наперегонки через всю бухту к острову и обратно, что занимало не меньше часа, а вернувшись, обессиленные, еле доползали по теплому белому песку до того места, где сидела за вязанием мама, а возле нее стояла корзина с едой и надутая автомобильная шина, которую она всегда брала с собой на случай, если захочется окунуться. Пока мама раздавала сандвичи, отец рассказывал им, где ему приходилось купаться мальчишкой. Чаще всего он рассказывал о реке, которая протекала рядом с их домом в Бинондо.
Он описывал их старый дом. Ступеньки большой каменной террасы спускались прямо к реке, так что у жителей прибрежных деревень, приплывавших в город на небольших каноэ, можно было купить все: рис, рыбу, мед, живую птицу, корм для лошадей, фрукты и овощи. По утрам голоса крестьян будили обитателей старого дома, отец соскакивал с кровати и бежал к окну – в предрассветной мгле едва различалась лодка, в которой обычно были двое, мужчина и женщина: муж сидел с веслом на корме, а жена стояла на коленях на носу лодки. Уперев руки в бедра и медленно раскачиваясь, женщина мелодично, нараспев перечисляла свой нехитрый товар. Отец с полотенцем в руках сбегал по ступенькам к воде, на террасах по обоим берегам реки другие мальчишки раздевались, готовясь к утреннему купанию, и перекликались между собой. Вода никогда не была особенно чистой. «Но это не останавливало нас, – говорил отец, сидя на песке и жуя сандвич, и с улыбкой, так редко появлявшейся на его лице, добавлял: – Я полагаю, пара дохлых свиней или собак не остановит вас, мальчики, и вы все равно будете купаться в этой реке, когда мы вернемся на родину».
Прижимаясь животами к теплому белому песку, они с Тони обычно спрашивали: «А когда мы туда вернемся, папа? Когда мы увидим нашу родину?» И если отец был в хорошем настроении, он улыбался и вздыхал: «Это знает только бог. Нам остается лишь ждать и надеяться. Может быть, наше молчание тронет его. Quomodo cantabo canticum Domini in terra aliena?» [9]9
Как нам петь песнь Господню на земле чужой? (лат.)
[Закрыть]
Но если на душе у него было тяжело, он сухо отвечал с легкой саркастической улыбкой, натягивавшей кожу на его худощавом лице: «Может быть, скоро. Вести оттуда все более и более обнадеживают». И тогда мать немедленно начинала с любопытством расспрашивать его о доме в Бинондо: из хорошего ли дерева там паркет? Сколько там спален? Можно ли положиться на родственников, присматривающих за домом в их отсутствие?
Сама она никогда не видела этого дома. Она была значительно моложе мужа – дочь капитана, которую он встретил уже в Гонконге. Отец женился на ней, когда начал сознавать, что изгнание, на которое он обрек себя в уверенности, что оно продлится года два, не больше, может длиться всю его жизнь. Он страстно хотел иметь сыновей, надеясь, что если не он сам – да не допустит этого господь! – то хотя бы его сыновья вернутся на родину; и если на землю предков суждено вернуться лишь его праху, то пусть его сыновья, а не кто-нибудь другой, перевезут его останки на родину и похоронят там, когда страна обретет наконец свободу, за которую он так долго и с таким ожесточением боролся в юности.
Сидя на чужом песке, на чужом берегу подле молодой жены, он тихо говорил, положив ладони на головы сыновей: «Дом наших отцов ждет нас!»
Они с благоговением смотрели на него, а он, устремив взор к горизонту, шептал: «Si tui oblivero, Jerusalem…» [10]10
Если забуду тебя, Иерусалим… (лат.)
[Закрыть]
Но пришла война и разрушила этот дом. Он больше не ждал их. Они, конечно, могли бы еще вернуться, но вернуться не в родное гнездо, думал Пепе Монсон, представляя себе дом, который он никогда не видел, гораздо отчетливее, чем любой из всех тех домов, в которых ему довелось жить…
– В прошлом году отец побывал там, – сказал он, – чтобы посмотреть, что осталось от дома. Уцелело немногое: кусок стены, часть террасы и, как ни странно, парадная лестница. Отец говорит, что это очень грустное зрелище: лестница среди развалин, ведущая в никуда…
Но перед ее-глазами все еще стояла лестница, ведущая наверх к сияющим люстрам, а вокруг не затихал шум разговора, и музыканты настраивали скрипки.
– Всякий раз, когда я вижу эту лестницу среди развалин, я понимаю, почему ваш отец так ждал возвращения, – сказала она с улыбкой, и перед ее глазами снова возник онна самом верху лестницы – энергичный молодой человек с бакенбардами, с гитарой на плече, она снова увидела, как он почтительно поцеловал руку ее матери, шепнул пару слов ее отцу и наконец, полушутливо поклонившись ей, маленькой застенчивой девочке со смешными косичками, спросил, кто она: друг или враг? Потом он проводил ее в столовую и, пока они оживленно обсуждали трудности школьной жизни, угощал ее виноградом и мороженым.
Не успел еще кончиться тот год, как он уже был на полях сражений, вместе с генералом Агинальдо, и радостные, ликующие армии республики победно шли вперед из провинции в провинцию. А еще несколько месяцев спустя он и его генерал, истощенные тяготами военной жизни, бледные и исхудавшие, бежали вверх по рекам, через джунгли и горы, а янки преследовали их по пятам. Но он не сдавался до конца, как и многие другие замечательные молодые люди, – они не сдавались даже тогда, когда уже сидели в тюрьме, связанные и безоружные. Их генерал мог капитулировать, их генерал мог принести присягу на верность американцам, их генерал мог обратиться к борцам с призывом выйти из джунглей и сложить оружие, но сломить дух этих молодых людей было невозможно. Они бросили в лицо янки слова презрения и предпочли капитуляции изгнание. Это был жест, может быть, не очень умный и наверняка бесполезный, но тем не менее прекрасный; и в те дни, когда гибла революция и утверждалась власть новых господ, когда ее отец ходил, сурово нахмурив брови и поджав губы, а мать без конца плакала и ходила в черном, когда люди со слезами на глазах смотрели через запертые окна, как американцы ведут в лагеря для военнопленных остатки революционных армий, – в те суровые, тяжелые дни ее ранней юности гордый жест этих молодых упрямцев был яркой вспышкой праздничного фейерверка в скорбном мраке, окутавшем страну. И люди стали нести свое горе с улыбкой, переживали свое поражение с достоинством. Победители-янки могли насмехаться над странной архитектурой, над скверным водоснабжением, над чопорными церемонными манерами – непроницаемые лица филиппинцев скрывали тайную гордость, тайное ликование, и все новые и новые имена непокорившихся переходили из уст в уста.
Она вспомнила ночь, когда им сообщили, что доктор Монсон, раненый и тяжелобольной, тоже предпочел изгнание. Она вспомнила, как при этом известии ее отец торжественно встал, а мать опустилась на колени, словно мимо несли святые дары, и как она сама, еще совсем ребенок, поняла, чему отдавали дань уважения ее родители. Она убежала к себе в комнату и там, за запертой дверью, горько плакала о замечательном молодом человеке с бакенбардами, который угощал ее виноградом и мороженым и с таким сочувствием отнесся к ее мучениям с арифметикой…
– Как я хотела бы увидеть вашего отца! – с чувством сказала она. С ранних лет в ней воспитывали преклонение перед величием, и теперь она видела свое детство, как страницу величественной эпопеи, орошенной слезами и блистающей героями…
– Уверен, что ему тоже было бы приятно встретиться с вами, – сказал Пепе Монсон. – К сожалению, – добавил он, опустив глаза, – как раз сейчас он прилег вздремнуть.








