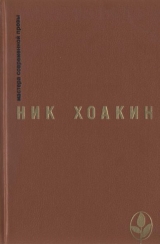
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
Для американцев то были золотые дни «строительства империи», когда парни с ферм Огайо, Канзаса и Нью-Гемпшира открывали для себя таинственный Восток. Их деды некогда плавали в этих водах на клиперах, но те времена прошли, и от них осталась только пыль десятилетий на шалях, сигарах и фигурках идолов из слоновой кости, которых до того не было в коллекциях американских любителей сувениров. Когда эскадра Дьюи [21]21
Американский коммодор, в мае 1898 г. потопивший испанский флот в Манильской бухте.
[Закрыть]начала стрельбу в Манильской бухте, потомки капитанов клиперов решили, что Манила – это консервная банка, которую наконец-то вскрыли. Неведение, растущее удивление фермерских сыновей и даже наивные разговоры об американских сагибах, о том, что, возможно, появится американский Киплинг, придавали определенное очарование этой эпохе, которая, в сущности, стала еще одной главой, вписанной американцами в историю империализма. Наши воинственные отцы видели в тех американцах высоченных негодяев, что пили бочками и были охочи до женщин, а мы сейчас видим в них одиноких парней, которые писали домой в Огайо, Канзас или Нью-Гемпшир, что звезды здесь намного крупнее, чем на родине. Когда враждебность уляжется и фигура американца станет привычной, будет казаться невероятным, что американец вообще мог быть врагом, и в воспоминаниях манильцев те дни строительства империи сольются в один сплошной длинный вечер, когда они сидели на лесенке у кухни, жевали яблоки из американских пайков, слушали треньканье банджо и американские песни вроде «Милая Женевьева», «Там, дома, в старом Кентукки» и «Дождя больше не будет». Бравые парни, участвовавшие в охоте на Агинальдо [22]22
Генерал Агинальдо был предательски захвачен американцами с помощью филиппинских наемников в 1899 г.
[Закрыть], превратятся в монументальные памятники прошлого: в магнатов с Эскольты [23]23
Улица в старом деловом центре Манилы.
[Закрыть]– но таких будет немного, – в «бамбуковых американцев» [24]24
Презрительное прозвище «филиппинизированных» американцев.
[Закрыть]– седых патриархов, вспоминающих былые дни в барах на набережной или в качалках на полусгнивших верандах; раз в год, четвертого июля, они будут собираться и маршировать по улицам в старинной форме, и с каждым годом их будет оставаться все меньше и меньше; от их любовных связей с чужими кухарками и прачками появится выводок пикантных девиц, которые будут играть в водевилях на сценах Манилы в двадцатые годы.
Шло время.
Красные черепичные крыши города сменились гофрированными железными, булыжные мостовые – асфальтом, средневековые улочки – американскими авеню, автомобиль и трамвай вытеснили конные экипажи, театр умирал; а полную уверенности в будущем Кончиту Хиль, ту, что когда-то во время карнавала стояла на террасе среди цветочных горшков и клеток с птицами, сменила Кончинг Борромео – изможденная женщина с четырьмя сыновьями и умирающим мужем на руках. Ночами, в чутком полусне, готовая в любой момент проснуться от кашля больного, она грезила о том далеком вечере на террасе, когда она была молода, энергична и полна уверенности в себе, а он собирался разрабатывать золотые рудники, заниматься политикой, писать поэмы и издавать журналы. Но затея с рудниками провалилась, две попытки выставить свою кандидатуру на выборах окончились неудачей, а третья книга стихов, которую он опубликовал в конце двадцатых годов, осталась на полках магазинов, и именно этот факт послужил для его всполошившихся сверстников первым сигналом о том, что у них нет больше читательской аудитории и впереди тупик. Он начал было издавать журнал, но скоро в соответствии с велением времени журнал перешел с испанского языка на английский, а он из редактора превратился в составителя заголовков для материалов на испанском языке, которым журнал еще отводил пару страниц. Поколение, воспитанное на Шалтай-Болтае и на Красной Шапочке, уже освоило Лонгфелло и теперь открывало для себя Шервуда Андерсона. В этих великих изменениях не было места для Эстебанов Барромео: они попали в список погибших во время войны с Дьюи.
Не ведая, что его списали со счетов истории, он пытался найти в ней свое место, хотя думал, что попросту ищет золотую жилу. Он не терял уверенности в себе, отказывался признать себя больным, упорно занимался пустяковой работой в журнале, но – по-прежнему вдохновенно прорицая великое будущее – сбрил усы и приобрел манеры бизнесмена нового толка. Собрав оставшиеся небольшие средства, он вложил их целиком в еще одно предприятие по добыче золота, и это снова кончилось крахом. Борромео вынуждены были продать свой дом и снять дешевую квартиру. Для Кончинг Борромео, которая всегда жила в собственном доме, жизнь под чужим кровом была бесчестьем, ежемесячные встречи с хозяйкой дома – унижением, особенно с тех пор, как хозяйку приходилось все чаще приветствовать словами: «Не могли бы вы подождать до следующей недели?» А потом журнал, в котором работал Эстебан, объявил, что и вовсе прекращает публикацию на испанском языке. Эстебан написал жившему за границей брату и попросил его приютить детей, а когда пароход увез с Филиппин его четверых сыновей, умирающий бунтарь слег в постель и больше уже не вставал. Жена перевезла его в дом своего отца, куда он отказывался перебраться, пока еще был на ногах, и где годом позже, в бреду, вообразил, что снова молод, и – как в тот апрельский вечер, когда он выскочил на сцену из суфлерской будки и попытался произнести пламенную речь, размахивая галстуком, – умер, размахивая полотенцем, как знаменем.
Кончинг Борромео почувствовала, что ее жизнь тоже оборвалась. Она осталась в запущенном доме отца, где вечно ссорились две ее сестры – старые девы, а она и ее овдовевший отец молчали под удивленными взглядами ящериц. Двадцатые годы подходили к концу, но кончалось больше, чем десятилетие; и она чувствовала себя такой же старой, как ее отец, как те старики, что собирались в обветшавших гостиных поговорить о былом. Она полагала, что всю оставшуюся жизнь ей предстоит прожить в мире этих обветшавших гостиных среди этих стариков, а потому не сняла траура и через год после смерти мужа; день ото дня она становилась все апатичнее, все хуже спала по ночам и наконец неожиданно для себя обнаружила, что завела роман с человеком, к которому ее влекла не столько страсть, сколько жалость. Ее любовник принадлежал к поколению Эстебана; подобно Эстебану, в девяностых годах он считался многообещающим писателем, но в отличие от Эстебана становился все более замкнутым и подавленным по мере того, как умолкали голоса его сверстников; он сумрачно бродил по обветшавшим гостиным с потерянным видом, производя впечатление бесплотного привидения, а в конце концов – видимо, лишь для того, чтобы самому себе доказать, что он еще жив, – решился на отчаянный шаг и бросился с моста. После первого, яркого замужества он казался Кончинг Борромео таким анемичным и бескровным, таким жалким любовником, что, когда его тело выудили из воды, вся скорбь, которую это событие могло бы в ней вызвать, растворилась в шоке неожиданного открытия: он оставил ее беременной. Ее охватила паника, но она твердо помнила об одном: ее отец не должен ничего знать, позор не должен пасть на его седины. И она снова превратилась в юную Кончиту Хиль, которая, чтобы не обидеть родителей, целый год разыгрывала хитроумный спектакль. Пряча стыд за темной вуалью, она отправилась к Маноло Видалю.
В былые дни Маноло Видаль был заметной фигурой на сборищах в доме ее отца. Как и Эстебан, он учился в Испании, участвовал в революции, как и все в девятисотые годы, верил в незыблемость старого порядка. Но он быстро сообразил, что будущее не за Эстебанами Борромео, понял, что они окажутся в тупике, и еще понял, что в будущем политика будет играть куда более важную роль, чем литература. Сориентировавшись, он покинул лагерь обреченных и примкнул к людям, группировавшимся вокруг молодого Кесона [25]25
Кесон, Мануэль Луис (1878–1944) – первый президент и глава правительства Филиппин с 1935 г., после завоевания Филиппинами автономии.
[Закрыть], которые понимали, что американизация неизбежна, и сами шли ей навстречу – по этой причине, кстати, в среде «старой гвардии» имя Кесона всегда произносили лишь с иронией. В то время как его менее гибкие сверстники погружались в пучину нищеты, бросались с мостов или просто тихо увядали, звезда Маноло Видаля все выше поднималась на политическом небосклоне. Он также был известен как блестящий хирург и как развратник; в обветшавших гостиных полагали, что он использовал свою профессию в целях, отвечающих его низменным страстям, и что девушки из приличных семей, попавшие в беду, легко могли избежать скандала, согласившись на его гнусные условия. Когда Кончинг Борромео отправилась к нему, она была готова на любые условия.
Он принял ее с уважением, которое не уменьшилось после того, как он выслушал ее, и тут же предложил свои услуги. Она все еще видела в нем человека из ее юности, когда она впервые сделала себе взрослую прическу, а он был гостем в доме ее отца. В те годы он был' типичным байроновским денди, теперь же он стал слишком солидным, слишком велеречивым, в его безукоризненных манерах появилась вкрадчивость, и он источал уверенную силу. Она чувствовала себя ужасно, но гордо стояла перед ним с поднятой головой, глядя ему прямо в глаза.' Не без некоторой грусти он почтительно, как и прежде, поклонился дочери великого патриота и вдове великого поэта. Она принадлежала к миру, который он оставил позади, но он все еще хранил к нему уважение, а потому и сейчас, когда она стояла перед ним, вся в черном, гордо подняв бледное лицо, он ничем – ни движением бровей, ни интонацией – не оспаривал ее права держать себя с достоинством даже в таких постыдных обстоятельствах. Ни тогда, ни при последующих встречах не было сказано ни слова о пресловутых условиях, и он даже отказался взять с нее деньги.
Ужас охватил ее, только когда все было уже кончено. После «отдыха в провинции» она похудела, но ничем не выдавала мук, терзавших ее. Надо было ухаживать за умирающим отцом, и это не давало ей расслабиться, но и после его смерти она держала себя в руках: поколения ее праматерей просто не знали, что такое обморок. Но ужас все время разъедал ее изнутри, как яд. Она видела только два выхода: сумасшествие или самоубийство, но сомневалась, может ли сойти с ума. Когда ей показалось, что она уже дошла до предела и должна покончить с собой, в одну, особенно тяжкую, ночь она испытала нечто, о чем впоследствии всегда думала как об озарении.
В ту ночь она лежала в постели и наконец-то начала засыпать, когда услышала крик петуха. Она открыла глаза и увидела, что едет в карете; на ней была розовая шаль, и к щекам прикасались холодные бриллианты серег. Отец дремал в углу кареты, сложив руки на набалдашнике трости, впереди на козлах возвышался безголовый силуэт клевавшего носом извозчика. Мимо медленно проплывали дома, лошади рассекали грудью лунный свет, и стук их копыт только подчеркивал тишину ночи. Она была одна во всем мире и, наклонившись вперед, с трепетом вслушивалась в крик петуха; вдруг, поняв звучавшее в этом крике предостережение, она вздрогнула. Она знала, что они уже подъезжают к перекрестку, где карета свернет, и что там, за уличным фонарем, мать ждет ее на лестнице, огни фейерверка освещают танцующих людей, а на веранде щебечут в клетках птицы. По мере того как карета приближалась к освещенному перекрестку, ее страх перерастал в панический ужас. Она подалась вперед, сжала кулаки и заколотила ими друг о друга, безуспешно пытаясь поднять тревогу. Крик петуха звучал в ее ушах раскатами грома. Они приближались к перекрестку, вот они уже на углу, и свет фонаря ослепил ее. Она почувствовала, как по ее лицу струится холодный пот. Но карета не свернула, карета покатила дальше. Улицы, дома, ночь – все осталось позади, они ехали теперь среди полей; лошади ускоряли шаг и торопились туда, где кричал невидимый петух – теперь он пел свою песню солнцу. И неожиданно ее переполнило блаженство, теплой волной смывшее страх. Улыбаясь, она откинулась назад, закрыла глаза и заснула.
Проснулась она, когда за окном уже ярко светило солнце и звенели колокола; она все еще улыбалась, и блаженство по-прежнему переполняло ее. В то утро она отправилась к мессе и на исповедь. В исповедальне она плакала и вышла оттуда дрожа, но умиротворенная. Она стала необычайно набожной и каждый день теперь спешила на свидание с богом, словно в боге обрела сразу сто любовников. В развевающейся черной вуали она торопилась в церковь вместе со старухами, которые заполняли храмы божии с утра до вечера, а ночами пребывала в другом мире, где не было ни замужества, ни материнства и где петух кричал навстречу яркому солнцу. Двое мужчин, некогда владевших ею, и четверо сыновей, которых она вскормила грудью, оказались заключенными в скобки вводными словами в предложении, а само предложение все никак не могло дойти до точки, и вводные слова в скобках становились все менее и менее существенными; когда-то она думала, что эти слова – главное, что они – все предложение, но теперь она поняла, что прочла их, не растратив себя, что в глубине души осталась девственницей, о чем раньше и не подозревала, и что настоящей жизнью она еще не жила, еще будет жить. Только своему исповеднику она призналась, что жаждет духовного обновления. Она знала, что натура у нее страстная, чувственная, но не считала, что это помешает ей жить той жизнью, к которой она стремилась. В сущности, у нее были средневековые воззрения: она бы презирала себя, если бы любила бога менее страстно.
В конце семнадцатого и начале восемнадцатого века Манилу охватила волна религиозного мистицизма. Неграмотные крестьяне становились отшельниками и выходили из уединения бородатыми пророками и чудотворцами; юные красавицы неожиданно отказывались танцевать на балах, запирались в своих комнатах и проводили дни в постах и молитвах; молодые вдовы, устрашенные властью смерти над любовью, раздавали свое наследство и умерщвляли плоть. Эти мистики-любители начали постепенно объединяться в сообщества; некоторые из этих сообществ позже влились в ордена францисканцев и доминиканцев, а некоторые сохранили самостоятельность и уже при американцах превратились в настоящие религиозные конгрегации, хранившие лишь смутные воспоминания о том, что их породили дикие суеверия, апокалипсические видения и религиозный экстаз. Кончинг Борромео готовилась к вступлению в одну из таких конгрегаций, когда в ее жизнь снова вошел Маноло Видаль.
Однажды он явился к ним домой и спросил, нельзя ли ему поговорить с Кончинг. Со времени их встреч в его клинике прошел год. Одетая во все черное, она спустилась к нему, недоумевая: может быть, он все же пришел за своим вознаграждением? Но он держался так, словно они виделись впервые со времени ее детства. В его взгляде не сквозило и намека на издевку, а его поведение ничем не напоминало о прежних встречах. Он принес ей коробку пирожных. (Когда филиппинец ухаживает за девушкой, он всегда приносит ей не цветы, а что-нибудь вкусное.) В сумрачной гостиной, среди старой мебели, его шелковый костюм поблескивал, как новенькие банкноты; она внимательно следила за ним отстраненным взглядом, плотно сжав бледные неулыбающиеся губы. После того как он ушел, ей стало дурно; ее начало тошнить уже во время визита, когда он тихо говорил о том о сем, а она по большей части молчала, чувствуя, как присутствие этого человека заполняет каждую пору ее существа и мешает дышать. Но ее поразило то, что она прочла в его глазах. Она уже привыкла думать о себе как о постаревшей, увядшей и бесцветной женщине (ей было за тридцать), но его глаза говорили, что она прекрасна. После того как он ушел, после того как кончился приступ рвоты, она встала с постели и принялась рассматривать себя в зеркало.
Через неделю он снова появился в их доме, и снова с пирожными. Снова они сидели в гостиной и без единой улыбки вели беседу, снова после его ухода ей стало дурно, и снова, оправившись, она внимательно рассматривала себя в зеркало. Когда он появился в третий раз, она велела сказать, что не может принять его. Он приходил еще несколько раз, но она отказывалась спуститься в гостиную. Он перестал приходить, но каждый вечер присылал коробку пирожных или конфет. Встревоженная, она поторопилась уладить вопрос о вступлении в религиозную общину.
Вечером накануне вступления в общину (родственникам было сказано, что она просто уединяется в монастыре на время поста) она сидела в комнате и тайно готовилась к побегу в мир религии: собирала драгоценности, которые составят часть ее дара общине, откладывала в сторону платья, которые следовало раздать бедным, рвала старые письма – как вдруг вошла горничная и объявила, что дон Маноло Видаль ждет ее в гостиной.
Много позже, когда Кончинг Борромео стала Кончей Видаль, она пыталась убедить себя, что в тот миг громко вскрикнула от ужаса и зарыдала – совсем как юная Кончита Хиль, что когда-то давным-давно, вечером, в пору карнавала, зарыдала в этой же комнате и рассыпала соль и шкурки манго. Она пыталась-убедить себя, что яростно сопротивлялась, боролась и была осаждена в тот вечер, когда, держа на коленях шкатулку с драгоценностями, сидела в черном платье на полу среди обрывков писем и вороха старых платьев, а с потолка на нее смотрели ящерицы. На самом же деле она, помедлив секунду, велела горничной передать гостю, что его просят подождать. Вниз она спустилась в сером шелковом платье с рубинами на шее, и ее улыбка заставила его молча подняться с места.
Месяц спустя они поженились.
Падре Тони пришел к Тексейра как раз в тот момент, когда в веселье наступило временное затишье.
– Мы только что пели народные песни – филиппинские песни, – сказала Мэри, принимая у него пальто. – Я уже думала, ты вообще не придешь. Хочешь горячего рома?
– А можно кофе?
– И тарелку лапши?
– Нет.
– Что-нибудь случилось?
– Нет, ничего.
– Ты устал.
– Да, пожалуй. А лапшу я съем попозже, ладно, Мэри?
– Входи и познакомься с земляком, – сказала она и, взяв его под руку, ввела в комнату. Она была одета по-китайски: зеленый с золотом балахон поверх черной юбки, голова украшена белыми цветами, на шее нефритовое ожерелье.
В гостиной, откуда убрали не только бельевые веревки, но и всю мебель, среди остатков пиршества, сидели на полу, скрестив ноги, Пепе, Рита и Элен Сильва. Невозмутимые, как идолы, они даже не поздоровались с падре. Элен и Рита тоже были одеты в китайские наряды, Пепе ограничился тем, что надел на голову круглую черную китайскую шапочку. Они ели на полу, и падре Тони пришлось осторожно ступать среди чашек и блюдец. Земляком – и почетным гостем – был Пит Альфонсо, который в данный момент играл с Пако на пианино в четыре руки. В темно-синем двубортном костюме мистер Альфонсо выглядел как адмирал, и рукопожатие у него было крепким, матросским. Пако надоело играть стоя, он опустился на пол и, закуривая, приподнял сутану падре Тони.
– Это похоже на пижамные штаны.
– Прекрати, Пако.
– Эй, вы только поглядите – он ходит в пижамных штанах.
– Я же тебе сказал – прекрати. Хочешь получить ботинком по физиономии?
– У тебя что, пары штанов не найдется?
– Одна пара в стирке, – ответил падре Тони, прижимая сутану к ногам, – а вторую я отдал в починку.
– А я и не знал, что от святости даже штаны снашиваются.
– Садитесь, падре. – Пит Альфонсо предложил ему круглую табуретку.
– Нет, нет, сидите.
Падре Тони опустился на пол рядом с Пако. Из всей компании только Пако не надел на себя ничего китайского и был, как всегда, в стареньком свитере. Падре Тони с любопытством взглянул на Пепе, Риту и Элен Сильву – они по-прежнему неподвижно сидели посреди комнаты, видимо погруженные в медитацию.
– Натрескались, – мрачно прокомментировал Пако. – Итак, где ты был, старина?
– У Кикай Валеро. Мы с ней… послушай, Пако, если ты снова скажешь какую-нибудь глупость, то я… да поможет мне бог…
– Что такое? В чем дело? – всполошилась Мэри, входя в комнату с кофе для падре Тони. – Пако, ты опять затеваешь ссору?
– Нет, дорогая. Просто Тони просит извинить его за то, что он явился в пижаме. Он только что от Кикай Валеро.
– Бедняга, у него и вправду измученный вид.
Она наклонилась, чтобы поставить чашку, и каштановые волосы закрыли ей щеки.
– Боюсь, мы шокируем мистера Альфонсо, – сказал падре Тони, беря чашку.
Однако мистер Альфонсо заявил, что все в порядке. Он излучал благодушие. После утренней репетиции от его вчерашнего отчаяния не осталось и следа: игра Пако привела в восторг весь оркестр, а, кроме того, новая певица так вертела задом, что мистер Альфонсо никак не мог заподозрить ее в сочувствии коммунистам. И сейчас, с душой, переполненной чувством облегчения, и с желудком, переполненным лапшой, он готов был одарить любовью весь мир, а потому начал рассказывать какую-то не вполне приличную историю, касавшуюся Кикай Валеро. Мэри, опустившись на колени, внимательно слушала его, то затягиваясь сигаретой из рук Пако, то отхлебывая кофе из чашки падре Тони, а потом вдруг перебила мистера Альфонсо, спросив, не пора ли ему с Пако идти в ночной клуб. В связи с праздником оркестр в «Товарище» должен был сегодня начать программу пораньше.
– Пожалуйста, замолчи, дорогая, – попросил Пако. – У нас еще масса времени. Я хочу дослушать про Кикай Валеро.
Примостившись на краю табуретки, как на жердочке, мистер Альфонсо закончил свою историю под непристойные смешки Мэри и Пако, неловкую улыбку падре Тони и бессмысленные взгляды троицы, погруженной в медитацию.
– Если вы, трое, собираетесь и дальше сидеть вот так, – решительно сказала Мэри, – это будет уж слишком.
– Мы не просто сидим, – величественно изрек Пепе. – Мы размышляем. У нас ведь был китайскийобед, верно? И я сказал Элен и Рите, что единственный способ переварить такое количество сои – это погрузиться в буддистское самосозерцание.
– Пока что вы похожи на тех трех обезьян, – заметила Мэри. – Не вижу зла, не слышу зла, не изрекаю зла.
– Я похожа на обезьяну из-за этой прически, – вздохнула Элен, – но она нравится моему жениху, он требует, чтобы я стриглась покороче. Кроме того, мы с ним с самого дня помолвки одеваемся по-идиотски, как близнецы. Вот я и ношу такую прическу. А еще он говорит, что я для доказательства моих чувств к нему должна постричься под «ежик». Но по-моему, это уж чересчур. Или, может, вы думаете, что стоит?
– Если бы это сделала я, Пепе даже бы не заметил, – пробормотала Рита.
– Неужели ты позволишь, чтобы между тобой и твоим возлюбленным встал парикмахер? – повернулся Пепе к Элен.
– Это, – задумчиво ответила Элен, – зависит от внешности парикмахера.
– Тот, у которого стригусь я, настоящий красавчик, – заметил Пако, – и притом отлично стрижет под «ежик».
– У нас дома, – сказал мистер Альфонсо, – мы называем эту стрижку «под Агинальдо». Конечно, в честь генерала – он всегда так стрижется.
– Рита, если ты пострижешься под «ежик», Пепе обязательнообратит на тебя внимание, – сказала Мэри, – потому что ты будешь ему напоминать генерала Агинальдо.
– Но ведь, – воскликнула Рита, – я хочу, чтобы во мне любили только меня!
– Мэри! – тихим отстраненным голосом позвал падре Тони.
– Да, Тони!
– Можно мне теперь лапши? – спросил он, внимательно глядя на нее.
Пока падре Тони ел лапшу, остальные обсуждали военное положение на Дальнем Востоке – главным образом это делалось для мистера Альфонсо, и он постепенно начал приходить в изумление от услышанного. Элен Сильва познакомила его со стратегией, которую, по ее мнению, следует применить против коммунистов на континенте. Рита не преминула указать на некоторые слабые места в стратагемах Элен и предложила мистеру Альфонсо рассмотреть ее собственный план боевых действий, но Пепе сказал, что, хотя лично на него эти планы производят большое впечатление своей тонкостью, он все же сомневается в их практической эффективности.
– Не помню, рассказывал ли я вам когда-нибудь о вечеринке в китайский Новый год и о ночном горшке? – спросил вдруг Пако.
– Подожди со своей историей, пока Тони не доест, – заявила Мэри.
Но падре Тони сообщил, что он приветствует умерщвление плоти во время поста.
– Ну так вот, – начал Пако, глядя на Элен и Риту, которые стояли по обе стороны мистера Альфонсо, молчаливо подавляя раздражение. – Так вот, я был тогда еще мальчишкой и пошел к знакомым встречать китайский Новый год. Все это происходило на территории, недавно освобожденной от японцев. Я вышел на кухню и вижу, что там суп разливают по чашкам из ночного горшка. Хозяин заметил мое удивление и успокоил меня, сказав, что горшок совсем новый и еще ни разу не использовался по назначению.
Элен и Рита молча переглянулись.
– Вот и вся история, – сказал Пако, задумчиво улыбаясь. – Да и, пожалуй, следует добавить, что на этой вечеринке мне больше всего понравился именно суп.
– Естественно, – холодно заметила Рита и вновь принялась излагать мистеру Альфонсо свой план боевых операций.
– Все это очень любопытно, – пробормотал тот, когда она кончила. – Однако я не вполне понимаю, почему вы объясняете это мне. Должен вам сказать, я, в общем-то, не военный и сомневаюсь, чтобы мистер Чан Кайши проявил интерес к моей особе, даже если бы я записался добровольцем.
– О, вы зря так говорите! – воскликнула Элен Сильва. – По-моему, вы очень симпатичный. У вас замечательные глаза – я таких никогда не видела. Мне даже трудно решить, который глаз у вас мне нравится больше: левый свидетельствует о вашем твердом характере, но зато правый прозрачнее.
– Что до меня, – возразила Рита, – то я могу сказать, что левый глаз у мистера Альфонсо так же прозрачен, как и правый.
– Тогда подойди ближе и посмотри, – сказала Элен. – Вы ведь не возражаете, мистер Альфонсо?
– М-м, – промычал бедный мистер Альфонсо и обратился к Пако – Текс, ты не думаешь, что нам пора выметаться?
– Вы никуда не пойдете, – твердо сказала Мэри, – до тех пор, пока все мы не выпьем еще рому. Пако, иди принеси ночной горшок.
Когда Пако вернулся с бутылкой рома, все уже сидели на полу вокруг глиняной чаши. Ром вылили в чашу, добавили сахару и специй. Мэри заявила, что нужна полная темнота. Затворили двери, опустили шторы, и Пако поднес к жидкости горящую спичку: ром вспыхнул синим пламенем, осветившим склоненные над чашей лица. В молчании они смотрели, как их тени пляшут на стенах, и постепенно их напряженные лица смягчились: то было прощание с еще одной зимой. Пепе и Рита, Пако и Мэри прижались друг к другу, а Элен вопросительно посмотрела на мистера Альфонсо, словно испрашивая разрешения тоже прижаться к нему. Поскучневший падре Тони вдруг хлопнул в ладоши.
– Пока горит ром, – сказал он, – мы должны взяться за руки и спеть.
– Совсем как бойскауты! – хихикнула Элен.
– Вовсе нет! – возмутился падре Тони. – Вы можете представить себе бойскаутов, поющих вокруг чаши с ромом?
– Давайте ту филиппинскую песню про рис, – предложила Мэри.
Пока они пели, пламя в чаше догорело, и они остались в темноте, населенной духами, которых они старались умилостивить этим огненным ритуалом. Они сидели кружком, прижавшись друг к другу, и, когда погасло пламя, всех вдруг охватило беспокойство. Даже посторонние – мистер Альфонсо и Элен Сильва, – казалось, слышали, как темнота шепотом произносит имена, которые они так тщательно избегали упоминать весь день. Сомнений не было: Эскобары и Видали присоединились к их компании. Дверь в гостиную запирали напрасно.
– Надо поднять шторы, – сказала Мэри.
Пако встал и направился к окну, и все они почувствовали, как каждый заготавливает улыбку. Но ни солнечный свет, ни горячий ром не могли уже вернуть прежнего веселья. Было ясно, что пора расходиться.
– Я не хочу, чтобы все кончилось вот так, – нарушила тишину Мэри. – Элен, Рита, ну что вы молчите?! Расскажите что-нибудь.
– Лучше я приберегу свои истории до вечера, – сказала Рита. – Ничего еще не кончилось, Мэри. Мы все это продолжим вечером в «Товарище».
– Нет, я туда не пойду.
– Как это не пойдешь? – изумилась Рита. – Ты же сказала, что обязательно там будешь.
– Я передумала.
– Не упрямься, Мэри, – сказал Пепе. – Мы же не можем пропустить дебют Пако.
– Я обещала взять детей на фейерверк.
– Своди их на фейерверк пораньше, – посоветовала Рита.
– Мне просто расхотелось идти сегодня в «Товарищ».
– В чем дело, Мэри? – спросил Пако. – Ведь только что ты была в восторге от этой идеи.
– Я же говорю: я передумала. Ты там прекрасно обойдешься без меня, Пако, – ты уже вполне взрослый. Тебе вовсе не нужна нянька или сиделка. А я сегодня просто хочу побыть дома. И вообще тебе пора собираться. Пойдем, я помогу тебе.
Когда Пако и Мэри скрылись в спальне, Элен и Рита снова уговорили мистера Альфонсо сесть за пианино и сыграть пару филиппинских мелодий. Пепе с братом отошли к окну.
– Итак, Тони, что сказала Кикай?
– Она тоже не знает, где эта бедняжка.
– А что ты делал потом?
– Просто сидел у нее, пока она обзванивала знакомых.
– И безрезультатно?
– Никто не видел ее сегодня. Кроме меня и сеньоры де Видаль.
– Где?
– В центре, когда мы ехали к Кикай. Она пронеслась мимо в своем «ягуаре».
– Что ж, по крайней мере мы знаем, что она в городе.
– Потом я поднялся на тот утес, о котором ты мне говорил.
– Я сам думал заглянуть туда, перед тем как идти к Мэри.
– Я ждал ее там, но надеялся, что она не появится.
– Я рад, что она не появилась.
– Мы должны разыскать ее, Пепе.
– Наверное, она весь день кружит на машине по городу. Но должна же она где-то и когда-то остановиться.
К ним подошла Рита:
– О чем это вы шепчетесь?
– О Конни Эскобар, – ответил Пепе.
– Ее еще не нашли?
– Мы с Тони собираемся отправиться на поиски. Хочешь с нами?
– Я не могу. Мы с Элен обещали Мэри помочь все убрать.
– Как насчет нашей встречи сегодня вечером?
– Но ведь Мэри отказалась.
– А ты?
– Я позвоню тебе попозже.
Когда Пако и Мэри вновь появились в комнате, братья Монсоны и мистер Альфонсо помогали друг другу надеть пальто.
– Я выйду с вами, – сказала Мэри. – Мне надо привести детей из парка.
На улице, когда она довольно растерянно стояла между машинами Пепе и мистера Альфонсо, они продолжали хором уговаривать ее поехать вечером в «Товарищ». Она все еще была в своем китайском наряде, с белыми цветами в волосах и, подняв голову к небу, улыбалась солнцу, словно это оно, а не мистер Альфонсо было гостем, с которым она прощалась.
Прежде чем машина мистера Альфонсо тронулась, Пако высунулся из окна:
– Мне бы хотелось, чтобы ты пришла в «Товарищ», Мэри.
– Но я не хочу.
– Потом ты будешь жалеть.
– Да, дорогой, я уверена, что играть ты будешь блестяще.
– Я вернусь рано.
– Если я буду спать, разбуди.
Она помахала рукой Пако и мистеру Альфонсо и повернулась к братьям Монсонам, которые садились в машину Пепе.
– Пока, Мэри, – сказал падре Тони. – Прием удался на славу.
– Не говори вздор. Ты же ничего не ел.
– Напомни Рите, что она должна мне позвонить, – сказал Пепе. – Пока, Мэри.








