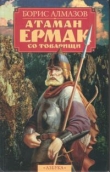Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Ты что это тут сидишь? – раздался от двери голос воеводы. Аграфена вскочила и робко сказала: «Я сейчас, ваша милость, сейчас, все сделаю».
Данило Иванович усмехнулся, сбрасывая полушубок. «Избы сегодня рубить зачинаем, так я за ровнялом своим зашел, забыл его с утра».
– На столе оно, там, – указала Груня, – в горнице.
– Да уж я видел, – он приподнял ее за подбородок и вдруг, смешливо, сказал: «А ведь я его, Аграфена Ивановна, нарочно оставил».
«А зарделась-то как вся, – добродушно подумал воевода, раздевая девушку. «Сладкая, конечно, сладкая да горячая, – он погладил Груню пониже спины и шепнул: «Видишь, и постель не пришлось убирать, пригодилась».
«А Марья-то моя, – усмехнулся Чулков, чувствуя под руками маленькую, жаркую грудь, – только и знает, что лежать, да охать. Зато хороших кровей баба, сего у нее не отнять. Ну, ничего, от Груни тоже славные сыновья будут, в дружину пойдут».
Девушка, стоя на четвереньках, уткнувшись в подушку, застонала, – громко. Данило Иванович, прошептал ей: «А теперь давай покричи, Грунюшка, покричи, дверь закрыта, не услышит никто».
Потом воевода зевнул, все еще не отпуская ее, и сказал: «Надо тебя еще кое-чему обучить, Груня, сегодня ночью и займусь. Что на обед-то?».
– Тельное, да кашу сварю, как вы учили меня, гречневую, с маслом льняным, – нежась под его рукой, ответила девушка. «Сегодня ж рыбное можно, да?».
– Можно, можно, – рассмеялся Данило Иванович, и, потянувшись, добавил: «Ничего, весной огороды будем закладывать, по осени уж с капустой и луком будем, все вкуснее. Хотя вкуснее тебя, Грунюшка, – он провел губами по нежной шее, – ну ничего на всем свете нет».
Воевода не удержался, и уже вставая, в последний раз наклонился и поцеловал маленькие, темные соски и плоский, смуглый живот – несколько раз.
Когда он ушел, Груня быстро подмылась в нужном чулане, и, натянув валявшийся на полу сарафан, все же стала перестилать постель и взбивать подушки.
– Ну, здравствуй, Аграфена, – услышала она знакомый голос.
Федосья Петровна – высокая, стройная, в богатой, собольего меха малице, стояла, прислонившись к дверному косяку.
Девушка, смутившись, быстро завязала платочек на сбившихся косах и сказала: «Милости прошу».
– Хорошо живешь, – чуть улыбнулась Федосья, оглядывая большую, чистую горницу – с мерно гудящей печью, откуда уже доносился запах каши, с куньего меха, одеялами на лавках. На столе лежало Евангелие с закладкой – кожаной, вышитой бисером.
Поймав взгляд Федосьи, Аграфена, не поднимая головы, проговорила: «Данило Иванович читать меня учит».
– А, – ответила старшая девушка. В открытую дверь была видна опочивальня – с украшенной резными столбиками кроватью, с сундуками вдоль стен. Один из них был раскрыт и Груня вдруг сказала: «Одежду его чиню».
– Грунюшка, – ласково сказала Федосья, присаживаясь на лавку – я тебя попросить хотела.
Батюшку моего, – ты ж его знаешь, – брат Данилы Ивановича, наместник наш тюменский, в острог посадил, креститься заставляет. А в договоре вечном, что еще Ермак Тимофеевич, упокой Господи душу его, с остяками заключал, написано, что каждый может при своей вере оставаться, неволить никого не будут.
Дак ты попроси, пожалуйста, воеводу, чтобы грамотцу отправил, Якову Ивановичу, и выпустил бы тот отца моего. Данило Иванович тебе не откажет, Груня, – Федосья взяла тонкую, маленькую руку девушки и добавила: «То ж кровь твоя, милая, сама знаешь – твой отец и батюшка мой семьи одной, хоша и дальние, но все же сродственницы мы».
Груня молчала, опустив голову, перебирая пальцами подол сарафана.
– Ты же помнишь, Грунюшка, что от Писания про царицу Есфирь говорится, – вздохнула старшая девушка: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Тебе ж только слово сказать стоит, и все».
– Мы с тобой ведь тоже, – наконец, тихо, ответила Аграфена, – крещеные. И батюшка твой пусть веру примет. Они, – девушка мотнула головой на улицу, – сильнее, Федосья.
– Нельзя людей-то заставлять, к Иисусу сам каждый прийти должен, своим путем, – Федосья посмотрела на Груню – внимательно. Та поерзала на лавке и пробормотала: «Не буду я ничего просить, я христианка православная, а он – язычник, как царь Ирод, он же с Кучумом в союзе был».
– Христианка православная, – издевательски сказала Федосья. «Оно и видно – Великим Постом под мужиком женатым визжишь, аки сука в течке. Крест сыми свой сначала, блудница».
– Ты сама, – Груня подняла покрытое слезами лицо, – под всеми татарами в ханском стане повалялась, не тебе меня учить».
– Меня силой брали, супротив воли моей, – Федосья поднялась во весь свой рост, и холодно добавив: «А ты, Аграфена, блядь, и не о чем мне с тобой говорить более», – швырнула на стол какую-то бумажку.
– Сие, – сказала девушка, – отпечатки, что на руке мужа твоего покойного были. Сапогом на ней стояли, как Василий твой за лед хватался. А теперь, как уйду я, выдь в сени, да сравни – подошва сия знакома тебе, думаю. Ну и прощай тогда, Аграфена, счастья тебе не желаю».
Когда Федосья вышла, Груня, услышав, как захлопнулась за ней дверь, медленно протянула руку к рисунку. Она открыла заслонку, и долго смотрела на то, как корчится в огне бумага.
– И все, – сказала тихо Аграфена, отходя от печи. «И ничего я не видела, и не слышала ничего».
Она прошла в опочивальню, и, устроившись на сундуке, принялась чинить порванную одежду.
Василиса вынесла Никитку под яркое, уже весеннее солнце. Мальчик, закутанный в меха, и вправду казался маленьким медвежонком.
– Солнышко, – нежно сказала Василиса. «Солнышко теплое, да?». Никитка улыбнулся и зевнув, прикорнув на груди у матери, еле слышно засопел.
Девушка приставила ладонь к глазам, и, вдруг, побледнев, пробормотала: «Матушка Богородица, помоги мне».
Нарты приближались, и Василиса увидела, как Федосья, остановив оленей, что-то сказала сидящим в них мужчинам.
Девушка поправила перевязь, где лежал ребенок, и, перекрестившись, пошла навстречу мужу.
«Полушубок зашить надо», – мимолетно подумала Василиса. «Вон, карман распорол где-то.
И похудел, как они там ели, один Господь ведает, из общего котла, небось, хлебали».
Она подняла глаза, и, велев себе не плакать, посмотрела на его простое, взволнованное, любимое лицо.
Гриша наклонился, и, поцеловав ее, – долго и глубоко, озабоченно сказал: «Что ж ты не в крепостце-то ждешь нас? Как Никитка?».
– Никитка хорошо, – Василиса повернулась к старшей девушке и попросила: «Присмотрите за ним, Федосеюшка. Он поел только, сейчас спать крепко будет».
Федосья только кивнула, нежно, быстро, сжав пальцы девушке.
Василиса оглядела уже оседающий, мокрый снег на равнине, и, на мгновение, закрыв глаза, почувствовала на лице теплый, свежий ветер с юга. «Весна, – подумала она. «Так хочется весны».
– Пойдем, Гриша, – она чуть помолчала и указала на чум. «Разговор у меня до тебя есть».
Василиса сидела, уставившись на костер, и муж вдруг испугался, увидев слезы в ее глазах.
Гриша сбросил полушубок, – в чуме было жарко, – и сказал: «А ну иди сюда, я тебя обниму, и тогда уж говорить будешь. Дай руку».
Жена протянула маленькую, – как у ребенка, – ручку, и Гриша, перевернув ее, поцеловал смуглые костяшки пальцев. «Скучал, – сказал мужчина, вздохнув. «Даже и не сказать, как скучал о вас».
– Гриша, – еле слышно сказала Василиса, – как ты уехал, так Федосья Петровна с батюшкой своим на охоту отправились. Я стала избу ее мыть, Никитка тоже при мне был, и наместник туда пришел. Он мальчика нашего утопить грозился, в ведро с ледяной водой его окунал, если я не, – девушка помолчала, и, закусив губу, продолжила, – если я не буду…, – она хватила воздуха ртом и обреченно закончила:
– Никитка так плакал, так плакал, его надо было в сухое переодеть, и покормить, иначе бы он заболел, Гриша! Я не могла, не могла, это же сыночек наш, ну как я могла смотреть на страдания его!
Муж молчал.
– И потом…, потом наместник мне пригрозил, что тебе все расскажет, Гриша, и ты меня выгонишь, а Никитку заберешь, – сухим, измученным голосом проговорила Василиса.
«Гриша, я все понимаю, Никитка же грудной еще, я докормлю его, и уйду, следующей зимой уйду, и ты меня не увидишь более. А спать я в сенях могу, ты не бойся». Она, наконец, разрыдалась, уронив голову на колени, обхватив их руками.
– Что? – вдруг, будто очнувшись, сказал Гриша. «В каких еще сенях? И куда это ты уходить собралась, скажи на милость?».
– В стойбище, к семье своей, – шмыгнула носом девушка. «Ты же не будешь со мной жить после этого, кто я теперь?».
– Ты моя жена, – он потянул Василису к себе, – сильно, – и усадил рядом. «И всегда ею будешь, пока живы мы. И любить я тебя всегда буду, что бы ни случилось, поняла? – Гриша чуть коснулся ее теплого, заплаканного лица и повторил: «Что бы ни случилось, Василиса, до конца дней моих. Нас Господь соединил, и человеку такое не под силу разрушить».
– Мне батюшка то же самое сказал, – девушка взяла руку мужа и прижалась к ней губами. «Я же грех, какой сотворила, Гриша, хотела руки на себя наложить, Федосья Петровна меня с петлей на шее застала».
У него, – он почувствовал, – перехватило дыхание. «А что бы я делал тогда? – тихо спросил муж. «Как бы я жил дальше, счастье мое, без тебя? – он вдохнул ее запах, – молоко, дым, какие-то травы, и тихо попросил: «Счастье мое, я знаю, нельзя сейчас, но я так скучал, так скучал. Пожалуйста».
Василиса ощутила его губы, – нежнее их ничего на свете не было, и вдруг, повернувшись, сама поцеловала его: «Гриша, – шепнула она, – Гриша, милый мой…»
– Что-то долго они, – озабоченно сказал Волк, и взглянул на жену. Никитка спокойно дремал на ее руках. «Ну, так и не виделись долго, – усмехнулась Федосья, чуть покачивая младенца.
– А я? – обиженно ответил Михайло. «Мало того, что ты под нартами в снегу ночевала, любовь моя, а не у меня на плече, как положено, – так теперь я что – должен сидеть рядом, и даже поцеловать тебя не могу?»
– Отчего же не можешь? – Федосья медленно повернулась к нему. «Очень даже можешь, Михайло Данилович». Волк посмотрел на ее полуоткрытые, полные, вишневые губы, и шепнул: «А вот нет, Федосья Петровна. Я сначала сделаю, что обещал, а потом уже тобой займусь – обстоятельно, мне много времени потребуется, а торопиться я не хочу».
– Я запомню, – пообещала жена и нежно сказала: «Просыпается».
Волк улыбнулся, глядя на зевающего ребенка. «Я раньше думал, как сын у нас народится, Данилой его назвать, по батюшке моему, – он хмыкнул, – а теперь…»
– Данила хорошее имя, – отозвалась Федосья. «А что того, – она махнула рукой на восток, – мерзавца так кличут, – сие неважно, Волк. Данилой и назовем».
Муж испытующе поглядел на нее, но Федосья только усмехнулась и проговорила: «Ну, и где там мать сего младенца, он сейчас тут так раскричится, что в крепостце услышат».
Василиса, – с растрепанными волосами, румяная, как была, – босиком, – выскочила из чума.
Подбежав к нартам, она забрала ребенка.
– Мы скоро, – пообещала она, откидывая полог, забираясь внутрь. «Скоро».
Волк расхохотался и обнял жену. «Давай-ка, Федосья Петровна, расскажу тебе, что мы с Гришей придумали – как батюшку твоего вызволить».
Мужчины стояли на обрыве Туры, глядя на темную громаду крепостцы чуть ниже по течению.
Всходила зыбкая, большая, бледная луна, где-то в лесу кричала птица – низко, тоскливо.
Гриша, засунув руки в карманы полушубка, вдруг вспомнил, как жена, томно потянувшись, сказала: «А ну давай зашью, распорол где-то, и так ходишь».
Она шила, опираясь на локоть, а Гриша целовал ее теплую спину – от стройной шеи вниз, туда, где было уже совсем горячо. Василиса только посмеивалась, а потом, отложив иглу, расстелив полушубок, потянула его к себе. «На совесть, – сказал он одобрительно, рассматривая шов. «Ну, я тогда тоже кое-что на совесть сделаю, счастье мое». Девушка уместила стройные ноги у него на спине, и, приподнявшись, шепнула: «Ты всегда сие на совесть делаешь, Григорий Никитич».
– Мне наместника убить надо, – равнодушно сказал Гриша, рассматривая белое пространство равнины на том берегу реки.
– Нет, – ответил Волк. «У тебя сын. Сие тебе не стрельцов сонным отваром поить, сие дело опасное. А я бездетный пока, – он пожал плечами, – мне не страшно. Да и потом, Григорий Никитич, ты, сколько людей в своей жизни убил?
– Ни одного, – буркнул Гриша.
– Ну вот, – рассудительно ответил Михайло, – а у меня оных – я и считать бросил, в шесть лет меня батюшка с собой на большую дорогу взял, а уж с тех пор, – он махнул рукой.
– Однако помощь твоя и тут понадобится, инструмент кое-какой для сего надо будет из кузницы твоей принести. Опять же мед надо в нашем лабазе забрать, для сбитня твоего именинного, – Волк нехорошо улыбнулся. «А потом сделаем все, и уйдем».
– Я тоже про сие думал, – Гриша помолчал, – не хочу я тут жить после всего этого, да и Василиса, сам понимаешь, тоже».
– Да уж, – Волк помолчал, и, вдруг, улыбаясь, сказал: «Иди сюда. Нарисую кое-что».
В свете луны линии на снегу были четкими и Гриша, присев, посмотрев на них, задумчиво произнес: «Сие, конечно дело безумное, Волк, но я с тобой. До конца».
– Это Федосья мне чертила, еще там, – Михайло указал на юг. «Опять же, и батюшка ее с нами будет, он землю эту знает, все легче идти».
– Думаешь, согласится он? – спросил Гриша.
Волк усмехнулся, и стер со снега грубый рисунок земных полушарий: «Что мне Федосья про тестя моего рассказывала, Гриша, – так князь Тайбохтой вперед нас с тобой на восток побежит».
В общей трапезной было шумно, трещали, чадили грубые свечи, на обструганных столах громоздились горы рыбьих костей. В деревянных мисках дымилась еще горячая уха.
Гриша и отец Никифор втащили четыре ведра со свежим сбитнем, и мужчина, улыбаясь, сказал: «Как завтра именины мои, на святителя Григория Двоеслова, а водку нельзя – Пост Великий идет, так сбитня за мое здоровье выпейте!»
Дружинники одобрительно зашумели.
– А что это брат мой тебя отпустил, Григорий Никитич? – внимательно посмотрел на него сидящий за главным столом наместник. Яков Чулков легко встал и подошел к кузнецу.
«Пасхи ж не было еще, или закончили вы там кузницу ладить?»
– Закончили, – улыбаясь, ответил Гриша, глядя в голубые глаза наместника. «Да и сродственники мои по жене туда, к Тоболу, прикочевали, с ними мы и вернулись. Василиса Николаевна с сыном сейчас у них гостит, в стойбище».
– То-то я смотрю, не видно ее давно, – пробормотал Чулков. «И что же, долго она там пробудет?».
– Недолго, – уверил его Гриша, и, ласково улыбаясь, спросил: «За мое здоровье-то стаканчик пропустите, ваша милость? Сбитень хороший, с травами, что жена моя и Федосья Петровна летом сбирали».
Наместник отпил и сказал: «Вкусно, да. А вы, как с Тобольска сюда шли, Федосью Петровну не встречали? Пропала она, сбежала».
– Да нет, – пожал плечами Григорий Никитич, – не было ее по дороге. А батюшка ее что?
– Да вот, – Яков Чулков строго взглянул на отца Никифора, – завтра уж и креститься должен, помните, же что я вам говорил?
– Да, – мягко подтвердил священник и стал разливать сбитень по кружкам.
Волк, оглянувшись на плотно закрытые ставни горницы, осторожно зажег свечу и пристроил ее на полу. В избе у Гриши было холодно, пар шел изо рта, и Волк плотнее замотал вокруг шеи соболий шарф.
«Так, – он оглянулся, – золото с камнями я принес, Гриша их заберет, пригодится по дороге, если вдруг что. Мне-то на дело с ними идти не след. Стрельцы, те, что воеводскую избу охраняют, – вряд ли им много сбитня досталось, те, что в остроге – те спать будут, а вот эти – не думаю».
Волк проверил пищаль за поясом и подумал: «Палить не буду. Тут как в том деле на Китай-городе – сделаю все тихо и быстро». Он достал кинжал и полюбовался игрой металла в огне свечи. «Господи, ну и руки, – пробормотал он, глядя на свои красивые, длинные пальцы.
«Вот, истинно, пару лет топор подержишь – и уже не верится, что я когда-то ими кошельки подрезал, да так, что не было на Москве карманника лучше меня».
Михайло достал из-за пазухи тряпицу с медвежьим жиром и долго, обстоятельно смазывал им руки, одновременно разминая их. «Вот, уже лучше, – одобрительно сказал он себе, берясь за грубую, наскоро выкованную другом отмычку. «Господи, – он вздохнул, – видел бы Гриша, какой инструмент у моих дружков на Москве был. Как это Егорка пьяным тогда хвалился – вроде ему отмычки тот же мастер немец делал, что куранты на Спасских воротах устанавливал».
Тайбохтой пошевелился и поднял закованную в цепь руку. «И дверь, какую, смотри, поставили, – смешливо подумал он. «Так просто, плечом, ее не выбьешь, тяжелая дверь, толстая. Да, надолго сюда русские явились, обстоятельно, коли такое строить стали.
Уходить отсюда надо, дальше.
С Ермаком Тимофеевичем я бы ужился, конечно, а вот с этим, – вождь поморщился, – вряд ли получится. Ну, ничего, Ланки все сделает, как надо, она девочка умная, как мать ее. А все же хотел бы я Локку-то еще раз увидеть, напоследок, прощения у нее попросить.
– Тихо-то как, – он склонил голову, прислушиваясь. «Как с трапезы их воины вернулись, так и тихо. И то, видно, полночь, а то и позже».
Дверь чуть скрипнула, и на пороге появился высокий, мощный мужчина с огарком свечи и кузнечными клещами.
– Ваша милость, – тихо сказал Гриша, – давайте, раскую вас, и пойдем быстро, проснутся тут все еще.
– С Ланки все в порядке? – спросил Тайбохтой, морщась, растирая затекшие запястья. «Где они?».
– Дочка ваша с женой моей и Никиткой там, – Гриша опустился на колени и принялся снимать кандалы, – в лесу нас ждут. Все хорошо у них.
– Погоди, – нахмурился Тайбохтой. «А что мой зять?»
Гриша поднял серые, хмурые глаза и коротко сказал: «Иным сейчас занимается».
– Понятно, – вождь чуть дернул щекой. «Помощь, может, ему какая нужна?».
– Да нет, – Гриша распрямился, – он в сем деле мастер, как я в своем, ваша милость.
– У меня имя есть, – усмехнулся Тайбохтой. «Раз уж мы с вами дальше пойдем, так устанете меня «милостью» величать».
– А откуда вы знаете, что мы дальше собрались? – изумленно спросил Григорий Никитич.
– Ну, после такого вряд ли нам тут след оставаться, – ехидно ответил князь, и, потрепав его по плечу, добавил: «Там у воинов ваших мой лук со стрелами, и нож – забрать надо, понадобятся».
Волк тихо забрался на крышу воеводского дома, и, привязав веревку к печной трубе, перегнувшись, посмотрел вниз. Ставни горницы были плотно закрыты. «Ну, это ничего страшного, – пробормотал он и застыл, слушая голоса стрельцов в сенях.
«Да, этим мало сбитня-то налили, – подумал Волк, спускаясь по веревке вниз. Он поддел отмычкой ставни – запор поддался легко, и ловко нырнул в темную горницу. Здесь было жарко натоплено. Михайло закрыл ставни, наложив на них засов, и проверил дверь, что вела из опочивальни в палаты – она была крепко замкнута.
Волк зажег свечу – наместник даже не пошевелился, и обернулся к большой, с пышными подушками кровати. «Столбики, – улыбнулся Волк. «Ну как по заказу». Он достал из кармана легкого, короткого, но теплого – на собольем меху, – армяка, все, что ему было надо, и, прилепив огарок к полу, наклонился над Яковом Чулковым, вглядываясь в спокойное, красивое лицо юноши. Тот что-то сонно пробормотал, и, было, начал поворачиваться на бок.
– А вот так, – сказал Волк, схватив железными, быстрыми пальцами наместника за подбородок, и всунув ему в рот тряпку, – не следует делать, Яков Иванович». Юноша попытался что-то закричать, но Волк, ударив его по лицу, пропихнул кляп дальше – почти в горло, и примотал его веревкой – крепко. «Не задохнется», – подумал он, прижимая руки Чулкова к кровати, привязывая их к столбикам. «И ноги тоже, – он оглянулся на беспорядочно, панически бьющееся тело.
Когда все было готово, Волк полюбовался ужасом в прозрачных глазах наместника, и одним движением разрезал на нем рубаху. «Да, – сказал Михайло, брезгливо глядя на юношу, – коли б у меня такое, было, Яков Иванович, я б в монахи постригся – стыдно ж сие бабам показывать, не разглядят еще. Ну, так и не покажете больше».
В опочивальне резко, остро запахло мочой. Волк, поморщившись, оттянул влажную, потную кожу и быстро отсек все – под корень. Кровь хлестнула фонтаном, заливая белые льняные простыни, Чулков выгнулся на кровати, но Волк жестко прижал его к подушкам.
– Так же и это, – сказал он, поднося кинжал к левому глазу наместника. «Ну, чтобы наверняка, Яков Иванович».
Михайло сложил оба вырезанных глаза в мешочек, и, подтащив поближе богатое, бархатом обитое кресло, стал ждать, пока Чулков умрет.
Когда – скоро – рука наместника стала холодной, ровно лед, – Михайло, вынув кляп, отрезал ему язык. Засунув в рот то, что валялось окровавленной кучкой на кровати, распахнув ставни, он вылез наружу.
– Сие зять ваш – Гриша показал на высокого, широкоплечего, – но гибкого и легкого мужчину, – что, пригнув голову, шагнул из горницы отца Никифора на задний двор. «Волк, Михайло Данилович».
Волк, чуть улыбнувшись, подал руку Тайбохтою, и сказал: «Здравствуйте, тесть. Ну, вот, и встретились, наконец»
– Давайте, – прервал их отец Никифор, открывая калитку. «Заутреня уже скоро, еще проснется кто-то, не ровен час».
– А пошли бы с нами, батюшка, – вдруг вздохнул Гриша. «Человек вы хороший, что вам здесь оставаться».
– Тут тоже люди достойные есть, – мягко сказал отец Никифор. «Везде ж так – есть плохие люди и есть хорошие. А вы идите дальше. Как деток крестить, я Григорию Никитичу рассказал, сие просто, а уж потом доберетесь до церкви какой-нибудь.
– А хорошо мы с вами говорили, хоть и в остроге это было, – вдруг, улыбаясь, сказал Тайбохтой. «Был у меня друг, отец Вассиан, в Чердыни, за Камнем Большим, – он тоже умный был, как вы».
– Слышал я о нем, упокой Господи душу святого инока, – перекрестился отец Никифор. «Он же первым стал Евангелие-то остякам проповедовать. Сие честь для меня, коли такого человека-то вспомнили. Ну, все, прощаться пора.
Священник перекрестил мужчин и шепнул: «Бог в помощь».
В сиянии рассвета, вдалеке, стоял две женские фигуры – повыше, и пониже, с ребенком в перевязи. «Так, – одобрительно сказал Тайбохтой, – чум сложили, все собрали, можно двигаться. По дороге, – он обернулся к мужчинам, – оленей возьмем, и надо два чума еще.
– Почему два? – нахмурился Волк.
– Потому, – ядовито ответил Тайбохтой, – что на восток дорога долгая, я, может, женюсь еще, не тебе ж одному с семьей кочевать, зять».
Мужчины чуть отстали, и, Волк, вынув из-за пазухи мешочек, протянул его Грише. Тот посмотрел на два заледеневших, голубых глаза, и, размахнувшись, бросил его в снег.
– Спасибо, Волк, – сказал Григорий Никитич, и они пошли навстречу женам.