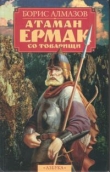Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Так Федосья Петровна, – отмахнулся Чулков, – про твою жизнь сладкую в Кучумовой юрте уж вся Сибирь знает, как я посмотрю. Так что пущай болтают, тебе не впервой, – Яков посмотрел на зардевшееся, со слезами на ресницах, лицо девушки, и, встав, протянул ей простенькое колечко.
– Подарение тебе, – юноша осмотрел ее – с головы до ног, и выпятил губу. «Я тоже, как и муж твой, блядей люблю, так, мы с ним задружимся, не бойся».
Изба огласилась хлестким звуком пощечины. Чулков отступил, схватившись за мгновенно покрасневшее лицо. Федосья бросила на пол кольцо и сказала: «Покажу вам кое– что».
Тяжелая крышка деревянного ларца приподнялась, и Федосья, по запястье, окунув руки в блистающую гору драгоценных камней и золотых слитков, проговорила: «Сие муж мой с Большого Камня, да с южных гор принес. Так что убирайтесь из моей избы подобру-поздорову, Яков Иванович».
Он внезапно, быстрым движением, схватил ее за кисть и сжал – так, что девушка побледнела.
– Я – наместник воеводы сибирского тут, в Тюмени, поняла? – свистящим шепотом сказал Чулков.
– Кучум жив еще, Федосья Петровна, сама знаешь. Я и скажу, что это он тебя сюда послал, чтобы ты ворота крепостцы его отрядам открыла. Кому мой брат поверит, думаешь – мне или тебе, что в наложницах у хана отиралась? И тогда Данило Иванович и тебе голову отрубит, и мужу твоему – тако же. А ну ноги раздвигай! – он стал выворачивать ей руку.
– Пусти, – Федосья медленно, как во сне стала расстегивать сарафан.
– Вот так бы сразу, – довольно сказал Чулков, подталкивая ее к лавке.
Яков Иванович вдруг замер и посмотрел вниз.
– Руки убери, – спокойно сказала Федосья, и надавила ножом посильнее. «А то у меня полы чистые, ты мне и так наследил, неохота еще кровь твою с них смывать. Ну!».
Юноша отступил, все еще чувствуя смертельный холод клинка где-то внизу живота. Федосья вдруг принюхалась и рассмеялась: «Штаны-то ты промочил, смельчак. Иди отсюда, а то еще что другое с тобой приключится, дак не отстираешь их потом».
Яков взглянул в ее невозмутимые, морской зелени, раскосые глаза, и, выматерившись, хлопнув дверью, – вышел.
Девушка опустилась на скамью, и только сейчас ощутила боль в пальцах, что сжимали – крепко, – рукоятку ножа. Она разогнула их, и, отложив клинок, вытянула перед собой – руки дрожали. «А ну хватит, – разозлившись, сказала себе Федосья, и, встав, принялась вытирать грязные следы от сапог.
– Поднимай, – крикнул сверху Волк, и бревно, поддерживаемое веревками, поплыло вверх.
– Давай, Василий, – кивнул Михайло напарнику. «А то и так мы с этой вышкой возимся с той недели, надо уже пищали ставить».
Волк внезапно разогнулся и посмотрел вокруг. «Красиво тут, – пробормотал он, – почти как у нас в Тюмени».
– А все равно, – Василий стал обтесывать бревно, – домой-то хочется. Ты вон на Троицу повенчался, а я – после Покрова, три месяца-то с Аграфеной всего и прожил, и теперь до весны не увижу».
– Ну, – протянул Волк, берясь за топор, – такая уж тут, в Сибири, судьба у нас, Василий. Эту крепостцу возведем, потом далее на восток отправимся, а хозяйки ждать будут. И так случиться может, что и не вернется кто – к сему тоже надо готовым быть».
Второй парень только вздохнул и с тоской посмотрел в сторону Тюмени.
В общей трапезной вкусно пахло щами.
– Квашеной капусты с полсотни бочек привезли, – сказал Данило Иванович, берясь за ложку, – до весны хватит, а там уж свои огороды заведем. Земля хорошая тут?
– Рожь сам-шест взошла, – ответил Волк, хлебая из общего горшка, – однако то лето жаркое было, и дожди как по заказу лили – не много и не мало. Посмотрим, что с погодой-то случится, остяки говорят, что тут и опосля Троицы заморозки бывают.
– Так у вас, тюменских, что тут остались, получается, двое женатых всего, – ты Михайло, да ты Василий, остальные холостыми гуляют? – усмехнулся воевода.
– Сейчас остяков пойди, найди, – присвистнул Василий, – вона, Груни моей семья откочевала на север куда-то. У нас как – по весне встречаемся, да по осени, когда они ясак привозят. А кто возле крепостцы живет – у тех дети малые, невест там долго ждать придется.
– Вот оно как, – задумчиво сказал воевода, принимая ломоть хлеба с наваленной сверху пареной рыбой. «А что, – вдруг спросил Данила Иванович, – у вас тут рек много, плавать-то все умеют в дружине?».
– Да уж учил я их, – кисло сказал Волк, – летом тем. Не даются. Вона, Василий у нас ярославский, казалось бы – Волга под боком, а воды боится.
– Зато Михайло Данилович у нас плавает так, что любому завидно, и ныряет на две сажени, – подтолкнул его младший парень.
– Это откуда ты научился-то, Волк? – поинтересовался воевода.
– А вот слушайте, – Волк откусил белыми зубами большой ломоть хлеба. «Батюшке-то моему голову отрубили, как мне семь лет было, а матушка померла – мне двенадцать уж исполнилось. Матушка моя, Авдотья Михайловна, знатная воровка была, и меня с малолетства с собой на рынки брала.
Как батюшку казнили, она честной вдовицей осталась, никого до себя более не допустила. А окромя краж еще, чем занималась – по кабакам с торговцами знакомилась. Матушка красивая была, – Волк нежно улыбнулся, – высокая, статная, косы белокурые в руку толщиной, до пояса. Ну вот, – спознается с кем-то, у кого киса тугая, и зовет к себе на чарочку. Ну а там уже дорога известная – обухом по голове, и в реку.
– Что ж, – воевода сглотнул, – это она их обухом по голове-то, али кто?
– Я, – спокойно ответил Волк, подняв голубые глаза. Он откинул со лба кудри и улыбнулся:
«Ну, пила матушка, конечно, не без этого, врать не буду. Пьяной в сугробе замерзла.
Остался я один, взрослый парень уже был.
И тут дружок мой приходит, Сенька Косой, ему потом в драке на Яузе голову проломили. А Косой со стругов купеческих воровал, по ночам – подплывет, взберется на палубу и давай там все подчистую выносить.
Вона, Вася говорит, что я хорошо плаваю, так это вы Сеньки не видели – тот под водой столько мог продержаться, что и мне такое не под силу. Ну, и стал я с ним в доле работать. А зимой кошельки резал. Ну, а потом и до разбоя дошло, батюшкиной дорогой пошел, упокой Господи его душу, – Волк перекрестился и добавил: «Ну, вот и поели, молитву уже читают».
– Да, – только и сказал Чулков, внимательно глядя на Волка, – сразу видно, тебе, Михайло Данилович, пальца в рот не клади.
– Я коренной вор московский, Данило Иванович, – легко улыбнулся тот, – батюшка мой говорил, что со времен государя Ивана Калиты семья наша сим промыслом славна. Так что нет, не клади, – Волк наклонил голову и зашептал молитву.
Воевода вытянулся на лавке, закинув руки за голову, и посмотрел на потолок, где висели едва заметные капли смолы. «Пока чисто, – подумал Чулков, оглядывая избу, – а все равно – без бабы долго не проживешь. И так вон, какой месяц уже. Нет, надо, надо. С девкой заводиться не хочется, да еще дождись этих остяков, Господь один знает, где их носит.
До Пасхи-то – тут все грязью зарастет, да и вон – Борис Федорович Годунов, как отправлял нас, строго наказывал – чтобы мы тут никого не насильничали, мирно жили. Ну, вот и будем мирно, – он усмехнулся и зевнул.
«А Марья моя, как приедет, ежели скажет что – так плети отведает, да, впрочем, она молчать будет – привычная уже. Нет, надо подхозяйку. Волка этого трогать не буду, ну его, ему человека убить – что сбитня выпить, а вот этот Василий – самое то. И хвалился же он, что жена у него шестнадцати лет, и красивая. Ну, вот и славно, до отъезда гонца все обделаю, как надо – Данило Иванович перекрестил рот, и, помолившись своему святому заступнику, пророку Даниилу, спокойно заснул.
– И ты прямо вот так нож достала? – узкие глаза Василисы, казалось, распахнулись во все лицо.
– Ты только не говори никому, – Федосья поджала губы, чуть покачивая колыбель Никитки.
«Как животик-то у него?» – кивнула она на спящего ребенка.
– Да как ты и советовала, голенького его, себе на грудь кладу, – девушка вдруг покраснела, – дак вроде легче ему.
– Скоро закончится, – сказала Федосья, нежно смотря на крестника. «У брата моего младшего тоже так было, к трем месяцам прошло, как рукой сняло. Потерпи. Высыпаетесь-то вы с ним?».
Василиса рассмеялась, и перегрызла крепкими зубами нитку. «Григорий Никитич так спит, что из пищали пали над ухом – не поднимется, а я днем ложусь. Никитка же сонный такой, бывает, завалимся с ним на лавку, да только к ужину и встаем».
– Ну и правильно, – Федосья зевнула. «Я что-то тоже без Волка спать плохо стала, скорей бы вернулся».
– А ты ему скажешь? Ну, про брата воеводы, – Василиса испытующе посмотрела на подругу.
– Да зачем? – Федосья пожала плечами. «Волк же такой – он хоша на вид и спокойный, а человека ему убить – легче легкого. А сие все ж наместник, не хочу я, чтобы муж мой на плаху ложился. Яков этот теперь меня за версту обходит, испугался, видно, – девушка чуть улыбнулась.
– Федосья, – после долгого молчания начала Василиса, – а правду говорят, про тебя и Кучума, ну что мол…, – она смешалась, не закончила и опустила голову.
– Правду, – спокойно ответила Федосья. «И про визиря Карачу тако же. И еще один человек был, там, в степях, но с ним все по-другому случилось, – она на мгновение вспомнила Кутугая и почувствовала щемящую боль в сердце.
– И Волк знает? – ахнула Василиса.
– Конечно, – Федосья вдруг потянулась и поцеловала подругу в щеку. «А как же иначе – я б не стала с ним венчаться, сего не рассказав».
– Смелая ты, – вздохнув, проговорила Василиса. «Я б не смогла так, умерла бы прямо там, от стыда».
– От сего из баб не помирал никто еще, – жестко ответила Федосья, – встанешь, помоешься и дальше идешь. Сие бабе не позор, коли ее силой берут, али вынуждают, позор – это ежели ты под мужика не по любви ложишься, а ради золота, али почестей».
– Бывают разве бабы такие? – удивилась Василиса.
– Разные люди-то на свете есть, – кисло ответила Федосья. «Вона, сходи к избе воеводской, посмотри, как там некоторые задом перед москвичами крутят, так и поймешь».
Никитка проснулся, и жадно открывая рот, заплакал.
– Вот сейчас матушка грудь даст, – Федосья нежно вынула крестника из колыбели. «А то ты у нас большой парень, тебе молока много надо».
Василиса, покачивая сына, вдруг, на мгновение, прижалась щекой к руке подруги. «Хорошо, что мы с тобой спознались-то, – вздохнула она, – ты мне как сестра теперь».
– Да и ты мне тоже, – Федосья наклонилась и шепнула Василисе: «И счастливая же ты, подруженька»
– Так ты тоже, – удивленно сказала девушка.
– А буду еще более, – загадочно ответила Федосья.
Данило Иванович вышел из ворот Тобольского острога, и поежился – свистела пурга, небо было серым, мрачным, и странным казалось, что еще несколько дней назад вовсю светило солнце.
«Надо же, как погода поменялась-то, – подумал воевода, – вона, за две сажени уж и не видно ничего. Ну ладно, гонец-то из местных будет, дорогу знает, не собьется».
Он оглянулся – возводимые из толстых бревен стены крепостцы были пусты, дружина вечеряла.
«Туда он пошел, точно, – поглядел воевода на лед Тобола. «Говорил же с утра, мол, тут, под холмом, рыбы нет уже. Распугали мы ее, надо дальше, где прорубь делать».
Чулков спустился, скользя, по склону. Через несколько мгновений его высокая, в богатой шубе фигура, уже скрылась в злых, мглистых вихрях снега.
Василий посмотрел на гору рыбы, что валялась рядом с краем проруби, и вздохнув, подумал: «Была б тут Груня, она бы все уложила на нарты, – и оглянуться бы не успели, – а я еще Бог знает, сколько провожусь. И потом еще в крепостцу их тащить. Ну, посижу еще немножко, клюет-то хорошо, – он обернулся к заброшенному удилищу и тут же, почувствовав сильный толчок в спину, нелепо взмахнув руками, полетел в обжигающе холодную воду.
Дыхание сразу перехватило, и Василий, замолотив руками и ногами, вспомнив, как летом Волк учил их на Туре, попытался добраться до края льда.
«Ухвачусь, вылезу, и добегу до ворот-то, – подумал он. «Там печка, водкой разотрут, все хорошо будет».
Толстый стеганый армяк пропитался водой и тянул его вниз, в бесконечную, черную пропасть.
Вася, было, уцепился онемевшими пальцами за край проруби, как почувствовал еще более сильную боль – сафьяновый сапог на меху стоял прямо на его руке. Юноша еще успел увидеть, в пурге, красивое, усмехающееся лицо воеводы. Чулков оттолкнул юношу на самую середину воды, и подумал: «Пущай кричит. Тут так ветер завывает, что ничего не слышно».
Он подождал, пока посиневшие губы не прекратят хватать воздух. Когда тело чуть закачалось на воде, Чулков повернулся и пошел прочь. Его следы тут же заметал снег, и вскоре лед стал таким же, как и был – свежим, бесконечным, пустым.
Труп медленно вертелся, повинуясь движению ветра, и вскоре широко открытые, мертвые глаза подернулись коркой льда.
– И что же, не спасти его никак было? – Чулков озабоченно посмотрел на синее, застывшее тело утопленника, что лежало на половицах в пустом амбаре, и вздохнул: «Ну, вечная память рабу божьему Василию».
– Да как же, спасти, – ответил кто-то из дружинников. «Уж как спохватились, что он не вернулся, почти полночь была».
– Ну, так вот, – воевода распрямился, – отныне никто один на охоту, али рыбалку не ходит – только вместе с товарищем, чтобы такого не было более.
– Батюшку ж, наверное, привезти надо, – спросили у Чулкова. «Ну, из Тюмени».
– У батюшки и так дел много, не след его с места-то страгивать, сами похороним, – распорядился воевода. «А вдову его привезите, как это – мужа в последний путь не проводить. И того кузнеца, как его…
– Григория Никитича, – спокойно сказал Волк, рассматривая руки умершего.
– Да, именно. Его тоже, нам кузницу уже надо ставить. Ну, за работу, – подогнал Данило Иванович дружину, – как вдова приедет, так похоронами и займемся.
– Выбраться он хотел, вон, следы на пальцах, – указал Волк. «Умел бы плавать – не потонул бы».
– Да, – ответил Данило Иванович, и, взглянув в голубые, внимательные глаза Михайлы, перекрестившись – вышел из амбара.
– Даже и блинов не сделаешь, – вздохнула Федосья, вытаскивая кочергой из печи противень с пирогами. «Эти еще кое-как удаются, а для блинов масло нужно, где ж его без коров взять?
А что за Масленица без блинов-то?
– Икры, зато вдосталь – заметила Аграфена, потянувшись ложкой к горшку.
– Да икры у нас тут – хоша всю крепостцу засыпь, – Федосья стала оделять подружек пирогами с рыбой. «Нет, нет, надо, чтобы коровок нам пригнали, а то вон – она кивнула на Никитку, – вырастет он, и даже молочка не похлебает.
– Оленьего молока можно, – заметила Василиса, надкусывая пирог. «Что ты туда кладешь, что они у тебя вкусные такие? – удивилась девушка.
– А я, как летом медвежий лук собрала, – объяснила Федосья, – так заквасила его. Холода начались, он у меня в амбаре и стоит, цельный бочонок. Если с обозом еще, каких семян привезли, уже и огороды по весне можно закладывать.
– А что сие – огород? – спросила Аграфена.
– Ну, там капусту сажают, лук, чеснок – Федосья стала загибать пальцы, – огурцы тако же.
Огурцы солить можно, капусту – квасить. А то вон сейчас – Пост Великий, опять на одном хлебе сидеть будем».
– У нас, кроме ягод и лука медвежьего и не растет ничего, – грустно сказала Аграфена. «Я вон хлеб попробовала, только повенчалась когда».
– Завтра уж в церковь пойду, – улыбнулась вдруг Василиса. «Прошел у Никитки животик-то, теперь гулять можно, на Туру, а, может, и батюшка с матушкой приедут, а то, как после родов его видели, так с тех пор и не навещали нас, кочуют. Ну, Пасха уж скоро, встретимся».
– Хоша б Вася скорее вернулся, – вздохнула Аграфена. «А то скучно, даже и готовить не хочется, не для кого. Сидишь в чистой избе, и думаешь – как он там, кто ему обедать-то подаст, кто одежу починит?»
– Вона, Василисе у нас хорошо, – усмехнулась Федосья, – и муж рядом, и сын, есть чем заняться. А ты, Груня, ежели хочешь, еще ко мне ходи – у батюшки-то не всегда время есть, а я тебя и читать, и писать обучу».
– А что травник твой? – спросила Василиса, давая дитяти грудь.
– Пишу, – вздохнула Федосья. «Работы-то много, травы тут не те, что на Москве, мне хоша и рассказали кое-что, когда я с батюшкой кочевала, а все равно – надо ж все попробовать, настои сварить, сие дело небыстрое».
– Как покормишь его, – кивнула Аграфена на ребенка, – пойдем на реку, посмотрим, ино чучело сегодня делать зачали, заради Масленицы?
– Только приберем тут все сначала, – строго сказала Федосья, – а то, как тесто творили, все горшки выпачкали.
Яков Чулков внимательно посмотрел на Григория Никитича и усмехнулся.
– Ну что, кузнец, видишь – в Тобольской крепостце ждут тебя, там им все поставить надо, людей обучить. Тут-то есть, кому заменить тебя?
– Да есть, – неохотно ответил Гриша, смотря мимо наместника, в красный угол, где горела лампадка перед иконами. «Они, конечно, не мастера еще, но на недолгое время – сгодится.
– Ну, ты там до Пасхи пробудешь, – зевнул Яков Иванович. «А как брат мой сюда поедет, ясак принимать – тако же и ты с ним».
– Не хотелось бы от семьи-то надолго уезжать, – вздохнул Гриша. «У меня сыну еще и трех месяцев не исполнилось, опосля Крещения только народился»
– Ну, не одного ж ты его оставляешь, – поднял бровь юноша. «Будет с женой твоей, ничего с ними не случится, а весной увидитесь. И так скажи спасибо, что ты в крепостце-то сидишь, с отрядами не ходишь».
Григорий Никитич, было, хотел что-то сказать, но промолчал. «Возок готов ваш, – наместник поиграл перстнем на холеном пальце. «Что брат мой приказал им привезти – уж погружено.
Так что давай, собирайся, уж на закате и поедете».
– Аграфене-то Ивановне мне сказать, – осторожно спросил Гриша, и вдруг почувствовал, как перехватило ему горло, – али вы сами?
– Да я и не знал сего Василия, – отмахнулся Чулков, – а ты с ним дружил вроде, ты и сходи к вдове-то.
– Вечером отправимся, – коротко сказал Гриша, и, чуть поклонившись, вышел.
«Господи, – думал он, пробираясь меж высоких, почти в рост человеческий сугробов, к своему дому, – Аграфене-то Ивановне на Рождество только шестнадцать было. Такая она молодая, и вон – несчастье, какое. Ну, может, хоша понесла она, родит, так память о Василии будет. И как сказать-то, как сказать? Может, пущай Федосья Петровна к ней сходит, она женщина взрослая, разумная, найдет слова нужные.
– А Василисе моей как говорить, что теперь до Пасхи не увидимся? – Гриша вдруг приостановился. «Девочка моя, еще заплачет, не дай Господь, расстраиваться будет, еще с молоком что случится, – мужчина перекрестился и вздохнул. «А Никитка улыбаться начал, смешной такой. Как я вернусь, так еще и забудет меня, маленький же».
Он еще раз перекрестился и, прошептав: «Ну, помоги Господи», – постучал в ставню на дворе Федосьи Петровны.
– А, Григорий Никитич, – та улыбнулась, выглядывая из сеней, – заходи, к пирогам как раз.
Любимые твои, с рыбой, мы с хозяйкой твоей и Аграфеной Ивановной напекли.
Он, было, попытался что-то сказать, откашлявшись, но почувствовал, что бледнеет.
– Волк? – прошептала Федосья, схватившись за дверной косяк. «Ты говори, не молчи, Гриша, что с ним?».
– С Волком все хорошо, – глухо сказал Гриша, опустив голову. «Ты, это, Федосья Петровна, меня послушай».
Закат уже играл над Турой, когда Гриша, обняв жену, прикоснулся губами, к теплой щеке, спящего у нее на руках сына.
– Не ехал бы ты, – вдруг сказала Василиса тоскливо, опустив голову. «Как же мы без тебя тут будем, Гриша?».
Он вскинула темные глаза, и Григорий Никитич вдруг сказал: «А ну идите сюда». Он распахнул полушубок, и жена нырнула прямо ему в руки. Она была маленькая, такая маленькая, что он легко накрыл и ее, и Никитку полами.
Василиса взяла его жесткую ладонь и потерлась об нее носом. «Уточка моя, – нежно, неслышно шепнул ей муж. «Себя береги и Никитку тако же».
Девушка только кивнула, все не в силах оторваться от его руки – большой и надежной.
– Ты вот что, Григорий Никитич, – озабоченно сказала Федосья, – я Груне-то настоя дала, как отревелась она, сейчас спать будет, а потом уж ты не бросай ее, поговори с ней, я-то знаю, как это – вдовой остаться, – она вздохнула и, помолчав, закончила: «И там, в крепостце, нечего ей болтаться, пусть похоронит Василия, и сразу назад. Мы тут присмотрим за ней. Ну, с Богом, – Федосья перекрестила возок, и, прижав к себе Василису, улыбнулась: «Носом-то не хлюпай, мы с тобой теперь вдовы соломенные, мужиков ждать будем, так весна и придет».
– Смотри-ка, – Василиса прищурилась вслед удаляющемуся возку, – на нартах кто-то к нам едет. Мужские вроде. И олени у него хорошие, холеные, сразу видно – любит он их».
Федосья вгляделась, в снежную равнину, и ахнув: «Батюшка!», – бросилась прямо по сугробам навстречу отцу.
– Маловато этого вам до весны будет, – сказал Тайбохтой, оглядывая лабаз. Федосья посмотрела на стены, завешанные битой, мороженой птицей, на разрубленную тушу оленя:
«Так батюшка, сейчас Пост Великий пойдет, мяса нельзя, а рыбачить можно, проживем».
– Рыбачить, – пробормотал Тайбохтой. «Тут вас столько уже, что на реке и рыбы почти не осталось – ушла. Если и далее так будет, придется на север, или на восток кочевать – там тихо пока.
– Нет, Ланки, ты со мной не спорь, я уеду скоро, а ты сама не поохотишься – опасно это одной. А пока муж твой вернется, уж и весна настанет – не хочу я, чтобы вы тут голодали.
Так что собирайся, тут вокруг зверья много, поможешь мне, – отец заглянул в бочонок и улыбнулся: «Вот, вижу, правильно, заквасила, как учили тебя».
– Ягоды тако же, – сердито проговорила Федосья, показывая на туески, – как собрала, в воде держала, а потом уж и заморозила, как холодно стало.
– Волк-то твой лук свой оставил? – спросил Тайбохтой, уже выходя на двор.
– Конечно, – Федосья вдруг приостановилась и робко сказала: «Батюшка, вы уж простите, что благословения вашего не попросила тем летом, как замуж выходила».
– Да ладно, – отец чуть шлепнул ее. «Я тут поговорил с людьми, хвалят мужа твоего, смелый, говорят, и что обещает – то и делает. Правду мне сказали, что он до южных гор ходил?»
– Да, – девушка рассмеялась, – зверя там убил, невиданного, ирбиз называется. Как кошка, только большой очень зверь, серый, в темных пятнах.
– Видал я того зверя, – коротко ответил Тайбохтой, – осторожный он, так просто к нему не подберешься. Молодец твой муж.
– Вы там были, батюшка? Ну, на юге, – ахнула Федосья.
– Я много где был, – ворчливо ответил отец и подтолкнул ее: «Давай, еды-то нам возьми, до следующей луны уходим, надолго».
– Батюшка, – спросила Федосья, когда они уже выходили со двора, нагруженные мешками, – а почему вы у меня не живете? Ну, в избе.
– В чуме лучше, – рассмеялся Тайбохтой и постучал в ставню Василисы: «Давай, попрощаемся, я и сына ее посмотрю заодно».
Темные, длинные ресницы девушки задрожали, и она чуть слышно сказала: «Ну вот, теперь я одна тут с Никиткой останусь».
– Мы ненадолго, – уверила ее Федосья. «Мужья-то наши вона – только к Пасхе вернутся, а есть что-то надо. Тебе ж батюшка разрешение на мясо дал, как ты кормишь – вот ради тебя и охотимся. И, пока меня нет, ежели надо тебе чего-то – ко мне заглядывай, не стесняйся, изба не закрыта».
– Покажи сына-то, Васхэ, – ласково попросил Тайбохтой.
Василиса улыбнулась, и, подведя их к колыбели, ласково прошептала: «Спит мой медвежонок-то».
– Никитой по ихнему, – спросил вождь, – а по нашему как?
– Меми, – рассмеялась Васхэ. «Деда моего так звали».
– Да, помню я его, он уж старый был, как я в возраст вошел, – сказал Тайбохтой. «Ну, что, правильно назвала – как есть медведь, большой у тебя сынок, крепкий. Пусть хорошим охотником станет, как прадед его, как дед. Да и как отец тоже, – вождь улыбнулся и чуть погладил мальчика по русым, мягким волосам.
Василиса обняла Федосью и всхлипнула: «Ну, вы осторожней там».
– Да бояться некого, – рассмеялся Тайбохтой, – медведи спят, а волков вы распугали всех. Да и не будем мы на одном месте сидеть, кочевать будем».
Федосья перекрестила подругу и шепнула: «А ты не волнуйся, сие для молока плохо, спи да корми».
Василиса посмотрела на закрывшуюся за ними дверь, и, сев у колыбели, чуть покачивая ее, запела колыбельную – тихую, протяжную.
– А кто сие есть? – нахмурился Яков Чулков, стоя на вышке, смотря на то, как медленно открываются ворота перед двумя людьми в малицах.
– Федосья Петровна наша, с батюшкой ее, князем Тайбохтоем. Охотиться идут, – объяснил дружинник.
– Как же он в крепостцу зашел, остяк этот? – зловеще спросил Чулков.
– Так ваша милость, его милость князь, – охранник кивнул вниз, – с Ермаком Тимофеевичем самим договор о вечной дружбе заключил. Это ж он, Тайбохтой, под нашу руку остяков здешних привел.
Чулков помолчал и вдруг усмехнулся. «Ну, как вернутся, тако же их впустите, – велел он, и спускаясь вниз, добавил себе под нос: «А вот выпускать – это мы еще посмотрим».
Уже по дороге к воеводской избе, Чулков заметил девушку, что держа в руках удилище, спешила вниз. Ребенок спокойно спал в перевязи из оленьей кожи, что была перекинута через ее плечо.
«Да, жена кузнеца этого, – вспомнил Яков Иванович. «Как ее там, Василиса, что ли?».
– Эй, красавица, – окликнул ее юноша, не поздно рыбачить собралась? Солнце уж на закате.
Девушка зарделась, и, опустив глаза, сказала: «Я же с дитем-то, ваша милость, как он заснул, так иду, другого времени нет».
– Ну, торопись, – шутливо посоветовал Чулков, – а то скоро Пост Великий, рыбы много надо.
Девушка, пробираясь по узкой, протоптанной через сугробы, тропинке, отправилась вниз.
Чулков, оглянувшись на нее, выпятив губу, подумал: «Хорошенькая. Маленькая только, словно ребенок, но вроде все при ней. И робкая, эта с ножом не будет разгуливать, как та сучка. Ну, ничего, с той я еще расквитаюсь, дайте время. А эту надо попробовать – благо, и муж ее в отъезде, все одно к одному».
Он улыбнулся, и, чуть насвистывая, вошел на двор воеводской избы.
– Ну вот, – вздохнул Данило Иванович, усаживая Аграфену на покрытую шкурами лавку, – и схоронили Василия Лукича, вечная память ему. Не думал я, Аграфена Ивановна, что так быстро-то могилы рыть придется.
В палатах было тепло, мерно гудел огонь в печи, и воевода, устроившись напротив вдовы, подумал: «А и, правда, красавица. Ну, глаза узкие, конечно, тем более вона – зареванная вся. Ну, это ничего, – он едва не улыбнулся, – это я ее быстро утешу. А так – приодень ее, и в терем такую не стыдно посадить.
Не то что Марья моя, молодая баба еще, двадцати пяти не было, а разнесло всю, аки квашню, ходит, с бока на бок переваливается. Эта-то вон – словно птичка, хрупкая. Ну, сейчас я водочки вдове налью, да и поговорим с ней по душам».
– Вы, может, выпить чего хотите, Аграфена Ивановна? – ласково спросил воевода. «Водочки немножко, холодно же там, на дворе, намерзлись вся, небось, как над могилкой-то стояли?».
– Я и не пробовала никогда, – едва слышно прошептала девушка, опустив красивую, укрытую туго замотанным платком, голову. «Можно разве?».
– Ну, немножко, – улыбнулся Чулков, открывая богатую, серебряную флягу. «За упокой души Василия Лукича, чтобы на том свете он с праведниками пребывал, в чертогах райских».
Аграфена перекрестилась, и, вздохнув, сглотнув, пригубила водку, сразу же закашлявшись.
– Вы ее залпом, Аграфена Ивановна, – посоветовал воевода. «Водочка хорошая, московская, и сразу икрой ее заешьте – он показал на горшок. «Вы уж не обессудьте, женской руки нет у меня в избе, холостяком живу, – он вздохнул.
Девушка выпила и сразу раскраснелась. «Ровно мак, – усмехнулся Чулков, и вслух сказал:
«Еще по одной, Аграфена Ивановна, так принято, не след нам старые заветы-то нарушать».
После второго стаканчика девушка вздохнула и сказала, так и не поднимая глаз: «Уж не знаю, ваша милость, как мне благодарить-то вас, за заботу».
«Да уж понятно, как, – подумал воевода, наливая вдове третий стаканчик: «Поговорить я с вами хотел, Аграфена Ивановна. Сами ж видите, живу я один, прибраться у меня некому, еду приготовить – тако же, трудно это, все ж домой возвращаться к теплу хочется».
Она молчала, – долго, – а потом робко спросила: «По хозяйству вам помогать надо? А где жить-то мне, изб у вас не срублено пока, а в общей, с мужчинами, невместно. И чум не поставить мне, оленей тут нет поблизости».
– Да зачем чум-то, Аграфена Ивановна? – удивился воевода. «Тут обитать и будете».
Девушка, наконец, подняла голову и взглянула на него. В свете свечей ее глаза вдруг заиграли золотыми отблесками.
– Как это? – чуть слышно спросила она.
– Ну, – Данило Иванович помолчал, – врать не буду, в хозяйки я вас взять не могу, жена у меня есть, венчанная, Богом данная. А в подхозяйки – милости прошу. Мужик я крепкий, недавно на четвертый десяток всего лишь перевалил, опять же – воевода царский, жить при мне будете сытно.
А как жена моя приедет – я вам особую избу срублю, тут, на дворе. Ежели детки у вас народятся – тоже заботой своей не оставлю, в люди выведу, все ж кровь моя. Ну, так как, Аграфена Ивановна, согласны вы?».
Девушка сцепила тонкие пальцы, и, чуть вздохнув, подумала: «А, может, жена его помрет еще. Тут у нас с непривычки-то тяжело. Он тогда со мной повенчается, раз я при нем уже буду». Она искоса взглянула на воеводу: «Красивый он. И взрослый, надежно с ним будет.
Если б я, хоть с дитем после Васи осталась, а так…, – Аграфена еле слышно сказала:
«Ежели надо, я сейчас со стола убрать могу».
Данило Иванович улыбнулся, и, встав с лавки, чуть провел пальцами по ее склоненной, смуглой шейке: «Да уж с утра уберешь, Груня».
Аграфена, было, принялась стягивать с головы платочек, но воевода ее остановил: «Ты ж, Груня, небось, и на кровати-то никогда не спала?».
– А что это – кровать? – удивленно спросила она.
– Вот сейчас увидишь, – пообещал ей Данило Иванович.
Уже в опочивальне она вдруг приподнялась на локте и озабоченно сказала: «Иконы же».
– Ах ты, праведница моя, – воевода, потянувшись, закрыл образ Спаса Нерукотворного своей рубашкой. «Ну, – прошептал он, приникнув к ее нежному ушку, раздвигая ей ноги, – сейчас и проверим – на совесть-то мне кровать сколотили, али нет».
Василиса зашла в избу Федосьи, и, оглянувшись вокруг, сказала спящему в перевязи Никитке: «Убраться-то надо, а то подруженька вернется, мяса мне принесет, а в избе у нее – запущено».
Она расстелила на полу шкуру, и аккуратно опустила туда дитя. Мальчик даже не проснулся, только чуть почмокал сложенными губами.
Девушка вздохнула и посмотрела на пыльные лавки. «Гриша рассказывал, за Большим Камнем-то колодцы есть, – вспомнила она. «Вот бы и нам такой вырыть, а то сейчас склон обледенел весь, тяжело-то с полным ведром по нему взбираться».