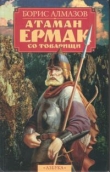Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Часть шестая
Тюменский острог, зима 1586 года
Федосья приподнялась, и, протянув длинную, смуглую, всю в капельках пота руку, отодвинула сторонку в потолке черной бани. Волк усмехнулся и сказал: «Как по мне, так я сейчас еще жара добавлю, вон, мороз какой на дворе».
Девушка только томно прикрыла глаза, чуть обмахивая себя березовым веником. Над каменкой, сложенной из речных валунов, клубился густой пар. Федосья подняла голову и строго спросила: «Ты, что это там делаешь, а?».
– Тут у тебя листок, – озабоченно сказал Волк. «Дай сниму».
– Так рукой же можно, – усмехнулась Федосья.
– А я хочу так, – девушка почувствовала щекочущее прикосновение, и ответила, сдерживаясь:
«Ну, вот быстро бы и снял».
– А я хочу медленно, – Михайло приподнял голову. «Я только начал, Федосья Петровна, ты думаешь, зачем я полок такой широкий срубил? Именно за этим».
– Да уж знаю, – она закинула одну стройную ногу мужу на плечо, и вдруг, приподнявшись, хлестнула его веником.
– Ну смотри, Федосья, – сказал Волк, отбирая у нее веник, прижимая ее руки к полку, – ты у меня потом спиной вверх еще належишься, я тебя как следует, попарю, пощады запросишь.
– Не запрошу, – она еще шире раздвинула ноги. «Горячее печки, – сказал он, вдыхая ее сладость. «Сейчас ведь губы обожгу».
– Боишься, Михайло Данилович? – он взглянул в мерцающие зеленые глаза, и вдруг вспомнил того ирбиза, что убил прошлым годом в горах.
– Не боюсь, – он рассмеялся, и протянув руку наверх, почувствовал, какая она вся – жаркая и влажная. «Вот так, – прошептал Волк, целуя ее – везде, куда мог дотянуться.
– А ну погоди, – Федосья потянула его к себе. «Я тоже хочу, попробовать-то».
– Еще не напробовалась? – Волк увидел внизу ее вишневые, блестящие губы.
– Никогда не напробуюсь, – он застонал, и, опустив голову между ее ног, пробормотал: «Да и я тоже».
После, ополоснув полок и стены, он немного постоял на маленьком, заваленном сугробами дворе – в одной рубахе, хотя мороз был крепкий, и, взглянув на закат, потянувшись, сказал:
«Хорошо!».
– Гриша! – крикнул Волк, услышав из-за забора звук топора. «Как хозяйка-то твоя?».
– Да вроде ничего, с Божьей помощью, – Григорий Никитич улыбнулся. «Боится, конечно, что мать ее не поспеет – вон, бураны какую неделю. Страшно, все ж дитя первое».
– А ты и рад, небось, – Волк шутливо подтолкнул друга. «Все ж первый сибиряк коренной будет!».
– Может, то дочка, – озабоченно сказал Гриша. «Мне, правда, разницы нет, – он вдруг рассмеялся, – только б дитя было крепкое, и с Василисой все хорошо было бы».
– Дочка тоже славно, – согласился Волк, и, зевнув, перекрестив рот, сказал: «Ладно, поедим сейчас – и спать, завтра подниматься до рассвета, на Тобол идти, воеводу этого встречать нового».
– Жили спокойно себе, – нахмурился Григорий, – и вон, вспомнили о нас. Все равно, то не Ермак Тимофеевич будет, упокой Господи его душу.
– Атаман такой один был, – серьезно сказал Волк, – куда там остальным до него. А все равно, Гриша, – Михайло посмотрел на белоснежную равнину, – вон, Крещение уж было, потом Пост Великий, а там и весна. Почти перезимовали-то.
В избе пахло так, что Волку сразу захотелось сесть за чисто выскобленный стол, и больше никогда оттуда не подниматься.
От каравая – свежего, только из печи, еще поднимался пар, и Михайло, потянувшись за краюхой, спросил: «Это ж та оленина, что я днями принес, да?».
Федосья, подвигая ему горшок, улыбнулась: «Там еще надолго хватит, да и рыбы – тоже. И сбитень я сварила, со зверобоем». Опять же, как батюшка до нас доберется, – так с ним поохотитесь».
Волк сумрачно, сказал: «Я, может, еще ему не по душе придусь».
Девушка потянулась через стол и тихонько стукнула мужа деревянной ложкой по лбу. «А ну молчи, – велела Федосья. «Ты у меня самый лучший, Волк, и другого мне до конца жизни не надобно».
Волк улыбнулся и, поймав девушку за руку, усадил к себе на колени. «Это мне никого, окромя тебя не надобно, я так матушке твоей и отписал, и, заметь, ни единой ошибки не сделал, счастье мое».
Федосья подвинула к себе кружку со сбитнем и озорно сказала: «Мед-то тот, что мы осенью в лесу нашли, помнишь?».
Волк отпил и ответил: «Что-то мне кажется, у тебя он вкуснее».
– Ну, так сравни, – ее губы были совсем рядом.
Михайло поцеловал жену и шепнул: «Может, завтра с утра уберешься? Мне вставать рано, да и неизвестно, сколько я на Тоболе проболтаюсь, воеводу ожидая».
– Балуешь ты меня, Волк, – она подставила мужу смуглую шею, и тот стал медленно, осторожно расстегивать сарафан.
– Балую, – Михайло провел губами по ключице и дальше – вниз. «И буду баловать, сколь я жив».
– А ожерелье оставь, – велел Волк, глядя на то, как играют на ее груди отсветы изумрудов, что осенью он принес с Большого Камня.
Она распустила длинные, – до бедер, темные волосы и пахло от них – лесом и солнцем. «Ох, Федосья, – сказал Волк, опускаясь на колени, – ну за что мне счастье-то такое?»
Девушка положила руки на его белокурую голову, и, откинувшись назад, тяжело дыша, застонала. Потом, уже, обнимая ее под меховым, жарким одеялом, укладывая на бок, Михайло шепнул: «Ну, сейчас ты у меня точно понесешь, Федосья Петровна».
Жена нашла его руку, и, крепко стиснув пальцы, выдохнула: «А вот вернешься – и узнаешь!»
Она и не услышала, как муж поднялся – только почувствовала прикосновение его губ, и шепот: «Все, счастье мое, пошел я».
Открыв глаза, Федосья перекрестила Волка, и, как всегда, сказала: «Легкой тебе дороги, любимый».
Когда заскрипела калитка, она зевнула, и быстро поднялась. «Все равно, – сказала себе девушка, обливаясь ледяной водой в сенях, – еще мыть тут все, потом на Туру сходить, порыбачить, а потом и детки придут, – заниматься».
Вычистив избу, она села за письмо матушке – с новым воеводой шел обоз, что потом отправлялся обратно на Москву.
«Батюшка хорошо, – написала Федосья, – обещался нас с Волком до конца зимы навестить, он сейчас на востоке где-то кочует. Дорогая матушка, ты не волнуйся, пожалуйста, здесь безопасно, Кучум где-то на юге обретается, и не этой зимой, так следующей мы с ним покончим».
Девушка перечитала ровные строки, и вдруг услышала стук в ставни.
– Что такое? – она высунулась из двери, накинув платок и соболью душегрею.
Григорий Никитич мялся на дворе, под легким снежком. Мороз был такой, что дух захватывало.
– Василиса! – ахнула Федосья, и сунув ноги в меховые сапожки, быстро выбежала на улицу.
«А ты иди к батюшке Никифору, – обернулась она к Григорию, – подыми его, пущай царские врата открывает».
Тот только кивнул, и вдруг сказал: «Еще случится что!».
– Ничего не случится, – твердо сказала Федосья, посмотрев в слабо, по-зимнему, светлеющее небо.
Василиса расхаживала по горнице, держась за поясницу, чуть постанывая.
– Ты воды-то согрела? – озабоченно спросила Федосья, скидывая душегрею.
– Да конечно, – сказала девушка, и тяжело задышала. «Встала-то до рассвета еще, Григорий Никитич на охоту собрался, накормить его надо было, потом сходила на реку, шесть ведер принесла, тесто замесила, и на тебе, – она поморщилась. «Ты каравай-то поставь, печка у меня еще с вечера затоплена».
– Ты, может, сядешь? – Федосья взяла ее за руку и почувствовала, как Василиса сжала ее пальцы – сильно.
– Так вроде легче, – девушка оперлась на стену и мгновение подождала. «И матушка, верно, не доедет – вон, пурга какая вечером была, так и свистел ветер».
– Часто идут-то? – Федосья засучила рукава и потянулась за горшком с тестом.
– Сейчас уже да, – Василиса стала крошить оттаявшую в избяном тепле рыбу. «Давай еще пирогов напечем, Григорий Никитич до них большой охотник».
– Давай-ка мне нож, – вдруг велела Федосья. «Ты хлебами лучше занимайся, еще схватывать тебя будет, так порежешься».
Ставня стукнула.
Федосья высунулась в окно, и велела: «Ты иди, куда хотел, все хорошо у нее».
Григорий Никитич вздохнул и робко попросил: «Пусть на двор-то выглянет».
Василиса, с испачканными тестом руками, как была, с непокрытой головой, выбежала из сеней, и Гриша, прижав ее себе, чуть обняв за живот, сказал на ухо жене: «Люблю тебя».
Она встала на цыпочки и, поцеловала его в губы – долго. «А ну иди в горницу, – строго велела Федосья с крыльца. «Вон, мороз, какой!»
Крепостца просыпалась – были слышны мерные удары била на церковном дворе, скрипели калитки, кто-то уже взялся за топор, вниз, к Туре, по обледенелому склону заспешили девушки с пустыми ведрами и стопками белья.
– И к заутрене не сходим, – болезненно вздохнув, сказала Василиса, укладывая рубленую рыбу на тесто.
– Ничего, – Федосья подхватила противень с пирогами, – заутреня каждый день, а рожаешь-то раз в год, коли на то Господня воля. Успеешь еще помолиться.
Девушка вдруг ахнула и пощупала свой сарафан. «Ну вот, теперь избу мыть придется, хорошо еще, что я воды вдосталь принесла», – сказала грустно Василиса, глядя на лужу, что растекалась по полу.
– Я помою, – Федосья устроила подругу на лавке. «А ты сиди уже, ради Бога, ежели воды отошли, так и родишь скоро. Холсты есть у тебя?»
– Там, в сундуке, – указала Василиса и слабо улыбнулась: «Те, что мы с тобой еще опосля Успения ткали». Девушка потянулась за рубашкой и озабоченно сказала: «Починить надо, с вчера еще лежит».
Федосья подняла Василису с лавки и расстелила под ней грубый, крапивного полотна холст.
«Ничего, – сказала старшая девушка, – следующей весной уже лен посеем, да и Волк обещался овец с юга пригнать, с шерстью будем. А эти отстираешь в проруби, кровь холодной водой хорошо смывается».
Василиса сидела с широко раздвинутыми ногами, молча, зашивая рубаху, глядя на то, как Федосья, подоткнув подол, трет дресвой пол. «Ну, все, – девушка окунула руки в горячую воду и сказала: «Дай глянуть-то».
– Боюсь, – вдруг пожаловалась Василиса. «Матушка к Ыленте-Коте ходила, да и ты тоже, а так…, вдруг еще случится что».
– А ты помолись Богородице, – сердито сказала Федосья, ощупывая живот. «И муж твой батюшку попросил, царские врата раскрыли, я вон у сундуков все крышки подняла, все хорошо будет.
Василиса опустила красивую, с расплетенными темными косами, голову и что-то зашептала.
Дверь из сеней приоткрылась, впустив свежий, морозный воздух, и порыв пурги.
Аграфена Ивановна всунулась в горницу и спросила: «Может, помочь чем?». Федосья смешливо глянула на девушку и махнула рукой: «Иди, сами справимся, уже скоро».
– Ну, дай Господь, – Аграфена перекрестилась, сверкнув темными, узкими глазами. «Зовите, ежели что, я тут рядом».
– Сейчас родишь, – улыбнулась Федосья, глядя на вцепившуюся в ее руки девушку. Василиса сползла с лавки, и глянула вниз: «Что это?»
– Головка, что! – сердито сказала Федосья, оборачивая руки холстом. «Ты сейчас не торопись, а то мужик твой потом не порадуется, коли разорвешься». Василиса задышала – часто, будто собака в жару.
– Вот, – Федосья вывела головку на свет, и улыбнулась: «Волосы-то русые, а глаза твои – раскосые. Сейчас плечики пойдут, терпи».
Василиса, застонав, спросила: «Парень или девка?».
– Родишь, дак узнаешь, – старшая девушка аккуратно, нежно потянула дитя к себе. Оно выскользнуло на свет – большое, крепкое, и сразу же закричало – требовательно и громко.
– Парень! – улыбнулась Федосья, вытирая мальчика. Тот разлепил темные, материнские глаза, и опять закричал. «Громкий ты мой, – сказала Василиса ласково, протягивая руки, устраивая дитя у груди.
– Ты сиди пока так, – велела Федосья. «Я тебя потом медвежьим жиром с травами смажу, и ляжете с ним. Дай, в шкуру его заверну, прохладно тут».
– Он у нас сибиряк, – ласково сказала Василиса, глядя на сына, – морозов не боится.
Григорий Никитич, волоча за собой нарты с набитой птицей, подошел к воротам крепостцы.
– Ну что, – спросили смешливо с вышки, где в свете затухающего дня горел костер, – дозорные грелись, – когда ведро-то ставишь, Гриша?
– За парня два надо! – крикнули снизу.
Он побледнел и сказал: «А ну открывайте быстро!».
В горнице пахло пирогами. Василиса, хлопотавшая над столом, обернулась на скрип двери, и широко улыбнувшись, увидела мужа – он стоял на пороге, опустив большие, красные от мороза руки. «Сын, – сказала девушка, – тихо, нежно, вдыхая морозный воздух, что зашел с ним в избу. «Сын у нас, Гриша».
Григорий Никитич посмотрел на ее красивое, зардевшееся лицо, и прижал жену к себе – крепко, так, что она, смеясь, сказала: «Ну, пойдем, посмотришь-то на Никиту Григорьевича».
Мальчик спал в колыбели из оленьей шкуры, привешенной к очепу. Гриша, едва дыша, протянул руку. Сын зевнул, – широко, и требовательно закричал. «Ты садись, – сказал Григорий Никитич торопливо, – садись, счастье мое, я тебе его дам».
– Не уронишь? – девушка нахмурила брови, расстегивая рубашку.
– Не уроню, – твердо ответил муж, вынимая мальчика. «Никогда не уроню». Василиса приложила сына к груди, а Гриша, устроившись рядом, обняв ее, шепнул на ухо: «И как мне тебя благодарить-то?».
– Как внуков от этого дождемся, – жена рассмеялась, указывая на Никитку, что лежал русой головой на ее смуглой, тонкой руке, – тогда и поблагодаришь.
– Может, заблудились где? – озабоченно сказал кто-то из дружины, вглядываясь в белое пространство перед ними. «Ветер, пурга который день. А, Волк?».
– Да что тут плутать-то, – усмехнулся мужчина, придерживая коня. «Матка у них есть, тут по Тоболу на север дорога прямая, а уж мимо нас они не пройдут». Михайло приподнялся в стременах, и, глядя на лед реки, сказал: «Вот и они, ну поедем навстречу новому воеводе-то».
Обоз растянулся на несколько верст. Дружинники подъехали к его голове и остановились в отдалении.
– Кто сие? – услышали они резкий голос.
– Михайло Волк и дружина, из острога Тюменского – крикнул мужчина.
Двое, на хороших конях, подъехали к ним, и высокий, мощный мужчина протянул руку:
«Данило Чулков, новый воевода сибирский, с подарками от царя Федора Иоанновича к вам.
Сие младший брат мой, Яков, – красивый юноша, с короткой, на польский манер бородкой, поклонился.
– Ну, – сказал Волк, – добро пожаловать на новые земли наши, воевода».
– Так, – сказал Чулков, грея руки над костром. «Мы с тобой, Волк, и с людьми тут останемся, будем крепостцу новую закладывать, Тобольск, а брат мой с обозом к вам в острог отправится. Думаю, до весны мы тут закончим, и уж тогда все к вам съездим».
– Провожатых Якову Ивановичу тогда надо, – ответил Волк. «Остяки тут мирные, под нашей рукой, ясак нам платят, бояться некого, но все равно – тут у нас в Сибири зимы суровые, ежели заплутаешь, так и замерзнуть можно.
– Ну, дай ему с десяток человек, – велел Данило Иванович. «Пищали у них есть, волки ж тут не балуют у вас?»
– Да зачем им? – ухмыльнулся Михайло. «Тут в лесах столько зверья, что на всю жизнь хватит, и даже дальше».
– Ну и славно, – Чулков потянулся за саблей и стал чертить что-то на снегу. «Давай с тобой тогда подумаем, Михайло Данилович, где нам стены-то у Тобольска лучше ставить».
Тайбохтой подогнал оленей, и, растянувшись на спине, глядя в высокое, солнечное небо, подумал: «Хорошо, что я на восток-то сходил. Люди, что там живут, сказали, мол – земля и дальше простирается, на восход солнца. Вот сейчас с Ланки повидаюсь, с мужем ее новым – и туда отправлюсь.
– А что, – он перевернулся, и, устроившись на боку, опираясь на локоть, посмотрел на бесконечную, заснеженную, равнину. «Мне вон, пятидесяти нет еще, может встречу ту, что по душе мне будет, да и я ей. Конечно, такой как Локка, уж не найти, но и я тогда моложе был, двадцать пять мне исполнилось, как она Ланки родила».
Олени бежали резво, и Тайбохтой, улыбаясь, сказал сам себе: «Переходов семь еще осталось, ну или десять, если еще охотиться буду. А поохотиться надо – не с пустыми же руками в гости приезжать. Но вот если буран поднимется, так могу и задержаться». Вокруг переливался, блестел, играл серебром нетронутый снег, на горизонте чернела полоска леса, и вождь, закинув руки за голову, запел – сначала тихо, без слов, а потом и громче.
Федосья вынула ребенка из колыбели, и, усмехнувшись, сказала: «Чем ты его кормишь, что он здоровяк такой? Чуть больше месяца, как родила, вон, очистительную молитву только на той неделе над тобой читали, а Никитка у тебя – ровно трехмесячный».
Василиса вложила сосок в жадно открытый рот и нежно ответила: «Так Григорий Никитич, вон у меня, высокий какой, то в него. Ну и молока у меня хоть залейся, спасибо травам твоим. А у тебя с Волком, дети-то тоже высокие будут, вон, вы оба какие – он как бы и не десяти вершков роста-то, как Григорий Никитич, а в тебе сколько?
– Чуть поболе семи, – ответила Федосья. «Я в батюшку своего, ты ж его видела, матушка-то моя – девушка улыбнулась, – едва до трех дотягивает, маленькая она, ровно ты».
– Не понесла ты еще? – спросила Василиса, гладя сына по голове, что-то воркуя.
– На все воля Божия, – сердито ответила Федосья и принялась расставлять на столе горшки и туески. «Как заснет он, давай, сбитень тебя научу варить, и ягоды я принесла, из них тоже питье можно делать, полезное».
– Как какая женщина неплодная, – задумчиво заметила Василиса, – муж может младшую жену взять. У сродственников наших так было. Но если ты старшая жена, то ты уж в чуме хозяйка, даже если у тебя детей нет. Младшая жена все делает – рожает, рыбачит, готовит, а ты только сидишь, вышиваешь, да с мужем спишь, – младшая девушка рассмеялась.
– Христиане сие не делают, – Федосья на мгновение приостановилась с ложкой в руках, застыв, вспомнив беломраморные покои, где жили они с матушкой, соленый ветер с Золотого Рога, и то, как наставник играл с ней в шахматы.
«А я ведь вспомню турецкий, если там окажусь, – смешливо поняла девушка. «Да и персидский тоже, хоша я его и не доучила. Господи, да о чем это я, какой Стамбул! – она посмотрела на Василису и сварливо сказала: «Ну, у тебя дитя спит давно. Вставай, да сюда иди, и слушай, что я говорю, а то у меня детки еще сегодня придут к батюшке – заниматься».
– Ты воеводу-то нового видела? – спросила Василиса, размешивая мед. «Он в избе у Ермака Тимофеевича поселился, говорят, перестраивать ее будет, мало места ему. И острог зачали возводить, Григорий Никитич цепи кует. Стрельцов вон, сколько приехало – и по улице из-за них не пройти.
– То не воевода, а брат его всего лишь, – кисло ответила Федосья. «Воевода сейчас с Волком новую крепостцу ставит, Тобольск будет называться. Великим Постом обещались тут быть, а может, и позже».
– Скучаешь? – Василиса на мгновение положила свою руку на тонкие, длинные пальцы подруги.
– Скучаю, конечно, – вздохнула Федосья, но тут, же тряхнула укрытой платком головой:
«Ничего, батюшка скоро приедет, порыбачим с ним, на оленях поездим, а ты, небось, уже и забыла, как нартами-то править?» – она подтолкнула Василису.
– Ничего я не забыла, – та потянулась и чуть покачала колыбель. «Женских нарт нет, а отец твой на свои нарты не пустит».
– Так у тебя и кровей уж нет, – расхохоталась Феодосия.
– У тебя ж есть, – взглянула на нее младшая девушка. Федосья ничего не ответила.
В маленькой горнице было жарко натоплено. Федосья рассказывала детям сказку по-русски, медленно, объясняя на остяцком языке незнакомые слова.
– И вот, – таинственно сказала она, – приехал Ермак на земли сибирские и стал там жить.
Живет полгода, живет год, а может быть и два. А потом узнал Ермак: живет где-то в лесах остяцкий князь, и имеет этот князь большую силу, богатую землю. Мало-помалу стал Ермак с двадцатью пятью людьми пробираться туда.
Приехал в землю остяцкого князя, Тайбохтой его звали, и стал там жить. Мало-помалу, подружился Ермак с князем. Стали жить и есть вместе с Тайбохтоем, и так подружились, что ночь не проведут друг без друга и дня не проведут друг без друга. Так однажды за питьем, за едой, за дружеской беседой Ермак Тимофеевич и говорит:
– Тайбохтой, у меня есть один разговор; не знаю, понравится тебе или нет, если рассказать.
Если понравится – рассудим, не понравится – отклоним. – Я вот все думаю: живем мы здесь, в темных лесах, ничего не знаем, а ведь есть у нас царь – хозяин земли русской. Людей, живущих помимо воли царя, не должно на Руси быть. Я думаю дать тебе, князь, совет: надо вам, остякам, кто хочет, принять веру русскую, – так Ермак сказал.
– И приняли? – спросил кто-то из детей.
– Кто хотел, тот принял – улыбнулась Федосья, – вон, и вы все у нас крещеные, и родители ваши тако же, а вот князь Тайбохтой не захотел, и другие – тоже. Ну, Ермак его и не неволил, заключили они договор на веки вечные, что остяки будут под рукой царской, воевать за царя будут, ясак приносить, а с верой – то дело каждого человека, пусть сам решает.
– А правда, что Ермак, как погиб, так птицей обернулся, и парит сейчас над землей? – мальчик, – лет семи, – сощурил темные глаза. «Мне отец говорил – следит атаман с небес, и если где кого обижают, так он спускается, и обидчика наказывает».
– Вот, – крикнул кто-то из детей, – а ты меня в снег толкнул на дворе. Сейчас атаман Ермак прилетит, и плохо тебе будет.
– Обижать никого не надо, – улыбнулась Федосья, – Иисус нам заповедовал любить друг друга. А Ермак Тимофеевич, – она перекрестилась, – в обители небесной пребывает, вместе с праведниками, и нам надо за душу его молиться.
Яков Чулков, что стоял, прислонившись к двери большой горницы, усмехнулся. «Вот что за сказочки сия инородка-то рассказывает».
– Сие не инородка, – обернулся Григорий Никитич, что ладил для батюшки скамью, – а Федосья Петровна Волк, жена Михайло Даниловича, что тебя на Тоболе встречал.
– Жена, – протянул Чулков. «Тут таких жен, я смотрю, полная крепостца – сегодня одна, завтра другая».
Гриша отряхнул руки и распрямился во весь рост, презрительно оглядев юношу. «Сие жены венчанные, православные христианки, – холодно сказал он, – так что ты руки свои к ним не тяни».
– А ты мне не тыкай, холоп, – Чулков покраснел. «Я воевода сибирский!».
– Не ты, а брат твой старший, – поправил его Гриша. «А я отродясь, холопом не был, я человек свободный, исконный насельник сибирский, Григорий сын Никитин, по прозванию Меншик, как хочу, так и разговариваю с тобой».
– Не зарывался бы ты, кузнец, – угрожающе сказал Чулков.
Гриша аккуратно поставил скамью на место, завернул свой инструмент в оленью шкуру, и, оглянувшись, взяв у печки кочергу, завязал ее узлом.
– А это уж я сам решу, Яков Иванович, – что мне делать, а что – нет, – сказал Григорий Никитич, и вышел, бросив кочергу под ноги Чулкову.
Волк отступил и полюбовался своей работой – банька вышла на славу, почти как та, что ставил он для себя. Михайло провел ладонью по свежим, остро пахнущим деревом стенам и услышал сзади голос Данилы Чулкова.
– Веников-то и нет, Михайло Данилович, а что за баня без веника? – воевода повел носом.
«А помыться надо, вон, Чистый Понедельник скоро, как грязным в Пост-то Великий быть?
– Можно в Тюмень гонца отправить, Данило Иванович, – усмехнулся Волк. «Тут дня четыре, али пять пути, не боле. Кого из наших ребят пошлю, они дорогу хорошо знают, не потеряются. У хозяйки моей с лета тех веников уйма заготовлена, в сенях лежат.
– Ну, за одним-то веником человека гонять, – неуверенно сказал Чулков. «И вон мороз, какой, вчера ночью круги около месяца были, и похолодает еще, хотя куда, казалось бы?
– Есть куда, – уверил его Волк, и добавил: «Окромя веников, нам много чего надо еще, я вон записал, – он потянул из кармана полушубка лист бумаги.
Чулков опешил. «Ты что, грамотный, что ли? – удивленно спросил он.
– Ну, не сильно, – Волк покраснел, – однако читать умею, и писать – тако же, с батюшкой нашим занимался, и хозяйка моя помогла.
– Где ж ты грамотную женку себе нашел? – улыбнулся Чулков, когда они уже стояли у большой, свежесрубленной воеводской избы.
– Московская, как и я, – коротко ответил Михайло. «И вот еще что, Данило Иванович – плотник я неплохой, сами видели, печь – тако же могу сложить, а по кузнечному делу – тут я не мастак, зато в Тюмени у нас Григорий Никитич, сосед мой, и друг лучший – того сюда звать-то надо, чтобы помог нам».
– Ну вот, с гонцом и позовем, – приговорил Данило Иванович и добавил: «Пойдем, Михайло Данилович, за трапезу, как мы оба с тобой вдовцы соломенные, вместе веселее».
– Когда хозяйка-то ваша приезжает? – спросил Михайло, уже сидя за большим, пахнущим смолой столом.
Чулков усмехнулся. «На сносях была, как мы отправлялись, уж не стал я ее зимой, в морозы, сам-четверт через Большой Камень тащить. Летом следующим приедет, тогда и на дитя новое посмотрю, а то не знаю, – сын народился, али дочка. Трое сыновей-то есть уже, можно и девку родить, тем более тут женихов, как я вижу, много ходит, – мужчина разгрыз крепкими зубами оленью кость и спросил: «У тебя-то дети есть?»
– Да я опосля Троицы повенчался только, – расхохотался Волк, – куда там!
– Все равно, – серьезно заметил Чулков, облизывая пальцы, – нам сейчас воинов много надо будет, бабам без передыху рожать придется».
– Вы сначала баб привезите, – Михайло потянулся за куском свежевыпеченного хлеба и рассмеялся: «А то муку захватили с собой, а о женах – не подумали».
– Как говорили с боярами на Москве, – усмешливо заметил Чулков, – кто-то и молвил: «Из Разбойного приказа мужиков забрали, а баб надо по срамным домам искать – славные-то пары получатся».
– Что было, Данило Иванович, – то прошло, – угрюмо сказал Волк, – мы теперь люди честные, и не вернется сие более.
– А все равно, я приказал, что у вас, в Тюмени, что в Тобольске, тут, – Чулков обвел рукой стол, – остроги возводить. Пригодятся, Михайло, поверь слову моему. Нет еще такого татя, чтобы ремесло свое бросил.
– Ермак Тимофеевич судил нас по тем делам, что мы тут делали, – тихо проговорил Волк, – а не по тому, чем мы на Москве занимались.
– Ермак Тимофеевич, – Чулков перекрестился, – упокой, Господи душу его, людям доверял сверх меры. А я судить по-другому буду, Волк – мужчина сцепил пальцы и, повертев ими, вдруг заулыбался: «Однако и вы такие нужны – не сыновей же хороших семей боярских под сабли да стрелы татарские отправлять. Пусть лучше холопская кровь льется-то».
– Да, – угрюмо проговорил Волк, – ваша, правда, Данило Иванович, – он налил себе в оловянную кружку водки и выпил одним залпом.
Над Турой стояло маленькое, высокое, морозное солнце. Вода в большой проруби, откуда брали воду для крепостцы, казалась черным, бездонным зеркалом. Федосья расстелила на льду холсты и стала колотить их вальком.
Аграфена Ивановна, что стирала рядом с ней, вдруг приостановилась и тихо прошептала что-то девушке на ухо.
– А ты не балуй, – строго сказала Федосья. «Как муж твой в отъезде, нечего по улицам-то бегать. А то вон – вместо того, чтобы хозяйством заниматься, стоите цельными днями супротив избы воеводской и языками молотите. И ведь ладно летом, а ведь мороз какой на улице, а вам все нипочем. Думаете, у москвичей там медом намазано?
Аграфена выронила валек из рук и ахнула.
– Не намазано, уж поверь мне, – ядовито сказала Федосья Петровна. «И ведь главное – не девки какие, чтобы ветер в голове был, жены венчанные. Стыд берет».
– А Яков Иванович красивый, – мечтательно проговорила Аграфена.
– У тебя свой мужик есть, на него и смотри, – сухо заметила Федосья и принялась собирать белье.
Большая горница воеводской избы была жарко натоплена.
– Вот сюда шкуры-то кладите, – распорядился Яков Чулков, глядя на то, как двое дружинников расставляют лавки. «И больше, холодно у вас тут, – юноша поежился.
– То разве холод? – рассмеялся кто-то из парней. «Это так, ваша милость, пощипывает чуток. Ночью – вот то настоящий мороз ударит».
– Ночью-то тепло, – ответили ему, – ночью жена под боком». Парни расхохотались.
– С водкой еще теплее, – заметил Чулков, открывая флягу. «Садитесь, выпьем-то по чарочке»
– Я смотрю, – равнодушно заметил юноша, разливая водку, – у вас тут и девок нету, как живете-то? Скучно ведь.
– Это сейчас – зевнул дружинник напротив. «А по весне, опосля Пасхи, как ясак начнут привозить – тогда весело станет. Остяки семьями приезжают, с дочками, костры жжем, из луков стреляем. Как раз вот в сие время и знакомиться, а после Покрова уж и свадебку сыграть».
– Федосья Петровна, та ведь тоже кровей остяцких? – спросил Чулков.
– Да, – подали голос сзади, – батюшка у ней, князь ихний, Тайбохтой прозывается.
– Так вот про кого она сказочку рассказывала, – улыбнулся Чулков. «Что ж она, отсюда, с Туры, али с Тобола?».
– С Москвы она, – объяснили ему, – муж ее покойный атаманом у Ермака был. Ну а потом его убили, а ее в плен увели, в Кучума ставку.
– Вот как? – Яков поднял бровь и налил парням еще. «Что ж она там делала?».
– Известное дело что, – сочно ответили ему, – и под ханом полежала, и под визирем его, Карачей, и под кем еще не валялась. Говорят, и дитя там нагуляла, да померло оно.
– Точно, – кто-то расхохотался, – сладкая жизнь там у нее была – знай себе ноги раздвигай, да рот открывай шире. Ну а потом с остяками она болталась где-то, там тоже времени не теряла, наверное.
– И, что ж, опосля этого и замуж вышла, не побрезговали ей? – поинтересовался Чулков.
– Я б побрезговал, я истоптанные дороги не люблю, – ответил ему парень, что сидел напротив, – а Волку, видать, все равно, он на Москве у себя к блядям привык, так и тут оную нашел!
Яков Иванович только улыбнулся – тонко.
Феодосья разогнулась, и, посмотрев на вымытый пол, вытерла пот со лба. Она и не заметила, как чуть скрипнула дверь. Подоткнув подол выше, девушка вылила на доски горшок дымящейся воды, и, опустившись на колени, стала скрести половицы своим ножом.
– Хозяйничаешь? – раздался ленивый голос с порога. Федосья, покраснев, оправила сарафан и быстро обмотала косы платком.
– Чисто у тебя – Яков Иванович оценивающе посмотрел на девушку и подумал: «Баба не молода уже, конечно, однако ноги хороши. Да и лицом она пригожа, сгодится».
– Ты, говорят, вдовеешь, Федосья Петровна? – он прошагал грязными сапогами по еще влажному полу и, устроившись на лавке, недовольно добавил: «Ну, подтирай, что встала-то».
– Сами наследили, сами и подотрете, – Федосья бросила тряпку. «И я не вдовею, у меня муж есть».
– Ну, это пока, – заметил Яков. «Все в руке Божьей, как Писание нас учит. Коли б ты грамотна была бы – почитала».
– Да уж читала, – Федосья стала убирать в сундук высохшие на морозе, аккуратно сложенные холсты.
– Ишь ты какая – хмыкнул Яков. «А ты что ж гостя не привечаешь, не по-людски это, Федосья Петровна, не по-христиански».
– Невместно мне, коль мужа в крепостце нет, – жестко сказала девушка. «Как вернется Михайло Данилович, милости просим за наш стол. А ранее, – никак, уж не обессудьте, Яков Иванович, – языками болтать зачнут.