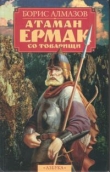Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Уж такой отдых, – томно сказала Марфа, почувствовав его прикосновение. «Такой отдых, Федя, что боюсь, на Воздвиженку я отсюда не дойду – ноги не донесут».
Потом они лежали на полу, и Марфа рассматривала его рисунки. «Это все так, – Федор погладил ее по спине, – это я думаю, ну и рисую. Ничего, конечно, построить не удастся, – он помолчал.
– Почему? – серьезно спросила Марфа.
– Казне крепости нужны, церкви – храмы, а у бояр денег на сие не достанет, да и покажи такое, – Федор кивнул на рисунок воздушного, изящного дворца, – боярину, так он крестным знамением себя осенит, и побежит куда подальше. Заказчик, Марфа, он же дурак большей частью, уж прости меня, а без заказчика нам, строителям, жить не на что будет, – он наклонился и стал целовать ее, – медленно, ласково.
– Езжай в Европу, – вдруг сказала Марфа. «В той же Англии, или в Италии, – куда как больше строят».
Федор улыбнулся. «Да предлагали мне в Польшу перебежать, однако что за человек я буду, коли страну родную брошу. Хотя жалко, конечно, – итальянцы нам Кремль строили, а вон, рядом Троицкая церковь стоит – красоты такой, что редко оную в мире-то встретишь, и не итальянской она работы, а нашей. Можем, значит».
Она вдруг перевернулась и оказалась прямо под ним. «Можем, Федор Савельевич, – серьезно сказала Марфа. «И строить, и еще многое можем».
Федор рассмеялся и сказал: «Ну, давай, покажу тебе, что я-то могу, коли ты с прошлого раза забыла, хоша он и недавно был».
Марфа перекрестилась, поклонившись в сторону церкви, раздала милостыню, и, уже, оказавшись в возке, закрыв глаза, твердо пообещала себе: «Скажу. Нельзя иначе, – то дитя его. А там уж решать будем, что делать – вместе».
Улыбаясь, бросив еще один взгляд в сторону Китайгородской стены, она велела везти себя к монастырю Воздвижения Креста Господня.
Белая, длинношерстная кошка потерлась о ножку кресла и легко вспрыгнула на колени к мужчине. Тот подпер голову рукой, рассеянно почесав кошку, и посмотрел на шахматную доску.
– Вот так, – Борис Федорович Годунов, шурин государя Федора Иоанновича, глава регентского совета при царе, погладил ухоженную, каштановую бороду, и в три хода поставил царю шах.
Федор Иоаннович, все лаская кошку, вздохнул: «Батюшка покойный, да хранит Господь его душу, хорошо играл, конечно, а вот я, Боренька, не разумею, как тут что двигать».
Голубые, будто все время наполненные слезами, глаза государя взглянули на Бориса Федоровича. Тот на мгновение сжал пальцы, – скрытые длинными рукавами богатого кафтана, – до боли, до чуть слышного хруста.
Пасха была ранней, царь, отстояв все богослужения, заболел. У него распухло колено, он горел в лихорадке, и, наконец, впал в беспамятство. Борис вспомнил, как Богдан Яковлевич Бельский отвел его в сторону, в какой-то закуток за печью, и тихо прошептал: «Вот бы сейчас».
Борис только покачал головой – прозрачные глаза боярыни Воронцовой-Вельяминовой все время следили за палатами, неотступно, она не поднималась от ложа государя, только иногда кивала Марье Федоровне и та меняла холодную тряпку на лбу царя, или приносила снадобье.
Они были будто два ангела – одна повыше, другая пониже. Марфа была во вдовьем черном плате. Царица – в опашене цвета голубиного крыла. Борис наклонился и мягко сказал Марфе Федоровне: «Вы поезжайте домой, боярыня, детки же у вас, Марья Федоровна за государем присмотрит, тако же и мы с Богданом Яковлевичем».
Зеленые глаза обшарили его лицо – зорко, пристально, и Борис вдруг почувствовал, как мороз дерет его спину – хотя палаты были жарко натоплены.
– Горячие ванны бы ему помогли, – сказала Марфа, вставая. «Распорядитесь, Борис Федорович. А вы, государыня, продолжайте то снадобье давать, что я вам сказала, там его много, на день хватит вам».
Годунов проводил взглядом ее маленькую, стройную фигуру и еле заметно кивнул Бельскому. Тот только опустил ресницы.
– Может быть, Боренька, – осторожно сказал Федор Иоаннович, – пущай Марья Федоровна и Митенька в Кремле останутся? А то нехорошо выходит – как будто я брата своего единокровного ссылаю, от Москвы подальше, – он глубоко вздохнул и улыбнулся – слабыми, влажными губами.
– Дак говорили уж об этом, государь, – Годунов стал убирать шахматы, – сие желание батюшки вашего покойного, – чтобы царевич Димитрий и мать его в Углич уехали, в удел его, там не в пример лучше ребенку расти, нежели чем в Москве.
Федор Иоаннович встал, – Годунов тут же поднялся, – и прошел к низкому окну. Кошка зевнула и устроилась на толстом персидском ковре.
– Лето, какое славное в этом году выдалось, жаль, батюшка его не увидит, – царь погладил рыжеватую, растущую клочками бороду. «Вон и к вечерне звонят. Волнуюсь я за Митеньку, Боря, – царь повернулся, – хоша Марья Федоровна и восьмой женой батюшке была, однако все же венчанной, как положено, и царевич в браке рожден».
– Церковь сих браков не признает, – сухо ответил Борис. «Вы бы лучше, государь, о своих наследниках волновались, нет оных, по сей день, а надо, чтобы были».
Федор Иоаннович покраснел и пробормотал что-то – неразборчиво.
– А за царевича, – Годунов мягко улыбнулся, – не след тревожиться, там, в Угличе, и поиграть ему с кем будет – боярские дети, кровей хороших. Вона, – он кивнул на дверь, – Михаил Никитович Битяговский ждет, вызвал я его, чтобы вам, государь, представить.
Царь сморщил низкий лоб и беспомощно посмотрел на шурина.
– Правителем земских дел в Угличе вы его назначили, – помог Борис Федорович, – и смотрителем за хозяйством царевича, по моему представлению, на той неделе еще указ подписывали.
– Да, да, – рассеянно сказал Федор Иоаннович, – так здесь он? Ну, пусть войдет, пусть войдет…
Низенький, толстый Битяговский поясно поклонился царю и прижался губами к перстню с большим алмазом, что украшал палец Федора Иоанновича.
– Ну, ты там, – царь замялся.
– За здравием царевича и вдовствующей государыни следить непрестанно, жизнь свою положить, а их защитить, – отчеканил Годунов.
– Да, да, – согласился царь, и, наклонив голову, прислушался: «К вечерне звонят. Пойду к Иринушке, пора и в церковь нам».
Он прошел мимо согнувшихся в поклоне мужчин, и, как только за Федором Иоанновичем закрылась низкая, резная дверь, Годунов сказал: «Ну, ты, Михаил Никитович, помнишь, говорили мы с тобой о сем. Кормление у тебя с Углича хорошее будет, кроме того, – Годунов усмехнулся, – ежели сие дело получится, так и не скучно тебе там станет. Наверное».
Дьяк улыбнулся пухлыми губами. «Выйдет у меня, Борис Федорович, не сумлевайтесь».
– Ну, вот и славно, – Годунов потрепал его по щеке. «Только, Мишка, помни, что я тебе говорил – ее больше всего опасайся. Там волчица такая, что скрозь тебя смотрит, и все чует».
– В монастырь бы ее сослать, и дело с концом, – раздраженно сказал Битяговский. «Ради чего рисковать-то?».
– Ну, знаешь, – он вдруг прервался, будто остановив себя, – нет, ладно. А ты, Мишка, жди – как надо будет, я гонца пошлю».
Битяговский поклонился и вышел, а Годунов, потрещав пальцами, посмотрел на шахматную доску.
После ванн государю стало лучше, он отдышался, пришел в себя, и даже сел за трапезу.
На следующий день Борис отозвал Бельского в какой-то темный угол, и сказал, едва дыша:
«Не действует яд-то».
– Погоди, – медленно ответил тот. «Не торопись, Борис. Видишь, он уже опекунов для царевича назначил, Углич ему отписал. Погоди».
– Сегодня – Углич, а завтра он ему корону царей московских отпишет! – прошипел Годунов.
«Нет, Богдан, кончать надо с ним, и чем быстрее, тем лучше».
– Сыро что-то, – поежился царь, сидя за шахматной доской. «Богдан Яковлевич, посмотри, что там с печкой, дрова повороши».
Бельский поднялся, и Годунов вдруг увидел, как исказилось гримасой боли лицо царя. Иван Васильевич попытался встать, но больное колено громко хрустнуло, и царь, застонав, упал на ковер.
– Позови, – прохрипел он, – лекарей, Марфу позови, Марью! Ну, Борис!
Бельский, было, занес полено над головой государя, но Годунов, покачав головой, сжал сильные пальцы на сухом, морщинистом горле Ивана Васильевича. Потом он вытер покрытые слюной и пеной руки о парчовый кафтан царя и спокойно сказал: «Положи полено-то, Богдан».
Он пришел к государыне Марье Федоровне, когда тело Ивана Васильевича уже лежало на огромной кровати в его опочивальне. «Преставился государь, – тихо сказал Борис, глядя в мгновенно наполнившиеся слезами глаза женщины. «Играл в шахматы, и задыхаться начал, – то смерть быстрая была, царица, он и не почувствовал ничего».
– Призри его Господь во владениях своих, – услышал он тихий, вкрадчивый голос откуда-то из сумрака опочивальни. Боярыня Воронцова-Вельяминова поклонилась Годунову и, когда она вскинула взгляд – будто два изумруда были ее глаза, – Годунов понял, что она – знает.
«Никому не скажу, – подумал он той ночью, стоя у гроба царя, слушая монотонную скороговорку священника. «Богдану говорить нельзя – испугается, к Федьке побежит, а тот, хоша и дурной, и блаженный – но все, же царь. На колу я торчать еще не хочу. Нет, надо ее запрятать как можно дальше. Из России выпускать ее не стоит, конечно, – тут же всем расскажет. И в монастырь нельзя – как я ее туда отправлю? Федьке она нравится, лечит его, опять же. Нет, надо по-другому».
Годунов посмотрел на воронье, что прогуливалось по зубцам кремлевской стены, и, щелкнув пальцами, велел дьяку: «Спосылай на Воздвиженку, к боярыне Воронцовой-Вельяминовой, пущай в Кремль приезжает, завтра с утра, разговор у меня до нее есть».
Дьяк кивнул, а Годунов, все еще глядя в окно, пробормотал: «Может, и не придется делать сего. Ежели у Федора наследник родится, так пусть живет царевич-то. Господи, хоша сам с Ириной спи, пусть и грех это».
Марфа повернулась, и, удобнее устроив большую, кружевную подушку, перевернула страницу книги. Петенька, – распаренный, чистый, сытый, – спокойно сопел рядом. «Господи, – вдруг подумала Марфа, – а на отца-то как похож, будто я его перед собой сейчас вижу».
– Матушка, – Лиза подобралась к ней поближе, и устроилась под боком, – а мама моя красивая была?
– Очень, – вздохнула Марфа. «У тебя волосы, как у нее, только она высокая была, а ты видишь – в батюшку, – маленькая».
Лиза воткнула иголку в свое вышивание и вдруг сказала: «А как так получилось, что батюшка и мама моя друг друга полюбили? Она же герцогиня была, а он просто – купец».
– Сие неважно, – вздохнула Марфа. «Коли люди друг друга любят, Лизонька, это все ничего не значит. Хоша бы ты царица была, а все одно – сердце-то любит, не голова. А мама твоя батюшку очень любила, и я тоже, потому что такие люди, как он – редко встречаются».
– А у нас батюшки не будет более? – робко спросила девочка.
– Посмотрим, – улыбнулась Марфа. «Ну, давай, помолимся, и спать-то будем. Марья с Парашей-то, небось, уже какой сон видят, – а мы с тобой, – заболтались».
– Я бы тоже полюбить хотела! – вдруг, страстно сказала девочка. «Как мама моя, и как ты, матушка!»
– Ну, вот вырастешь, – Марфа коснулась губами теплого, нежного детского лба, – и полюбишь.
Лиза быстро задремала, а Марфа все лежала, слушая дыхание детей.
– Не уезжай, счастье мое, – сказал ей Федор тихо, одними губами, гладя ее по голове.
«Пожалуйста, ну как я без тебя буду-то, Марфа? Больше сорока лет уж мне, я уж и не думал, что встречу ту, без которой жить не смогу».
Она молчала, уткнувшись лицом в его плечо, вдыхая его запах, – свежее дерево, краска, известь. В полуоткрытое окно горницы было слышно, как звонят к вечерне на церкви Всех Святых.
– Нет, Федя, – наконец, так же тихо, ответила она. «Дети у меня, мне о них надо думать, а не о себе, хоша я тоже, – Марфа подняла голову и, увидев его серые, потемневшие, будто грозовое небо, глаза, – тут же опустила, и еле слышно закончила, – люблю тебя, как уже и не думала, что полюблю.
Он помолчал, баюкая ее, и, тяжело вздохнув, сказал: «Марфа, Марфа…, Бывает – думаешь о человеке, и ничего более не хочется, кроме как быть с ним. Тако же и мне с тобой, счастье мое».
Марфа почувствовала прикосновение его руки, и, сжав зубы, сказала: «Сам же видишь, Федя, – так бы и лежала с тобой, и детей бы приносила, коли на то Господня воля была бы, и не надо было бы мне ничего другого. Но не здесь, не здесь, Федя».
Федор Савельевич молчал, – долго, очень долго, – а потом, поцеловав ее, сказал: «Ну что ж, как ты решишь, так тому и быть, Марфа».
Женщина положила руку на живот и чуть погладила его. «Как же теперь уезжать-то? – подумала она. – Дитя отца своего никогда не увидит, как же я могу с ним так поступать? А остальные?» – Марфа зажгла свечу и посмотрела на красивое, спокойное лицо спящего Пети.
«Господи, ну отчего ты мне такой выбор-то дал? Ежели скажу я Федору, – а как не сказать, как скрывать такое, – так он еще сильнее мучиться-то будет. Да и я тоже».
Она взглянула в красный угол, на темные, спокойные глаза Богородицы, и, чуть тряхнув головой, решительно проговорила: «Вот приедет, – сразу и скажу. А там посмотрим».
– Что такое? – сонно пробормотала Лиза. – Ничего, ничего, – Марфа погладила дочь по голове и задула свечу. – Спи, милая.
– Марфа Федоровна, – свежее, красивое лицо Бориса Годунова расплылось в улыбке. – Мы с похорон Ивана Васильевича, храни Господь его душу, не виделись. Вы хоша Марью Федоровну и навещаете, а ко мне никогда не заглядываете.
– Так, Борис Федорович, ради чего я вас от дел-то государственных отрывать буду, – Марфа поклонилась, – низко. – Вы глава Совета Регентского и государю рука правая, чего ж ради вас бабскими-то разговорами обременять?
– Вы садитесь, – ласково предложил ей Борис, подумав: «На три года всего старше меня, а глаза у нее – будто ей семь десятков лет, а то и больше. И как смотрит-то на меня, – все знает, понимает все. Волчица, одно слово».
– Как сборы-то ваши, как детки? – Борис налил боярыне греческого вина. Та чуть пригубила и отставила бокал: – С Божьей помощью, Борис Федорович, здоровы все. К Успению уж и тронемся, в Новые Холмогоры, я сейчас вотчины-то свои продаю, не закончила еще дела все.
– А вы бы не торопились, Марфа Федоровна, – Годунов ожидал увидеть недоумение в ее глазах, однако они смотрели так же – прямо и спокойно. Он поднялся и улыбнулся: «Сидите, сидите, матушка Марфа Федоровна, вы меня старше, да и по крови мне с вами не равняться – вы на ступенях трона царского рождены».
Годунов достал из серебряного ларца свернутый лист бумаги и вдруг подумал: «А ежели заметит? Да нет, Федька не заметил – хотя он придурок, конечно, куда ему что-то замечать?
Но и Регентский Совет не заметил – а они руку государя знают».
– Вы, Марфа Федоровна, знаете, наверное, – продолжил Годунов, садясь, – что государь Иван Васильевич перед смертью своей безвременной опекунов для царевича Димитрия назначил, как он дитя еще есть.
– Знаю, Борис Федорович, – она чуть улыбнулась, – краем тонких губ.
– А Регентский Совет, имеющейся у нас властью, Марфа Федоровна, выбрал из тех, что царь назначил, одного опекуна, и утвердил его уже, – тихо сказал Борис.
– И кого же, если мне будет позволено спросить? – она сцепила тонкие, унизанные тяжелыми кольцами пальцы. Сияние алмазов на мгновение ослепило Годунова, и он поморщился.
– Вас, Марфа Федоровна, – ответил он. «Вот, царской руки – назначение, вот и указ Регентского Совета».
Она просмотрела бумаги, – внимательно, пристально, – и, возвращая их, сказала: «Сие для меня честь великая, Борис Федорович, однако я подданная Ее Величества королевы Елизаветы, тако же и дети мои, и муж мой покойный, – женщина перекрестилась, – и дом наш там, в Лондоне».
– Марфа Федоровна, – почти нежно сказал Борис, – а ведь сыночек-то ваш, Петр Петрович, тут, на Москве, родился. Вот у меня, – он помахал грамотой, – опись о крещении его имеется, в монастыре Воздвижения Честного Креста Господня, что по соседству с усадьбой вашей городской. Так ведь это?
– Так, – тихо подтвердила женщина.
– Ну вот, – Годунов усмехнулся, – поскольку Петр Петрович на Москве рожден, так он и есть – подданный нашего государя, Федора Иоанновича.
А мы, Марфа Федоровна, уж никак не можем вам позволить нашего подданного за границу без царского на то указа особого вывозить, сие есть законов нарушение, сами знаете. Хотите – оставляйте Петра Петровича, и отправляйтесь сами, куда вам угодно.
– И да, – Годунов поднял бровь, – я, уж не обессудьте, стрельцов в усадьбу вашу послал, я за Петра Петровича беспокоюсь, все же наследник целого рода боярского, да какого рода!
Марфа сжала зубы, – до боли, – и проговорила: «Сами же знаете, Борис Федорович, мать свое дитя не оставит».
– Ну, вот и славно, – легко улыбнулся Борис, и хлопнул в ладоши. Когда перед Марфой поставили золоченую, большую чернильницу и перо, Годунов сказал: «Вы распишитесь вот тут, боярыня, что принимаете на себя бремя опекунства».
Марфа молча, сжав перо захолодевшими пальцами, – расписалась, и Годунов, посыпав бумагу песком, сказал: «И вот тут еще, любезная Марфа Федоровна, что вы ознакомились с указом Регентского Совета, тоже распишитесь».
Женщина побледнела, и положила перо. «Не буду я сие подписывать, Борис Федорович».
– Будете, не будете, – улыбнулся Годунов, – сие, Марфа Федоровна, неважно. Я вам и на словах могу сказать, при свидетелях – он повел рукой в сторону дьяков, что стояли у двери палат.
– Регентский совет запрещает вам, а тако же и детям вашим выезд за границы – до особого распоряжения. Все, – Годунов поднялся, – езжайте на Воздвиженку, сбирайтесь, Марья Федоровна уже скоро в Углич отправляется, с царевичем, вам, как опекуну, с ее поездом ехать надо».
Марфа еще нашла в себе силы поклониться, и выйти из палат – медленно, высоко неся голову. Она и не помнила, как спустилась на крыльцо, и нашла свой возок. Захлопнув все оконца, она скорчилась в углу – боль, невыносимая, острая боль билась в животе, и, подняв сарафан, она увидела пятна алой, яркой крови на подоле рубашки.
Федор Воронцов-Вельяминов отступил назад и посмотрел на чертеж. Большой лист грубой бумаги был прибит гвоздями к доске, что держалась на деревянной треноге. Парень погрыз перо и задумался. На рисунке была изображена часть крепостной стены – с ласточкиными хвостами, и узкими бойницами.
– А толщина? – пробормотал Федор и почесал рыжие, перехваченные шнурком кудри. «Еще и какой кирпич будет, тоже непонятно пока. Сделаю я два расчета – один с камнем, а другой с кирпичом».
Он открыл большую, растрепанную тетрадь, и, было, начал писать, как в косяк открытой двери постучали.
– Федор Петрович, – сказал рабочий, – тут до вас пришли.
– Что такое? – не поднимая головы, спросил юноша.
– Марфа Федоровна велела за вами спосылать, – холоп мялся на пороге, – говорит, сие дело неотложное.
Федя чуть побледнел и поднялся: «Иду».
Марфа закрыла на засов дверь своей опочивальни. Она, согнувшись, прошла в нужной чулан и уцепилась за стену. Ноги были испачканы в крови, но боль стала менее острой, в животе просто саднило. Она посмотрела вниз – рубашка промокла. Женщина вдруг почувствовала тошноту, и склонилась над поганым ведром.
«Нельзя, чтобы кто-то знал, – холодно подумала Марфа, и тяжело задышала. «Сразу слухи пойдут, разговоры».
Она стерла со лба ледяную испарину, и, захлопнув дверь чулана, принялась убираться.
Кровь не останавливалась. «Когда закончится, – она вдруг остановилась, скомкав в руках окровавленную сорочку, и приказала себе не плакать, – надо настой сделать, промыть все».
Ключница посмотрела на боярыню, лежащую в постели, и ахнула: «Матушка Марфа Федоровна, да бледная вы какая! Может, за лекарем спосылать?».
– Пройдет, – сухо сказала Марфа. «За Федором Петровичем побежал человек, как велела я?».
Ключница кивнула. «Далее, – спокойно проговорила женщина, – отправь гонца к вдовствующей государыне, в Кремль, пущай спросит, когда обоз ее в Углич отправляется, мы тоже туда едем. Вещи собрали уже?».
– Заканчивают, – испуганно ответила ключница.
– Хорошо, – Марфа подавила желание закрыть глаза и уткнуться лицом в подушку. «Сундуки наши пущай в этот обоз грузят. Управителю подмосковной отпиши, чтобы вотчины, какие остались – не продавал пока. Подай мне перо с чернильницей, бумагу, и пусть боярышни Марья и Прасковья ко мне зайдут».
Она быстро зашифровала грамоту и сказала, запечатывая ее: «Ну, что на пороге-то стоите?».
– Матушка, а с вами все хорошо? – девчонки подошли к постели, и, – Марфа заметила, – даже не сговариваясь, взяли друг друга за руки.
– Будет хорошо, – чуть улыбнулась она. «Так, жердина в заборе, что за кладовыми, – все еще отодвигается?».
Смуглые щеки Параши покраснели, и мать усмехнулась: «Да уж ладно. Сарафаны самые потрепанные наденьте, и бегите в монастырь. Там, на паперти, юродивый – он там один, сразу узнаете. Вот, передадите ему. Сие в тайности, – мать протянула Марье грамотцу.
Лазоревые, большие глаза девочки вдруг захолодели, – ровно лед, тонкие губы улыбнулись, и Марья только кивнула.
«Господи, – вдруг подумала Марфа, – а ведь у нее не Петины глаза. Тот всегда ласково смотрел, добро, и Петенька тако же. А Марья – ровно Степан смотрит, не ровен час, обрежешься».
– Ну, идите, – она привлекла их к себе и быстро поцеловала. «Осторожней там, смотрите».
– Матушка, – Федор быстро взбежал по лестнице в горницы. «Что с вами?».
– Так, пустое, завтра и забудется уже, – Марфа вздохнула.
– Вот что, сыночек – Регентский Совет меня опекуном царевича Димитрия выбрал, меня о сем не спросив, конечно, – женщина невесело рассмеялась, – так что я с девчонками и Петенькой в Углич поеду. А ты тут останешься, – добавила она, видя, как сын хочет что-то сказать. «В Угличе тебе делать нечего, ты уже взрослый, – у бабьих подолов болтаться, будешь приезжать, коли захочешь».
– А как же вы? – озабоченно спросил Федор. Мать потянулась, чуть поморщившись, и поцеловала его в лоб: «Да все пройдет, милый. Сейчас Федор Савельевич вернется, – Марфа внезапно почувствовала страшную, тупую боль в сердце, и чуть помедлила, – я его попрошу, чтобы тебя при себе оставил».
– Матушка, – Федя, будто ребенок, прижался лицом к ее руке, – матушка, милая моя…
– Все устроится, – твердо ответила мать. «А уж раз ты здесь – присмотри пока за хозяйством-то, Лизавета тебе поможет. Я уж денька через два и встану, наверное».
Белокурая, маленькая девчонка в потрепанном сарафане, босая, перекрестилась на купола Крестовоздвиженского монастыря и наглым голоском, с московской ленивой развальцей, спросила у богомолок: «А, юродивый, что туточки обретается, он, когда придет? Матушка меня послала ему милостыньку передать, уж больно доходна до Господа молитва его, говорят».
– Так, милая, преставился раб божий, – заохала одна из старушек. «Третьего дня еще, говорят, на Китай-городе его нашли, – она поманила к себе девчонку, – голову, говорят, ему топором раскололи, упокой Господи душу его святую».
– Ну, значит, вы милостыньку-то возьмите, – девчонка принялась раздавать медь из холщового мешочка.
Вторая девка, высокая, с темными кудрями, что стояла, привалившись к воротам, почесывая одной ногой другую, вдруг повернулась и, быстрее ветра, припустила вверх по Воздвиженке.
– Ладно, – Марфа сцепила пальцы, выслушав Парашу, – спасибо вам. Марья как вернется, в мыльню-то сходите, велела я ее истопить.
Девочка присела на кровать и, глядя на Марфу чудными черными, в золотых искрах, глазами, спросила: «А как же теперь будет-то, матушка?».
– С Божьей помощью, – вздохнула Марфа, опустив веки: «Петеньку мне принеси, покормлю я его, да и трапезничать идите, Лизавета там, на поварне командует, уж не знаю, что она наготовила».
Марья просунула голову в дверь и тихо спросила: «Может, я на Варварку сбегаю, матушка?
Ежели надо, вы скажите только».
– На Варварку нельзя, – Марфа посмотрела на Марью и усмехнулась: «И попарьтесь потом, а то у вас ноги вон – в грязи по колено».
Над Москвой играл тихий, летний закат. Лизавета, устроившаяся на крыльце, отложила вышивание и, посмотрев на Федора, что склонился над рисунком, осторожно проговорила:
«Вот, видишь, как получилось – теперь и неизвестно, когда мы до Лондона доберемся».
– Доберетесь, – парень потянулся, – так что затрещала рубашка, и смешливо добавил: «Щи-то у тебя, Лизавета, вкусные, ровно как у матушки».
– Так я же у нее училась, – девочка покраснела и опять взялась за иглу. «А ты в Углич будешь приезжать, Федя?».
– А ну иди сюда, – мальчик обнял ее. «Ты чего носом захлюпала? Приеду, конечно, вы ж сестры мои, как я вас брошу. Тако же и матушку, и Петеньку. Вон после Покрова и появлюсь, зимой-то рабочие по домам идут, до Пасхи, стены с башнями класть уже не будем, так, отделывать зачнем, а сие дело небыстрое, можно и вас повидать».
Он потрепал Лизу по каштановым кудрям и улыбнулся: «Так что жди, Лизавета».
– Я буду, – тихо ответила девочка, глядя на стрижей, что метались в прозрачном, зеленоватом небе.
Марфа прибралась, и, свернув окровавленные тряпки, засунула их в дальний угол сундука, прикрыв одеждой. «Как встану, так выброшу незаметно, – подумала она, обнимая подушку, чувствуя на лице обжигающие, крупные слезы. «Господи, ну почему так? Почему ты дитяти этому жить не дал – я бы и любила его, и пестовала, почему?».
Она, было, заплакала, – тихо, едва слышно, свернувшись в клубочек. Глубоко вздохнув, она тут, же остановилась. «Говорил мне Джон, – вспомнила она, – если связь не найдешь, или что случится, – то есть сигнал тревоги. И даже через Английский Двор его послать можно.
Отправлю письмо мистрис Доусон, по делам хозяйственным, – пусть в Посольском приказе хоша вдоль и поперек его читают, – а она уж поймет, что с ним делать».
Марфа чуть улыбнулась, и, закрыв глаза, уже засыпая, сказала себе: «Все будет хорошо».
Он закрыл за собой дверь крестовой горницы и тихо сказал: «Марфа». В свете летнего дня ее лицо казалось совсем юным, как там, в избе, когда ее волосы рассыпались по лавке, касаясь деревянного, грубого пола. Только две морщины залегли в углах губ – резкие, глубокие, и щеки были бледны – ни кровинки.
– Федя, – она взглянула на него, не поднимаясь с лавки, – снизу вверх, и опустила голову в ладони. «Федя, милый мой, – Марфа глубоко, прерывисто вздохнула и заговорила.
Он уронил уже седеющую голову к ней на колени, и Марфа поцеловала его в лоб, – тихо, нежно. «Не прощу себе, – вдруг сказал Федор Савельевич. «Не прощу, что ты одна была, счастье мое. Все, – он поднялся, – более сего не случится. Пойду к Борису Федоровичу, повенчаемся, и ни в какой Углич ты не поедешь».
Марфа взяла его руку и прижалась к ней щекой. «Федя, – едва слышно сказала она, – не надо из-за меня тебе на плаху ложиться. Хоша ты и зодчий государев, а все равно – холоп монастырский, никто меня с тобой не повенчает.
– Если б то в Англии дело было, – она прервалась, и, сжав его руку прохладными пальцами, продолжила, – однако ж туда я теперь и не знаю, когда доберусь. А Годунов, коли ты хоша одно слово обо мне скажешь, – сразу жизни тебя лишит.
Федор Савельевич посмотрел на караул стрельцов, что охранял ворота усадьбы и жестко сказал: «А хоть бы и на плаху, ты мне, Марфа, не указывай, как мне жизнью своей распоряжаться».
Зеленые глаза вдруг заискрились молниями – так, что Федор даже отступил. Она, поморщившись, встала, и сказала злым шепотом:
– Твоя жизнь, Федор, тебе не принадлежит, а только лишь Господу Богу. Коли ты на плаху ляжешь, от сего держава наша беднее станет.
– Годунов что, – Марфа презрительно улыбнулась, – шваль худородная, временщик. А я, – женщина встряхнула головой, – Вельяминова, мои предки земле Русской со времен великого князя Ярослава Владимировича служат, и я о земле своей радею. И не позволю себе великого зодчего на смерть отправлять.
– Да что же я за мужик буду, коли за твой подол спрячусь! – так же зло ответил Федор Савельевич. «Поеду с тобой в Углич тогда, и все, пусть Годунов, что хочет со мной, то и делает».
– Федя, – она шагнула к нему и оказалась вся – в его руках. «Федя, любимый мой, не надо.
Тебе строить нужно, а не умирать. Пожалуйста, – Марфа взглянула на него невозможными, горькими глазами, и он опустил веки, – не в силах взглянуть на нее.
– Иди сюда, – он протянул руку и опустил засов на двери. «Хоть на одно мгновение последнее, Марфа, иди сюда. Дай мне тебя запомнить».
Женщина сбросила платок, и, распустив косы, – он даже не успел остановить ее, – встала на колени.
– Марфа, – только и успел сказать он, а потом уже не было ничего, кроме нее, и было это – счастьем великим.
Федор пристроил ее у себя на коленях, и целовал, – долго, чувствуя свой вкус у нее на губах.
Все еще обнимая его, Марфа сказала: «Хотела я тебя попросить…
– Все ради тебя сделаю, – Федор Савельевич вдохнул ее сладкий, кружащий голову запах, и, повторил: «Все, Марфа».
– Федора моего оставь при себе, – сказала Марфа, положив голову ему на плечо. «Годунов прекословить не будет, коли ты скажешь, что проследишь за ним».
Он кивнул, и тихо сказал: «Проводить-то тебя можно будет? Когда обоз ваш трогается?».
– В пятницу на рассвете, – ответила Марфа и застыла, прижавшись губами к его щеке.
Женщина поежилась, – хоша и лето было на дворе, но ночи стояли холодные, и посмотрела внутрь возка. Петенька спокойно спал, девчонки во что-то играли на полу – тихо.
– Так, – сказала Марфа сыну, – строго. «Ты сюда, на Воздвиженку, приходи раз в неделю – попарься, домашних харчей поешь, за дворней присмотри – не ровен час, разбалуется.
Ключнице я все сказала, где найти тебя, коли что. Если конь тебе нужен будет – отцовского жеребца бери, да следи потом, чтобы его почистили хорошо – лошадь кровная, дорогая.
Водки много не пей».
Парень покраснел – отчаянно и, замявшись, что-то пробурчал.
– Не будет, Марфа Федоровна, – усмехнулся Федор Савельевич. «Не зарабатывает он столько еще, а бесплатно поить его у нас никто не станет – дураков нет. Я за ним присмотрю, не беспокойтесь».
– И приезжай опосля Покрова, – велела Марфа, – хоша на ненадолго, семью повидаешь.
Федор кивнул и Марфа, вдруг вспомнив что-то, притянула его к себе, зашептав на ухо.
– Да зачем? – поднял он бровь.
– Сие на всякий случай, – коротко ответила мать, и, перекрестив сына, тихо сказала: «Ну, прощайте, Федор Савельевич, спасибо за то, что помогаете нам».
– Марфа Федоровна, – женщина увидела муку в серых, устремленных на нее глазах зодчего, и коротко велела вознице: «Трогай».
Лизавета высунула растрепанную голову из окошка и закричала: «Приезжай, Федя!».
Обоз медленно пополз вниз по Воздвиженке, к недавно построенному Никитскому монастырю.
– А оттуда, – вздохнул Федор, – на Устретенскую улицу, и там уже – на дорогу Троицкую.
Федор Савельевич посмотрел на нежный, розовеющий над Красной площадью восход, и сказал: «Вот что, тезка, у меня сегодня дела кое-какие есть, ты там присмотри, чтобы все в порядке было, к закату вернусь. Ты расчеты по толщине стен закончил?».