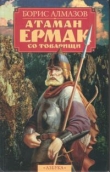Текст книги "Вельяминовы. Начало пути. Книга 2"
Автор книги: Нелли Шульман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Нелли Шульман
Вельяминовы. Начало пути
Книга вторая
Часть первая
Москва, лето 1583 года
– Ну, здравствуй, Ермак Тимофеевич! – царь чуть привстал с трона и тут же опустился, растирая колено. «Видишь, не молодеем мы, ты ж ровесник мой, вроде, тоже за пятьдесят тебе уже?»
– В прошлом году на шестой десяток перевалило, государь, – поклонился атаман.
«Постарел», – подумал Ермак, рассматривая государя. «Вон, седой уже весь почти». Он провел рукой по своим коротко стриженым, – перец с солью, – волосам, и, улыбнувшись, проговорил: «Однако ж я тебе и молодых привез, будет, кому Сибирь завоевывать. Вот, атаманы мои, – он повел рукой в сторону высоких, широкоплечих молодцев. «Кольцо, Иван, и Михайлов, Яков»
– По атаманам твоим петля плачет, как я слышал, – ехидно отозвался царь.
Ермак чуть покраснел, а молодцы опустили головы.
– Да ладно, – Иван Васильевич махнул рукой, и, опираясь на посох, спустился по ступеням вниз, к большому столу, где были разложены карты.
– Ну, показывай, – велел царь.
Ермак вгляделся и присвистнул. «Была бы у нас такая карта, как мы тем летом на Иртыше и Туре толкались, так меньше времени бы потеряли».
– Так я особо ее к твоему приезду и подготовил, – усмехнулся царь. «Теперь легче вам будет.
Что Кучум?».
Атаман вздохнул, сдерживаясь. «Той осенью, как мы в Кашлык вступили, бежал, собака, в Ишимские степи, теперь оттуда отряды посылает. Они ж конные все, государь, налетят, и убегут обратно – не догонишь их. А у меня в дружине народу не прибавляется, за Большой Камень мало по своей воле-то едет».
– Ну, как теперь ты здесь, – царь широким жестом показал за окно, – так бери, в Разбойном приказе много народу плахи ожидает, кто согласится с тобой отправится, тех прощу я».
– Займетесь, – приказал Ермак своим помощникам.
– А что с инородцами? – поинтересовался царь.
– Есть остяки, что начали ясак платить, – задумчиво ответил Ермак, – когда мы Кашлык захватили, то прислали людишек с рыбой и пушниной. Я с них шерть взял, то есть по-нашему, присягу, что вовремя будут ясак отдавать. Ну и подданные они теперь твои, государь, конечно».
– Однако ж это не все остяки? – внимательно взглянул на него Иван Васильевич.
Ермак помолчал, и, погладив короткую, с проседью, черную бороду, спокойно ответил: «Не все, а только лишь те, что рядом с Кашлыком живут – по Демьянке, она справа в Иртыш впадает, по Конде и Тавде – те слева».
– А остальные? – царь посмотрел на карту. «Окромя этих речушек, – ты уж прости, Ермак Тимофеевич, – тут еще вон, места сколько, и люди там, небось, живут».
– Вождь там у них есть, Тайбохтой, – зло сказал атаман, – он с Кучумом снюхался, народ подбивает на отряды мои нападать. У хана вон уже – остяцких лучников предостаточно, те народ меткий и страха не знают».
– А вы, видно, знаете! – внезапно, – собравшиеся вздрогнули, – заорал царь. «Я тебе еще во время оно говорил, Ермак Тимофеевич, как ты супротив крымского хана тут стоял, – нет пути назад! Вона, видишь, – царь указал за окно, – солнце восходит.
– Так, – он помолчал и тихо закончил, – вот только за ним и надо идти. На восток, пока вся Сибирь нашей не будет. И ежели, понадобится ее для этого кровью умыть – так умоем».
– Умываем уже, – раздался властный, негромкий голос Кольца. «Мы с Яковом, – он кивнул на товарища, – зимой остяцкие стойбища на севере разорили, всех вырезали – от стариков до младенцев, однако же, они, государь, от этого только сильнее становятся».
Иван Васильевич пристально оглядел атамана. «Ты ж вроде трусом не глядишь, Иван, ехидно сказал государь, – и Яков – тако же. Как на Волге гулять, али на море Хвалынском – все смелые, а как за Большим Камнем вы оказались – к своему Кашлыку жметесь, и сидите там, боитесь далее высунуться».
– Государь, – было, хотел сказать Ермак.
– А ты молчи, – зловеще отозвался царь. «Вона, на карту глянь, на Большом Камне золота с самоцветами достаточно, чтобы всю Москву оными вымостить. Брать их надо, промыслы надо закладывать, крепостцы ставить, жить в Сибири – как вы иначе ее воевать собираетесь?
Людей берите – оных у нас хватает, ручницы с пищалями везите, пушки, все, что положено.
Пока в Сибири русских городов не будет, не станет она нашей, поняли?»
– Вот тут, – сказал Ермак, наклоняясь к карте. «На Туре, на Тюменском волоке надо первый город возводить. Из Ишимских степей на Большой Камень и далее, – на Волгу, – другого нет пути. Ежели мы там сядем, то оттуда Сибирью править удобно будет».
– Ты завоюй сначала, а потом правь, – ядовито ответил царь, но – заметил с облегчением Ермак, – улыбнулся, говоря сие.
– Откуда карты-то такие хорошие, государь? – спросил Ермак, рассматривая аккуратные чертежи.
– Подарение мне, – рассмеялся Иван Васильевич. «Вельяминову помнишь, боярыню Марфу Федоровну?».
– Помню, – спокойно сказал Ермак. «Жива она, выходит».
– Жива боярыня, вдовеет, тут, на Воздвиженке обитает, с детьми. Муж преставился ее, тако же и брат, Матвей Федорович, приятель твой, – царь широко перекрестился.
– Упокой Господи его душу, – тихо сказал Ермак. «Вот уж истинно – бесстрашный человек был боярин Вельяминов».
– Бесстрашный, это да, – кисло сказал царь. «Это семейное у них, впрочем. Так вот, сии карты Марфа Федоровна с Большого Камня привезла, как была на оном, там же вы с ней познакомились?».
– Там – еще более спокойно ответил Ермак. «В Чердыни».
– Ну, вот и увидитесь сегодня, трапезовать она нас пригласила, к себе, как в былые времена.
Опять, – царь расхохотался, – мы у нее в пост обедаем. Впрочем, постное, али скоромное – у Вельяминовых хорошо готовят, не проголодаетесь. Ну, идите, там и встретимся».
Уже когда атаманы были у двери, царь вдруг, легко, будто дикий зверь, и не хромая вовсе, положил руку на плечо Кольцу.
– А ты останься, атаман, – велел Иван Васильевич. «Разговор у меня есть до тебя».
В раскрытые окна тронного зала вливался свежий, теплый весенний ветер, щебетали воробьи на кремлевском дворе, снизу был слышен детский смех. Царь выглянул в окно и увидел, что Митька, в окружении мамок, пытается ковылять по серому булыжнику.
Царица Марья Федоровна, улыбаясь, присела, раскинув руки, и Митька, пройдя два шага, с облегчением оказался в материнских объятьях.
«Господи, – вдруг подумал царь, – ну дай ты мне дожить до того времени, как он на коня сядет. Ну, виноват я пред тобой, знаю, но даровал, же ты мне сына – здорового и сильного, значит, простил меня?»
Иван Васильевич обернулся и посмотрел на мужчину, что стоял перед ним. Красивое, обветренное, жесткое лицо Кольца только чуть побледнело.
– Я тут поспрашивал в Разбойном-то приказе, Иван Иванович, – безучастно сказал царь, сцепив длинные пальцы, – много за тобой дел числится, а голова всего одна. Впрочем, сие не беда, палачи сначала ноги – руки отрубают, потом – сам знаешь что, а потом уж – голову.
Ну, или не отрубают, так оставляют – на колу сидеть, без ног, без рук – зато с головой. Ты как хочешь?
Кольцо молчал, только чуть дрогнул угол сухого, тонкого рта.
– Побаловался ты на Волге немало, прежде чем к Ермаку-то Тимофеевичу тебя занесло. Оно, конечно, и атаман твой не без греха, однако то дело прошлое, – задумчиво сказал царь. «А вот ты, Иван Иванович, в Сибирь можешь и не вернуться, Троицкая церковь тут рядом, до помоста, что рядом с ней поставят – ближе».
– Государь, – тихо сказал Кольцо.
– Однако же, – будто не слыша его, сказал Иван Васильевич, – есть путь сего избежать. Ты воеводой сибирским хочешь быть?
Кольцо сглотнул и ответил: «То честь великая, царь-батюшка, однако же, Ермак Тимофеевич…»
– Ермак Тимофеевич сегодня есть, а завтра нет его, – царь потрещал костяшками пальцев.
«Сам знаешь, война дело такое, опасное. К тому же, Иван Иванович, тяжело с людьми бесстрашными, хлопоты с ними одни. А ты, царь усмехнулся, – меня боишься, вижу я. Оно и правильно. Лет сколько тебе?»
– Сорок на Пасху было, – сглотнув, ответил Кольцо.
– Жениться не собираешься? – поинтересовался Иван.
Атаман улыбнулся. «Да разве у нас женятся? Добром никто за Большой Камень не поедет, да и негде там жен держать».
– На то и города будете строить, – ответил царь. «Опять же, ежели ты воеводой сибирским хочешь стать, так жена тебе нужна».
– Кто ж пойдет-то за меня? – осмелев, спросил Кольцо.
– Есть у меня одна боярышня на примете, – царь рассмеялся. «Московских хороших кровей, однако же, отец ее инородцем был, то ли татарин, то ли остяк. С такой женой все местные к тебе под крыло потянутся. Красивая боярышня, шестнадцать лет только исполнилось.
Однако честью ее за тебя не отдадут, сговорена она уже, осенью венчается вроде».
– А что ж делать? – спросил Кольцо.
Иван Васильевич расхохотался. «До сорока лет дожил, и не знаешь, что с девками делают?
Так что Иван Иванович, хочешь уходом, хочешь – еще как, но чтобы Федосья Петровна с тобой под венцом стояла, и с тобой в Сибирь уехала. А иначе – царь кивнул за окно, – как я тебе и обещал, до Троицкой церкви путь недолгий».
– А как увидеться-то с ней? – поинтересовался атаман.
– А вот сегодня и увидишься, на Воздвиженке, – Иван Васильевич похлопал его по плечу.
«Боярыни Вельяминовой дочка это старшая. Увидишься, а дальше уж сам, Иван Иванович.
Сможешь? – царь вопросительно наклонил голову.
– Смогу, государь, – усмехнулся Кольцо.
– Федосья, а ну проверь, каша-то поспела? – распорядилась боярыня Воронцова-Вельяминова. На поварне городской усадьбы было шумно, девки стучали ножами, ключница укладывала на огромном блюде вареных осетров. Дверь была распахнута, и со двора доносился смех играющих в салки младших девочек.
– Лизавета! – высунув голову в дверь, велела Марфа. «Пойди с двойняшками в палату крестовую, посмотрите, хорошо ли прибрано там, да и столы уже накрывайте, царь вскорости приедет. И где Федор, обещался еще к обедне быть?».
– Да тут я, матушка, – сын шагнул на поварню и тут же утащил кусок рыбы.
– Хоша бы руки помыл, – вздохнула Марфа, – со стройки только что. Проголодался? – она ласково, потянувшись, поцеловала Федю в лоб. «Что вам там дают, за трапезой-то?».
– Да сейчас, в пост, – щи черные с утра и тюрю с луком, – усмехнулся сын, и – не успела Марфа оглянуться– схватил еще кусок. «Ну и опосля вечерни – хлеб с квасом».
– На таких харчах – и в кого ты рослый такой? – Марфа потрепала сына по голове. «Как ты к Федору Савельевичу в ученики пошел – так взрослым мужиком уже глядишь».
Федор потянулся, – так, что затрещала грязная, пропотевшая рубаха, и томно сказал: «Я бы, раз уж я дома сегодня ночую, так в мыльню бы сходил, матушка. А то у нас оной не заведено, в Яузе купаемся, да и то не кажный день».
– Да уж чую, – мать повела носом. «Велю истопить, конечно, попаришься всласть. А сейчас хоша из колодца ополоснись, да одежу поменяй, готово тебе все, пошили».
Она увидела, как Федя жадно смотрит на рыбу, и сунула ему еще кусок. «И все, – ворчливо сказала мать, – до трапезы более ничего не получишь».
Федор ухмыльнулся, и, прожевав, уже выходя из поварни, ущипнул Федосью, что наклонилась над горшком с кашей.
Та разогнулась и мгновенно треснула брата деревянной ложкой по лбу.
– Вот те крест, Федосеюшка, – Федор поднял вверх руки, – то не я был, помстилось тебе.
– Иди уже, – рассмеялась сестра, и обернулась к Марфе: «Хороша каша, матушка, как надо».
– Лещей давайте, – приказала Марфа. «А ты, Федосья, глянь, там грибы тоже уже готовы, снимать их надо, а то переспеют».
– Так, – Лизавета стояла, уперев руки в бока, на пороге крестовой палаты. «Скатерти-то несите».
Марья с Прасковьей побежали в кладовую, и, повозившись там, стали, стоя на лавках, накрывать столы. «Осторожней, осторожней, – велела Лиза, – углы-то расправляйте, и чтобы не морщило. Сейчас у матушки ключи от поставцов попрошу, посуду будем ставить».
Девочка ушла на поварню, а Марья показала ей вслед язык. Прасковья сморщила нос и сказала: «Ничего, Петенька вырастет, мы над ним командовать будем».
– Он мальчик, – вздохнула Марья, наматывая на палец кончик толстой белокурой косы.
«Мальчикам все можно, вон, Федя – даже и дома не ночует».
– Когда я вырасту, – кисло сказала Прасковья, поправляя венец алого шелка, что украшал ее темные кудри, – я буду как мальчик. Буду стрелять и на коне ездить.
Марья задумалась, и, дрогнув ресницами, рассмеялась: «А я буду как девочка. Только замуж не пойду».
– Нельзя не замуж, – озабоченно сказала сестра. «Так положено».
– А мало ли, что положено! – отмахнулась Марья.
– Положено, – Лиза возвышалась над ними со связкой ключей в руках, – не языком сидеть трепать, а работать. Царь приедет скоро.
– Да мы его и не увидим вовсе, так, выведут нас, покажут и обратно наверх отправят, – ехидно заметила Марья, вынося в крестовую палату тяжелые серебряные кубки.
– Федя-то, небось, будет за столом сидеть, – поддержала ее Параша. «А мы, как всегда – в боковой горнице».
– Федя мальчик, ему можно, – ответила Лизавета.
Параша закатила вверх скошенные глаза и высунула язык в спину старшей сестры.
Марфа оглядела старшую дочь, и велела: «Кокошник-то новый надень, в этом царь тебя видел уже, как мы в Кремль ездили».
Женщина посмотрела на сосущего грудь ребенка, и, вздохнув, поцеловала его в смуглую щечку: «Ну вот, Петенька, следующим годом уже и в Англию отправимся. Знаешь, как на море хорошо – легко, свободно, ты уже большой будешь, понравится тебе на корабле».
– Маменька, – Федосья, укладывая темные косы, вдруг жарко, мгновенно покраснела, – а если мне что надо спросить будет, вы ж тут останетесь…
– У миссис Стэнли же можно спросить, – мать улыбнулась, положив сына в колыбель. Он поднял ручки вверх и, засмеялся. «Глаза-то у тебя, какие, Петенька, – вдруг вздохнула Марфа, – смотрю на тебя и батюшку твоего покойного вижу».
– Ну, – Федосья смутилась, – она ж чужой человек. Стесняюсь я, и еще, – она опустила голову, – вдруг не угожу я чем, не понравится, ему…
Мать наклонилась над Федосьей и обняла ее. «Да чем ты можешь не угодить – что на брачном ложе быть может, так ты все знаешь, я тебе еще тем годом рассказала, как крови у тебя пошли, да и муж твой – не юноша, человек взрослый, понимающий. Все хорошо будет».
Федосья вдруг стала перебирать – один, за одним, – нежные, сильные пальцы матери. «А у тебя как с батюшкой покойным, было? – спросила она, не поднимая глаз.
– Мы друг друга более жизни любили, – вздохнула Марфа, – коли так любишь, так Господь тебе только лишь добро дает, ничего иного. Не было времени, чтобы я с отцом твоим несчастлива была, и, как мы с ним опосля разлуки повстречались, то я думала, что так и проживем вместе, до конца дней наших. А видишь, как получилось, – Марфа чуть вздохнула.
– Ты же можешь еще раз замуж выйти, – сказала дочь, надевая кокошник.
– У меня, дорогая, окромя тебя, еще пятеро детей на руках, – ехидно сказала Марфа, поднимаясь, – немного на такое богатство охотников-то найдется.
Мне вас всех сейчас надо на ноги поставить, и в люди вывести, – вона, – она кивнула на колыбель, где мирно спал Петенька, – ему отец дело оставил, так пока он в года не войдет, я конторой управлять буду, по доверенности. То тоже дело нелегкое.
Ладно, ты, как ожерелья-то наденешь, вниз спускайся, вместе с тобой и Федором гостей встречать будем.
Мать поднялась и вышла, а Федосья, обвивая вкруг высокой шеи изумрудное ожерелье, вдруг приостановилась, и вздохнула: «Господи, хоша бы увидеть его скорее!»
Она нашла в шкатулке последнее, еще зимой полученное письмо жениха и перечитала:
«Повенчаемся мы с тобой в городе, у Святой Елены, а потом еще дома наш брак благословят, как это и положено.
Ты Тео, должна помнить слова апостола Павла: «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию».
Поэтому ты должна будешь проводить свое время не за суетными делами, а за работой по дому и заботами о детях, если будет на то воля Господа, и они у нас родятся.
Поскольку сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви», – то ты должна мне повиноваться беспрекословно, во всем, иначе брак наш не получит благословения свыше.
Жду встречи с тобой, любящий тебя Стивен.
– Я буду, – внезапно, тихо, прошептала Феодосия. «Буду повиноваться, правда».
– Ты что сидишь, – Федор, в новом кафтане синего бархата, – просунул голову в дверь. «Гости уже на дворе!»
Она, – Ермак посмотрел на нее искоса, – и не изменилась вовсе. Черный опашень делал ее хрупкую фигуру еще стройнее, на щеках, – таких же белых, – виднелись едва заметные веснушки, и пахло от нее так, как раньше, – цветами в летнем солнце.
Смуглая, высокая боярышня, – которую он младенцем держал на коленях, – поднесла им на серебряном блюде свежевыпеченный, мягкий каравай, и сказала нежным голосом:
«Спасибо, что от нашего хлеба-соли отведали».
– Все хорошеешь, Федосья Петровна, – царь отломил кусок хлеба и сказал, повернувшись к Ермаку: «А сие сын Марфы Федоровны, Федор Петрович Воронцов-Вельяминов».
Крепкий, словно медведь, рыжий парень – ростом с взрослого мужика, – независимо подал руку и сказал: «Добро пожаловать на Москву, атаманы».
Кольцо тоже отломил от каравая, и взглянул Федосье Петровне прямо в глаза. Очи были раскосые, зеленые, мерцающие, как у кошки. Боярышня вспыхнула, и, опустив взгляд, промолвила: «Просим вас за стол».
– А говорили, Марфа Федоровна, – усмешливо сказал Ермак, по-хозяйски устраиваясь на лавке, – что ты чадами богата. Где ж оные, только двоих и видим?
Марфа, глядя на него, спокойно сказала: «Еще три дочки младшие у меня – Лизавета, Прасковья и Марья, и сын грудной, Петенька, как раз до Великого Поста родился, как отец его преставился, упокой Господи его душу, – Марфа перекрестилась. Так что шестеро у меня, атаман, – красивые, изящно вырезанные губы чуть изогнулись в улыбке.
– Вот оно как, – сказал Ермак, и принял от Федора кубок с вином.
– Ты-то как, Федор Петрович, вино пьешь? – поинтересовался царь.
– Пью, государь, – мальчик поклонился. «Спасибо вам».
Марфа вздернула бронзовую бровь, но промолчала. Принесли первую перемену – янтарную, жирную уху и пироги с визигой и рыбой.
– Хороша у тебя уха, Марфа Федоровна, – похвалил царь, пробуя. «Ну, впрочем, у тебя всегда вкусно кормят – хоша бы каждый день у тебя обедал».
– То дочь моя старшая готовила, – улыбнулась Марфа. «Не побрезгуйте, молода она еще, только учится хозяйствовать-то».
– Как по мне, – сказал Кольцо, и потянулся за хлебом, – так я лучше и не пробовал.
– А ведь Иван Иванович у нас с Волги, – заметил царь, – они-то знают, как уху варить.
– Спасибо, – зардевшись, прошептала боярышня, и, поклонившись, передала атаману ломоть каравая.
Синие глаза Кольца чуть усмехнулись, и он, взяв хлеб ее из ее рук, чуть коснулся пальцем смуглой, красивой ладони. Федосью Петровну в краску бросило.
«При матери, конечно, тут ничего не сделаешь, – холодно подумал атаман, бросив взгляд на невозмутимое лицо Марфы. «Сразу видно – тут целку, ровно алмаз, какой берегут, оно и понятно – боярская дочь.
И золото тут не поможет – вона, боярышня оным с ног до головы обвешана. Нет, тут по-другому надо, тут грамотцу надо послать, распалить ее, кровь-то молодая, горячая. И осторожней надо – а то вона брат у нее, хоша и подросток, а кулаки у него пудовые».
– Был у меня учитель твой, Федор Савельевич, – сказал царь Феде, – хвалил тебя очень, говорил, что еще лет пять – и сам уже строить начнешь. Ну, под его присмотром, конечно, но уже не на побегушках будешь. Способный у тебя сын, Марфа Федоровна.
– Благодарю, государь, – улыбнулась та, чуть пожав руку сына.
– Ну, – государь поднял кубок, – за Сибирь, чтобы нашей она была, в скором времени!
– Аминь, – отозвалась Марфа, и, вдруг, улыбнувшись, сказала: «А вы что, Ермак Федорович, не едите ничего? Али невкусно вам?».
– Коли не из ваших рук, боярыня – дак и невкусно, – дерзко, глядя прямо на Марфу, сказал тот.
Марфа махнула рукой, и, когда перед ней поставили блюдо с осетрами, отрезав добрый кусок, положив его на ломоть хлеба, спросила: «Вот так, Ермак Тимофеевич?».
– Именно, – ответил тот, принимая еду из ее маленьких, заботливых рук.
Он посмотрел в ее изумрудные глаза, обрамленные темными ресницами, с еле заметными, тонкими, уходящими к вискам, морщинками, и вспомнил как, лежа растрепанной головой у него на плече, Марфа вдруг сказала: «Господи, и что ж мне хорошо-то так с тобой, атаман?».
– А это потому, – он взял в большую ладонь ее грудь, – высокую, с розовым соском, – что ты как для меня сделана, знаешь же».
Он тогда наклонил голову и стал целовать эту грудь, – медленно, долго, – пока она не шепнула ему лукаво на ухо, устраиваясь под ним: «А вот сейчас опять это проверишь, Ермак Тимофеевич».
«Вот и повенчаемся», – он внезапно улыбнулся своим мыслям. «Хватит, молодые пусть далее на восток идут. Поставим крепостцу, там, где я говорил, будем жить. Ей же за тридцать немного, она еще пятерых может родить. Вот пусть и рожает. С такой женой никакая Сибирь не страшна».
– Что улыбаешься, атаман? – донесся до него голос царя.
– Да уж больно хорошо тут, у Марфы Федоровны, – ответил Ермак. «Правда, Иван Иванович?».
– Правда, – подтвердил Кольцо, глядя на Федосью. Та зарделась и опустила зеленые глаза.
– Ты вот, что мил человек, – сказал Кольцо, устраиваясь за грубым деревянным столом, – ты писать умеешь?
Дьяк ухмыльнулся, почесывая ухо пером. «Сидел бы я тут, ежели писать не умел! Тебе прошение, али жалобу, какую? Если надо, я и разными почерками могу».
– Разными почерками не требуется, – атаман разлил водку по стаканам. «А вот, скажем, девке грамотцу можешь составить? Ну, чтобы как прочла она, так и повстречаться со мной захотела».
– Да с тобой и без грамотцы любая встречаться побежит, – рассмеялся дьяк, глядя на красивое лицо атамана. Тот поиграл золотым перстнем на пальце и ответил: «Тут дело особое»
– А, – дьяк призадумался, – не по себе дерево клонишь, уходом девку сманить хочешь?
– Уходом, али не уходом, – ответил атаман, – однако же, тут ловко писать надо, со значением.
Обделаешь?
– Обделаю, – дьяк окунул перо в чернильницу, что висела у него на шее. «Зовут-то как кралю твою?».
– Феодосия, – Кольцо выпил и занюхал корочкой хлеба. «Ты тоже пей», – подвинул он дьяку кружку.
– Э, нет! – тот поднял испачканный в чернилах палец. «Сначала – дело, а уж потом мы с тобой цельную четверть разопьем. К тому же, не одну ж грамотцу ты ей слать собираешься?»
– А это уж как дело пойдет, – задумчиво сказал атаман. «Может, и одной обойдется, ежели напишешь как надо».
– Глаза, у девицы какого цвета? – деловито спросил дьяк.
– Зеленого, – Кольцо налил себе еще. «Хороша на Москве водка-то», – он сладко потянулся и вдруг подумал, что и вправду – пора уже своим домом обзаводиться. «Погулял я немало, да и гулять буду еще, а жена нужна. Тем более, ежели и вправду – воеводой поставят. Да и если честью ее брать, – а так и надо, – то приданое немалое дадут, вона, усадьба у них какая богатая».
В кабаке было людно, сзади кто-то начал орать песню и Кольцо, поморщившись, крикнул: «А ну тише!»
– А ты кто такой? – пьяно спросили из-за соседнего стола. «Лезет на Москву шваль всякая, и еще нам тут указывать будет!»
Атаман спокойно встал, и, положив руку на саблю, сказал: «Я тебе, сука, не шваль, а Иван Кольцо, атаман дружины строгановской».
– Ну и сидел бы у себя в глуши, что сюда приперся! – мужик рыгнул и засмеялся.
Кольцо холодно посмотрел на него, и, размахнувшись, ударив об стол пустой бутылкой, сунул ее прямо в лицо мужику.
Тот, заорав, схватился за глаз, медленно стекающий на щеку. Из-под его пальцев полилась кровь, капая на хлеб и соленые огурцы, что валялись на столе.
Кольцо отбросил бутылку и сказал: «Много чести для вас – в кабаке саблю вытаскивать».
– Я тут написал, – дрожащим голосом сказал дьяк.
– Читай, – велел атаман. «И водки еще принесите, – велел он.
– Так что же, Марфа Федоровна, отказываешь ты мне? – жесткое лицо Ермака вдруг дрогнуло – самую чуточку. «Думал я, что все же люб я тебе, хоша, конечно, и ненамного, – он вдруг горько рассмеялся.
Женщина сидела в высоком кресле, кормя дитя, и Ермак внезапно вспомнил то утро в Чердыни, когда он, проснувшись, увидел ее в одной приспущенной с плеча рубашке. Он сжал кулаки и тихо проговорил: «Я-то тебя более самой жизни люблю, знаешь ты это».
– Знаю, – Марфа нежно поцеловала Петеньку и подняла зеленые, прозрачные глаза. «Знаю, атаман. Посему и не буду венчаться с тобой. Оба любить должны, как у меня с Петром Михайловичем было».
– Смелый человек был мой сотник, – вздохнул атаман. «Если б знал он про нас с тобой…».
– Знал, – мягко сказала Марфа. «Как мы с ним повстречались опосля разлуки, так я все ему рассказала, без утайки».
Ермак присвистнул. «Да, верно государь говорил – бесстрашные вы, Вельяминовы, в крови у вас это. И Петр Михайлович тоже – не всякий мужик с бабой-то опосля такого жить будет».
– Не всякий, – согласилась Марфа. «Но если б иначе было – я бы с ним первая жить не стала».
– Не хочу я тебя брать без венчания, – атаман прошелся по горнице. «Невместно это, не девка ты кабацкая».
– Однако ж раньше брал, – лукаво заметила Марфа.
– Раньше, Марфа Федоровна, – тихо, чтобы не разбудить заснувшего Петеньку, сказал атаман, – думал я, что повенчаешься ты со мной, так или иначе. Думаешь, – он сглотнул, – мне легко смотреть, как ты во второй уж раз передо мной дитя кормишь, и не мое оно!
Он отвернулся и посмотрел на девочек, что играли во дворе усадьбы. «А я ведь тебе тогда сказал, и сейчас повторяю, Марфа, – нежно проговорил атаман, – твои дети – то мои дети, но ведь своих-то мне тоже хочется, шестой десяток уже, не шутка».
– Не со мной, – Марфа ласково укачивала Петеньку. «Я здесь жить не буду, Ермак Тимофеевич, даже вон и муж мой – в Англии похоронен, следующим летом уеду я. Там дело, кое Петр Михайлович всю жизнь свою строил, Петеньке оно завещано, и бросать оное не буду я, хоша бы мне что посулили».
– Жестко с тобой спать-то, Марфа Федоровна, – вздохнул атаман. «Как ты постель стелешь да туда ложишься – вроде сахарная вся и сладкая, рукой тебя коснешься – так ровно огонь у тебя сама знаешь где, а на поверку – из камня ты сделана, и сердце у тебя железное».
– Нет, Ермак Тимофеевич, – проговорила женщина, – оно у меня – как у всех, – и болит, и мучается. Однако ж родители меня учили, что долг и честь в жизни – всего выше, а мой долг сейчас, – перед детьми моими».
Он внезапно опустился на колени, и потянулся к Марфе. Та положила руку на его седоватые волосы и шепнула: «Уж перегорело все, атаман. Как молода я была – так пылало, сам помнишь, должно быть, а сейчас – уголья одни остались, и никому их не разжечь более.
Даже тебе», – Марфа поцеловала его в лоб.
– Ну, как знаешь, – он помолчал, – однако ж если надо тебе что – так я для тебя и семьи твоей все сделаю, Марфа, что в силах моих.
Женщина подняла его руку и прижалась к ней мягкой, гладкой щекой. «Тако же и я атаман, тако же и я», – шепнула она.
Поднявшись, все еще держа на руках Петеньку, Марфа посмотрела, как Ермак садится на вороного жеребца и медленно проговорила: «Не могла я иначе, грех это – человека-то обманывать».
– Молодец, – Кольцо потрепал дьяка по плечу. «Теперь перепиши начисто, и скажи мне – найдется у тебя оголец какой сию грамотцу передать? В тайности, понятное дело».
– За золото – чего ж не найтись? – ухмыльнулся дьяк.
– Водку пьете? – раздался сзади голос Ермака. Кольцо мигнул дьяку и тот исчез – мгновенно, будто и не было его.
– Налей мне, – велел атаман, садясь.
Ермак выпил, не закусывая, и тут же потянулся за бутылкой. «Скажи-ка мне, Иван Иванович, – жестко усмехнулся Ермак, – ты блядей на Москве пробовал уже?»
– Да когда? – удивился Кольцо. «То с дружиной, то с царем, то по острогам народ собираю».
– Ну, пойдем тогда, попробуем, – Ермак выпил второй стакан и оценивающе посмотрел на водку. «Только, пожалуй, сначала еще закажем».
– Случилось что? – озабоченно спросил Кольцо, махнув рукой целовальнику.
– А? – переспросил Ермак. «Нет, ничего не случилось. Весел я сегодня, Иван, вот и все».
Карие глаза Ермака чуть увлажнились, он разлил принесенную водку и повторил: «Весело мне, атаман, как никогда в жизни еще не было».
Федосья быстро, оглядываясь по сторонам, взбежала в свою горницу и закрыла дверь на засов. Сердце колотилось так, что, казалось девушке, звук этот слышен всем вокруг.
Грамотца была спрятана в шелковом рукаве летника, и жгла Федосье запястье – огнем.
Она прислонилась к двери и внимательно прочитала записку. «А почерк красивый, – вдруг подумала она. Девушка зажала грамотцу в руке и прижала ладони к пылающим щекам, вдруг вспомнив те стихи, что она читала еще маленькой девочкой.
«Твои глаза, – как сияние луны, – прошептала она, вдруг поняв, что еще никто и никогда не посылал ей таких писем. «Матушке, как она молода была, сэр Филип сонеты посвящал, – вспомнила Федосья. «И картины с нее рисовали».
«А мне сэр Стивен никогда такого не пишет, – горько подумала она и тут же одернула себя:
«Да как ты смеешь! Разве ж, на войне будучи, есть время ему до тебя? Вот повенчаемся, будем жить вместе, он мне все это и скажет. Наверное, – подумала Федосья, и вздохнула.
– Федосья! – постучала в дверь младшая сестра. «Там рыбу привезли, принять надо, пойдем».
Девушка оглянулась и сунула грамотцу в шкатулку – промеж писем жениха. «А если матушка увидит? – спросила она себя, спускаясь во двор. «Да как? Ежели меня нет, так она и в горницы мои не заходит, она всегда говорит, что невместно сие. И стучится, коли дверь, закрыта.
Может, показать ей грамотцу? Да зачем, кормит она, еще, не приведи Господь, волноваться зачнет, с молоком что случится. Нет, просто встречусь с ним, как я и отписала, скажу ему, что сговорена я, да и все. Хороший человек, нельзя ж его просто так отталкивать, слова не посылая в ответ».
– Федосья! – Лиза дернула ее за рукав. «Ты чего в небо уставилась – на нем рыбы-то нет, она тут вся». Девчонка развернула бумагу и, приготовив перо, важно кивнула возчикам: «Ну, показывайте».
Кольцо развернул принесенный огольцом ответ боярышни и хмыкнул: «Хорошо, что читать-то я умею, как раз сие сейчас и пригодится. А то невместно было бы кого еще в это дело вмешивать».
Он прочел записку и задумался, потирая темную бороду: «В подмосковной ихней, значит. Ну что ж, оно и удобней, конечно. Тут где с боярышней встречаться? На улицу ее одну не выпускают, даже в церковь, небось, и то с матерью ходит, а забор у них на усадьбе – в три роста человеческих, и вона – как мы заехали, так кобели меделянские с цепей рвались, нас облаивая. И охрана вся с ручницами и саблями. Не хочется-то головы лишаться, боярышни не попробовав. Ну, вот и попробую. А потом уже никуда не денется – надо будет венцом это дело покрыть. Правильно сказал государь – Ермак Тимофеевич не вечный. Будет моим сибирское воеводство, будет. А потом и в бояре можно будет выйти, царь своими милостями не оставит».